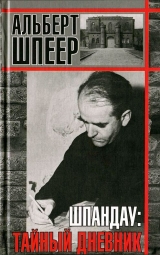
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
Я часто слышал от Гитлера, что только великие личности определяют ход истории. И он тысячи раз повторял нам, что он со своими якобы железными нервами незаменим.
Еще до войны он использовал этот аргумент в качестве оправдания необходимости начать военную кампанию при его жизни. Но я всегда думал, что его колоссальная энергия направлена на благо немецкого народа; и ведь он повторял, снова и снова, что предпочел бы слушать музыку, строить и сидеть на вершине своей горы. Теперь все эти маски эстета и человека из народа спали. На первый план вышли ледяной холод и человеконенавистничество. Он ловко манипулировал нами, и теперь эти его качества вызывают во мне физическое отвращение.
– Мой дорогой Шпеер, – в заключение говорит он, пытаясь вернуть нашу былую близость, – пусть разрушения вас не смущают. И не обращайте внимания на нытиков.
Этот разговор мы вели наедине, но каждый из нас слышал подобные высказывания от Гитлера – в том числе Функ, в том числе Ширах, в том числе Дёниц. Однако Гитлер в подобном настроении духа, как бы они ни критиковали его в других отношениях, по-прежнему производит на них впечатление. Они видят боевой дух в том, что на деле было всего лишь бездушием перед лицом полного уничтожения. Во всяком случае, в этом смысле он для них все еще Фридрих Великий. Для меня он всего лишь Аттила.
10 июля 1952 года. «Соборы Франции» Родена. Читаю, не понимая смысла. Мыслями в доме родителей. Подавлен.
23 июля 1952 года. Донахью невозмутимо вручил каждому из нас плитку шоколада и бутылку пива. Гесс, как всегда, отказался, заявив, что это незаконно. Я торопливо выпил первую за семь лет бутылку пива, но спрятал шоколад в носок, чтобы вечером съесть в спокойной обстановке.
24 июля 1952 года. Хильда плывет по Атлантическому океану. В последний момент ее и еще нескольких студентов пересадили с грузового корабля на трансатлантический пассажирский лайнер «Юнайтед Стейтс». Начальник охраны Фелнер говорит, что Макклой, который завершил свою деятельность в качестве верховного комиссара в Германии, возвращается на том же корабле.
Разговор с Бресаром об успехах моей жены в воспитании детей. Глубокое чувство благодарности. Думаю о каком-нибудь символическом жесте. Вероятно, я смогу ненавязчиво выразить свои чувства, если подарю ей – в день освобождения – такие же часы, которые когда-то купил ей на деньги, отложенные из студенческой стипендии. Те часы пропали после войны.
30 августа 1952 года. Донахью принес «Нюрнбергский дневник» Гилберта, тюремного психолога в Нюрнберге. Должен признать, он воспроизводит атмосферу с удивительной объективностью. Его суждения в целом точны и справедливы; я бы вряд ли написал по-другому. Тем не менее, любопытно видеть самые тяжелые моменты своей жизни в столь беспристрастном изложении. Необычное ощущение: читать о себе, как будто ты давно умер.
В это же время моя секретарша прислала мне книгу Дональда Робинсона «Сто самых влиятельных людей в мире на сегодняшний день». С 1943-го по 1945-й Робинсон был главным историком в штабе Эйзенхауэра, и я есть в его списке. Естественно, мне приятно, что меня считают влиятельным человеком. Но предсказание Робинсона, что скоро мир снова обо мне услышит, вызывает у меня сомнения. Он думает, что меня выпустят через пять лет. Мне будет пятьдесят два. Вторая карьера?
3 сентября 1952 года. Поздно вечером пришел первый отчет от Хильды. Ее приняла к себе на год состоятельная семья американских квакеров, которые живут в Гастингсе-на-Гудзоне. У них дети одного с ней возраста, с которыми она хорошо ладит. Когда Хильда прибыла в Бостон, семья встретила ее на прогулочном катере, и они отправились в Нью-Йорк водным путем. Неловкость первых дней быстро развеялась благодаря жизни на корабле в тесной близости.
7 сентября 1952 года. Вернувшись после работы в саду, Увидел, как русский охранник Гурьев выходит из моей камеры. Он воспользовался ежедневным досмотром и свалил в кучу постельное белье, одежду и все мои вещи. На столе в беспорядке лежали бумаги и чертежные материалы. У меня сдали нервы, и я отказался войти в камеру, хотя повар с едой уже стоял за железной дверью нашего тюремного корпуса; ему запрещено входить, пока не запрут все камеры. Летхэм пытался меня успокоить, призывая вести себя разумно, а Гурьев с интересом наблюдал за моей вспышкой. Через несколько минут я сдался и в изнеможении лег на голую кровать. За едой я не пошел.
10 сентября 1952 года. В моей камере снова хаос. Еще хуже, чем три дня назад. Интересно, что Гурьев имеет против меня? По моему требованию пришел дежурный британский директор Лекорну. Он явно не одобряет подобные действия. Новый охранник Эбурн тоже качает головой. Гесс, напротив, ведет себя грубо, вероятно, из-за того, что я рассказал ему о книге Дональда Робинсона. Пытаюсь его успокоить, но он становится еще более злобным и враждебным.
19 сентября 1952 года. Одиннадцать дней назад я подал заявление с просьбой разрешить свидание с женой в октябре. Когда я спрашиваю, почему мне до сих пор ничего не ответили, Лекорну признается, что русские поставили условие: разрешение в обмен на мое первое наказание. «Плевать. Мне нужно свидание с женой». Вечером Лекорну одновременно сообщает мне о том, что свидание разрешили, и о том, что мне назначили наказание «за опоздание в камеру». По его словам, русский директор также подал рапорт, что в американскую смену я пропал на несколько часов – это неправда.
На моей двери вывесили официальное извещение: «По приказу дирекции от 19 сентября 1952 года, заключенному № 5 назначается следующее наказание: а) Запрещается выходить в сад в течение одной недели, б) В течение одной недели после подъема и до 17:30 он будет заперт в специальной камере, где есть только стол и стул, в) В течение одной недели ему не разрешается брать книги и письменные принадлежности в период между подъемом и 17:30. Наказание начинается 20 сентября 1952 г. (вкл.) и заканчивается 26 сентября 1952 г. (вкл.). Подпись: Лекорну, подполковник».
22 сентября 1952 года. Расплачиваясь за свидание с женой, так сказать, я теперь каждый день одиннадцать часов сижу в камере, где есть только стол и стул. Карандаш, спрятанный за батареей, пока не нашли, и туалетная бумага имеется в неограниченном количестве. Так что мне есть чем заняться. Сегодня – третий из этих семи дней. Но добрый английский доктор по моей просьбе тайком выписал мне три таблетки «Теоминала». Этот препарат попросту не дает наказанию действовать на психику. К всеобщему удивлению, я свеж и бодр, как в первый день, хотя Гесс во время такого же наказания на четвертый день корчился на полу.
Террей открывает дверь и шепчет: «Я выпущу вас ненадолго. Идите, постирайте белье». Я с улыбкой прошу его прочитать уведомление на двери. Мне не нужны поблажки к несправедливому наказанию.
24 сентября 1952 года. Пятый день. Нейрат и Гесс открыто проявляют сочувствие, Дёниц осторожно выражает озабоченность; Функ, Ширах и Редер меня избегают. Они предсказали охранникам, что сегодня я сломаюсь. Очевидно, их раздражает мое спокойствие. С нами творится что-то странное. Тесное соседство – благодатная почва для враждебности!
Только что к моей камере подошел Функ.
– Функ, какие будут прогнозы? – спрашиваю я через дверь.
– Вы, как всегда, ведете себя неправильно. Для моих отчетов нужны драматические события. Вы должны кричать, стонать, падать в обморок. А вы смеетесь и рассказываете анекдоты!
В эту минуту Нейрат наносит мне визит у двери в камеру и говорит, что с 1935 года по предписанию врачей ежедневно принимал две-три таблетки «Теоминала» из-за болей в сердце. Он рекомендует мне это лекарство, потому что оно также действует как успокоительное. Физическое недомогание Нейрата в то время, несомненно, было следствием внешней политики Гитлера, ведь министр иностранных дел был одним из тех, кто пытался укротить Гитлера. Но в то же время эти таблетки привели Нейрата в Шпандау – они избавили его от сердечных болей, но устранили душевные терзания.
26 сентября 1952 года. Последний день наказания. Небольшая сова устроилась на дереве совсем рядом с моим окном и спит. В прилегающей умывальной комнате санитар бреет Дёница. «Не нажимайте так сильно, пожалуйста. Я же не носорог». Пауза. «Нет, нет, охотиться на льва совсем не просто. А еще я охотился на антилопу и бушбока». Пауза. «Итак, сколько я вам должен?» Его место занимает Ширах. «Слухи о послаблении условий заключения? Надеюсь, они не увеличат количество писем и свиданий. Потому что тогда у нас не будет поводов для жалоб. Что еще новенького?» – спрашивает он Миза.
Функ шныряет по коридору. Храпит французский охранник. Я слышу, как вдалеке кто-то открывает дверь. Функу: «Скорей разбудите мсье Корниоля». Предупредить спящего охранника – всего лишь общепринятые правила хорошего тона. Что еще им делать, как не спать? Оказалось, ложная тревога. Корниоль открывает мою дверь. «Хотите прогуляться по коридору? Если кто-то появится, сразу же возвращайтесь в камеру». Шагая рядом, он, чтобы развлечь меня, рассказывает, что майор Бресар часто пытается застукать спящих на посту охранников между тремя и пятью часами утра. Последние пятьдесят метров он бежит – что при его невысоком росте и выпирающем животе, должно быть, выглядит забавно. Но он всегда застает охранников бодрствующими. Как только его толстая фигура появляется у ворот, дежурный, даже если это русский, всех предупреждает по телефону.
Пять часов, время ужина. Через полчаса мое наказание закончится. В последний раз ем в специальной камере.
27 сентября 1952 года. Какое-то время назад охранник Лонг попросил меня составить маршрут для похода по Шварцвальду. Теперь он вернулся и делится со мной впечатлениями. В его рассказе звучат названия, полные приятных воспоминаний: Хундзек, Титизее, Холленталь, Констанц. Я спрашиваю о старой базарной площади в Фройденштадте. «Лягушатники – ну, знаете, мы так называем французов – сожгли Фройденштадт дотла, когда вошли в город. Но теперь все восстановили, стало еще лучше».
Год седьмой
Ужесточение условий заключения – Новейшие разработки авиационной технологии – Моя последняя встреча с Гитлером – Прогулка в снегу – Публикация писем Гесса – У Нейрата находят шоколад – Планы спасения – Дёниц считает себя главой государства – Серия статей о Фленсбургском правительстве – Я начинаю писать мемуары – Кресло из рейхсканцелярии – Коньяк в камере Функа – У Нейрата сердечный приступ
3 октября 1952 года. В саду сообщаю последние новости, которые узнал от Лонга: в Советском Союзе начинает работу съезд партии. Разоблачили тайные связи между русскими и французской администрацией в Берлине. Гесс тоже хочет быть в курсе последних событий, но за его спиной неожиданно появляется Гурьев, которого Гесс не видит. Я быстро говорю:
– Герр Гесс, подержите, пожалуйста, доску.
Потеряв дар речи от этой возмутительной просьбы, он молча отходит в сторону и садится на скамейку. Потом я ему объясняю:
– Только так я мог вас предупредить.
– Но просьба была очень странная, – сухо отвечает Гесс.
5 октября 1952 года. Неделю назад под матрацем Дёница нашли девять исписанных страниц. К счастью, они были написаны на официальной бумаге. Начальство подозревает, что записи предназначены для его мемуаров. В мусорном ведре я нашел обрывки отчета о совещании директоров, на котором обсуждался этот инцидент. Новый русский директор потребовал, чтобы Дёницу на две недели запретили читать и писать, так как в своих заметках он описывал Деятельность, происходившую в фашистской Германии. Но они так и не пришли к соглашению.
Новый русский директор, деятельный, как все они в самом начале, конфисковал у Шираха «Предсказания» – календарь с текстами из Библии на каждый день. Ширах записывал на нем выписанные ему лекарства и отмечал дни рождения родных.
Русский офицер, наблюдающий за нашими религиозными службами и сидящий на унитазе, который до сих пор портит вид нашей часовни, во время проповеди несколько раз услышал фразу «будьте во всеоружии». Отчет: капеллан говорил о вооружениях. Теперь он обязан сначала предъявлять проповедь в письменном виде.
6 октября 1952 года. Снова придирки. Днем в саду был майор Андреев. Я только что пересадил ландыши. Он через переводчика предупреждает меня: «Это новые цветы». Я отвечаю, что всего лишь пересадил их, а пересадка разрешена. Он раздраженно трясет головой. «Нет, пересаживать тоже нельзя. Пожалуйста! Немедленно уберите цветы и уничтожьте».
Русские офицеры уходят. Летхэм, шотландец, наставительно говорит:
– Знаете, приказ есть приказ. Я выполняю все приказы. Не думай, просто выполняй. Так лучше.
– Я больше не понимаю ни вас, ни этот мир, – с оттенком скептицизма отвечаю я. – В Нюрнберге меня хвалили за неподчинение приказам Гитлера, а здесь меня наказывают, если я отказываюсь подчиняться.
Он ничего не понял; подобные рассуждения ему недоступны.
6 октября 1952 года. Сегодня днем Донахью залез на ореховое дерево и стал каркать. Он уже получил одно предупреждение от директоров, «потому что сидел на дереве и оглашал окрестности вороньими криками», как сказано в официальном отчете о совещании директоров. Селинавов, новый и популярный русский, который не обращает внимания на общие инструкции своих директоров, смеется над каркающим американцем и на ломаном немецком начинает рассказывать о медведях, глухарях, лисах, северном сиянии, при котором ночью светло как днем, и о том, как бывает много-много снега. Потом охранники и заключенные вместе сбивают орехи. Через некоторое время весь наш садовый инвентарь повисает на ветках. Селинавов приносит садовый шланг и струей сбивает орехи. Как часто бывает, вставляю свой комментарий. Однажды Гёте тяжело заболел и проведя в постели три недели, написал своей девушке Катхен Шонкопф: «Мы, люди, странные создания. Когда я был в веселой шумной компании, я злился. Теперь, когда все меня бросили, я доволен».
12 октября 1952 года. Длинное письмо от Хильды из Гастингса, полученное по тайному каналу. Она счастлива и учится с удовольствием. Тесть и теща Джона Макклоя живут в том же городе, они пригласили ее на чай. Там она встретила Макклоя с женой. Если бы я предстал перед американским судом, сказал Макклой, я бы давно уже был на свободе.
Говорят, русские приняли предложение западных верховных комиссаров и согласны увеличить количество писем и свиданий. Во всяком случае, так говорит Пиз. Возможно, это результат демарша Аденауэра. Функ приходит в волнение. «Не надо мне больше писем; я хочу, чтобы по ночам перестали включать свет через каждые полчаса». Руле осторожно прощупывает почву:
– Как это получается, что вы всегда в курсе последних новостей? Кто вам рассказывает?
Я даю ему проверенный ответ:
– В данном случае вы сами, не помните?
У него тоже совесть нечиста, так как иногда он сообщает нам новости.
14 октября 1952 года. Мы все переругались из-за света. Каждый хочет что-то свое. Дёниц, Нейрат, Гесс и я против предложения Шираха вкрутить слабую синюю лампочку, потому что в этом случае мы больше не сможем читать. Жаркий спор. Функ отходит на десять шагов и начинает поносить Нейрата, а потом и всех нас. Когда он переходит на вульгарные эпитеты, я кричу в ответ: «Вы выражаетесь, как водитель грузовика!» Он уходит. Первая подобная сцена за семь лет, и что еще хуже, в присутствии охранника.
15 октября 1952 года. Вернувшись после работы в саду, Мы Узнаем, что электрик заменил одну из двухсотваттных лампочек лампочкой на сорок ватт. Поскольку осветительный прибор установлен на высоте трех метров и из соображений безопасности защищен армированным стеклом, света стало значительно меньше. Гесс возмущен:
– Это бесчеловечно! Я должен портить зрение?
22 октября 1952 года. Донахью наконец-то удалось тайком пронести журнал с последними моделями самолетов, который я давно хотел посмотреть. К моему великому удивлению, с 1945 года в области самолетов-истребителей не было произведено ничего принципиально нового. Я вспоминаю проект «летающее крыло» фон Липпиша, который так поразил американцев в Кранцберге; сейчас его строят британцы в форме четырехмоторного реактивного бомбардировщика. В январе 1945-го я обсуждал возможности сверхзвукового самолета с Мессершмитгом. По его мнению, наши технические достижения вплотную приблизили нас к строительству такого самолета. Теперь я читаю, что самолеты развивают скорость до двух тысяч двухсот километров в час. После того разговора прошло уже семь лет. Странное чувство: сижу здесь, в своей камере, и неожиданно встречаюсь со старыми проектами. Я годами носился с ними, как с писаной торбой, а теперь их реализуют другие люди. До сих пор помню, как я – когда же это было? – разговаривал с пилотом Мессершмитга-163 на испытательном аэродроме в Рехлине; в своем рапорте он отметил сильную тряску фюзеляжа в момент приближения к звуковому барьеру.
Еще больше меня будоражат фотографии и отчеты по британской «Комете», с которой начинается эра пассажирских реактивных самолетов. Весной 1945-го я мечтал совершить первый полет на реактивном самолете. Ме-262 должен был перевезти меня из Берлина в Эссен. Но генерал Галланд, командующий истребительной эскадры, отменил эксперимент из соображений безопасности.
Больше я никогда не слышал о Феликсе Ванкеле. В то время он работал над роторным двигателем, и я обеспечивал его средствами и материалами, потому что некоторые специалисты возлагали большие надежды на этот двигатель.
В Нюрнберге я говорил о дьявольских аспектах технологии и горевал по поводу странного поворота в моей жизни, когда я перешел из идеального мира искусства в мир технологий. Я все стремился вернуться к архитектуре. Но сейчас этот журнал пробудил воспоминания о том периоде моей жизни, и меня вновь охватило чувство восторга. Честно говоря, должен признаться, что новые архитектурные журналы, которые, в общем-то, весьма однообразны, не вызывают во мне подобных эмоций.
23 октября 1952 года. Эбурн, толстый добродушный англичанин, пообещал принести мне сегодняшний номер «Тайм». Хочу спокойно почитать журнал, поэтому решил не выходить в сад, притворившись простуженным. Во время дневного обхода французский врач предлагает китайский метод лечения. «Я на несколько минут вставлю золотую иголку в вену на правой руке, и простуда пройдет».
Позапрошлой ночью меня разбудил Гурьев, который раза четыре включал и выключал свет каждые пятнадцать минут. Пока Гурьев дежурил у ворот, я пожаловался Террею, и Террей любезно написал рапорт директорам. Сегодня он рассказал мне, что Гурьев подал встречный рапорт, в котором заявил, что начальник французской охраны высказал свое замечание, будучи в свитере и тапочках. «Приказы не являются официальными, если их отдает человек, одетый не по форме», – утверждает Гурьев.
24 октября 1952 года. Через сутки я объявил, что простуда прошла. Врач доволен своей акупунктурой.
В ходе войны за освещение появились перемены к лучшему. Вчера из Ганновера приехал британский окулист в звании подполковника, проверил освещение и бросил: «Что и следовало доказать». Днем Террей тайком поменял лампочки. «Только не показывайте радости, даже перед другими охранниками. Три западных директора дали негласное разрешение».
30 октября 1952 года. Ковпак, русский охранник с волосами песочного цвета, приветливо улыбается мне. «Сегодня Жена приехать». Но от простуды, на этот раз настоящей, я становлюсь вялым. Разговор не клеится. Жена рассказывает о детях, о жизни Хильды в Америке и о многих других вещах, которые я давно знаю благодаря тайному каналу связи. К тому же, Бресар сидит рядом с женой и в упор смотрит на меня.
Вечер. Петри, новый французский охранник, уроженец Эльзаса. Он настроен благожелательно – а еще делится с нами своими переживаниями. Сегодня он жалуется на мозоли и неудачи в любви. Это сочетание меня забавляет. Он сидит у меня целый час. Я могу дать ему только один совет: «Будьте мужчиной. И это относится к обеим вашим проблемам».
В девять вечера принимаю последнюю таблетку снотворного в этом осеннем отпуске и ложусь спать, но вскоре просыпаюсь от громкого спора в коридоре. Майор Андреев хочет разбудить всех заключенных, которые уже спят. Петри безуспешно его отговаривает. Во всех камерах зажигается свет. Андреев громко кричит: «Почему спите? Еще нет десяти. Спать до десяти часов запрещается. Правила. Пожалуйста, встаньте!» Он уходит, чувствуя себя победителем. Но через три минуты французский охранник выключает свет. Я снова засыпаю.
18 ноября 1952 года. Петри принес журнал «Карфур». В этом номере Жорж Блон рассказывает в форме вымышленного диалога о моей последней встрече с Гитлером 23 апреля 1945 года, за несколько дней до его самоубийства. Статья называется «Этот странный Шпеер». Я показываю ее Гессу со словами: «Когда-нибудь из этого эпизода получится отличное цветное кино». Гесс со смехом отвечает: «Только потребуйте, чтобы вас играл актер с нимбом над головой». Мы предлагаем друг другу разные драматические штрихи для сентиментальной сцены примирения под землей на глубине двадцати метров. Громко смеясь, мы придумываем все новые эпизоды для фильма. Однако Гесс, по существу, единственный из нашей группы, кто с пониманием относится к моему мелодраматическому возвращению в Берлин, вероятно, потому, что идея прощания очень близка его романтическим понятиям благородства.
Мной, по-видимому, тоже двигало романтическое чувство. А также остатки былой преданности и даже благодарности. И, безусловно, желание положиться на волю случая. В те последние дни войны мы получали огромное множество отчетов о зверствах, до нас доходили рассказы об изнасилованиях, массовых убийствах, стихийных расправах; мы узнали о страшной смерти гауляйтера Мутшмана, которого в сильный мороз голым провезли на телеге через весь Дрезден, а потом забили до смерти. Естественно, подобные истории оказывали на нас свое действие. Мне казалось, лучше висеть на первом фонарном столбе после падения Берлина, чем отправиться на каторжные работы в сибирские рудники. Открыто возражая Гитлеру и признаваясь ему в том, что саботировал его приказы о разрушении, я, если можно так выразиться, рассчитывал на божественное правосудие. В одном я абсолютно уверен: я поступил так не из-за своих обманутых надежд или из страха перед крушением Германии. Я всего лишь хотел снять с себя ответственность за свою будущую жизнь.
Знай я тогда, что впереди меня ждут двадцать лет в Шпандау, я бы оказал Гитлеру более сильное сопротивление. Сейчас временами, когда кажется, что сил больше не осталось, я думаю: какая трагедия, что Гитлер в тот момент едва не падал от усталости и пребывал в снисходительном настроении, поэтому на мое признание в открытом неповиновении отреагировал душевным волнением, вместо того чтобы отдать приказ о расстреле. Это стало бы хорошим завершением моей жизни.
19 ноября 1952 года. Хорошо ли я обдумал все, что написал вчера? Легко сказать, что предпочитаешь смерть долгому заключению. Но какое облегчение я испытал в Нюрнберге, когда в моих наушниках раздались эти слова: «Альберта Шпеера – к двадцати годам». Даже если меня продержат здесь все двадцать лет, что ж, по крайней мере, я жив.
20 ноября 1952 года. Гитлер. Внезапно он вновь поселился в моей голове. Я почти изгнал его из своих мыслей. Ведь я давно о нем не писал. Если не ошибаюсь, почти ничего на протяжении нескольких лет, за исключением небольших историй и редких замечаний то тут, то там. Я не могу это проверить. Если я загляну в свою душу, мне придется признать: я не писал о нем не потому, что избавился от него. Скорее, я избегал его, потому что он до сих пор имеет сильную власть надо мной. Как бы ни повернулась моя жизнь в будущем, при упоминании моего имени люди всегда будут думать о Гитлере. У меня никогда не будет независимого существования. Порой я представляю себя семидесятилетним стариком, дети давно взрослые, и внуки подрастают, и куда бы я ни пошел, люди будут интересоваться не мной, а Гитлером.
Что бы я им ответил? Я видел Гитлера в моменты триумфа и в минуты отчаяния, в его ставке и у чертежной доски, на Монмартре в Париже и глубоко под землей в бункере. Но если бы меня попросили описать один-единственный эпизод, в котором проявились сразу все черты его характера и его многочисленные лица слились в одно, я бы вспомнил относительно незначительный случай – всего лишь прогулку в снегу.
Кажется, это было во второй половине ноября 1942-го. В Сталинграде дела шли очень плохо. Получив неутешительные известия, Гитлер уехал из своей ставки в Восточной Пруссии и укрылся в Оберзальцберге. Доктор Морель настоятельно, и уже не в первый раз, рекомендовал ему отдохнуть несколько дней. Как ни странно, в этот раз Гитлер последовал его совету. Он велел своему адъютанту позвонить мне в управление и пригласить меня в Берхтесгаден. В Бергхофе ему нравилось окружать себя старыми друзьями. Их знакомые лица и безобидные шутки помогали ему избавиться от мрачных мыслей. Его военная охрана тем временем разместилась в соседней деревне.
Когда вечером я приехал в Бергхоф, мы обменялись лишь короткими приветствиями. По своему обыкновению, Гитлер молча сидел перед большим камином и часами смотрел на огонь. На следующий день он тоже был усталый и подавленный. Около полудня он пригласил нас прогуляться к чайному домику, расположенному ниже на склоне горы. Гитлер почти каждый день совершал прогулки к чайному домику, расположенному на горе ниже Бергхофа. Но крайне редко поднимался к «Орлиному гнезду», которое часто путают с чайным домиком. Стоял один из тех гнетущих оберзальцбергских дней, когда западные ветры гонят низкие тучи с плато в Верхней Баварии. Тучи собирались на склонах гор и каждый день обрушивались на землю обильным снегопадом. Несмотря на ранее время суток, на улице было темно, но метель, по крайней мере, утихла. Гитлер спустился с верхнего этажа в своей потрепанной серой ветронепроницаемой куртке. Камердинер протянул ему поношенную велюровую шляпу и трость. Он учтиво, с какой-то отчужденной сердечностью, словно пытаясь добиться моего молчаливого понимания, обратился ко мне: «Вы пойдете со мной. Хочу немного поговорить». Потом повернулся к Борману: «Держитесь сзади вместе с остальными». Мы направились вниз по расчищенной от снега дорожке. Справа и слева стояли невысокие снежные сугробы; вдалеке высилась гора Унтерсберг. Тучи рассеялись; солнце клонилось к закату, отбрасывая длинные тени, и немецкая овчарка с лаем носилась по снегу.
Несколько минут мы шагали в молчании, и вдруг Гитлер произнес:
– Как я ненавижу Восток! Снег меня угнетает. Иногда я даже думаю, что перестану ездить на эту гору зимой. Не могу больше видеть снег.
Я ничего не ответил, что я мог сказать? Я подавленно шел рядом. Он ровным голосом продолжал говорить о своей неприязни к Востоку, зиме, войне. В последнее время он постоянно твердил – убеждая себя и других – как он страдает, потому что судьба вечно заставляет его воевать. Он резко остановился, вонзил трость в землю и повернулся ко мне.
– Шпеер, вы мой архитектор. Вы знаете, что я сам всегда хотел быть архитектором. – Помолчав, он продолжил тихим голосом, словно из него ушла вся сила: – Мне помешала мировая война и преступная ноябрьская революция. Если бы не это, сегодня я мог бы стать выдающимся архитектором Германии, как вы сейчас. Но эти евреи! Девятое ноября стало следствием их систематических подстрекательств.
Гитлер разгорячился. Он вгонял себя в ярость, и мне казалось, я явственно вижу, как вращаются шестеренки, Цепляясь друг за друга. Его голос тоже обрел силу; он стал Фомче, постепенно переходя в хриплое стаккато. Передо мной стоял старик, сломленный человек, беспомощно выдавливающий из себя накопившуюся горечь, старые обиды.
– Евреи даже тогда этим занимались. Они и военных подбили на забастовку! Только в моем полку сотни солдат лишились жизни. Евреи заставили меня пойти в политику.
До этого он часто говорил, что падение рейха, унижение нации и позорная революция 1918 года вынудили его стать политиком; но он никогда не подавал это под таким соусом. Однако меня не покидало чувство, что он затеял эту прогулку с единственной целью – немного отвлечься забыть о плохих новостях с фронта. Когда мы вышли, он, вероятно, даже не думал о евреях. Но очевидно, снег напомнил ему снежные равнины Востока, и чтобы отделаться от этих ненавистных образов, он переключился на мысли о старом противнике, который с самого начала стоял за всеми неудачами и провалами в его жизни. Никогда еще я так отчетливо не понимал, насколько важна для Гитлера фигура еврея – она служила объектом для ненависти и в то же время позволяла уйти от действительности. Ведь теперь он узнал то, что не могли ему дать ни его любимая гора, ни эта зимняя прогулка. Сжимающееся кольцо вокруг армий под Сталинградом, напряженная воздушная война, прорыв Монтгомери в Эль-Аламейне – он явно выбросил из головы эти мысли и первые проблески осознания того, что война уже проиграна.
Казалось, вспышка лишила его сил, и он продолжал говорить без эмоций, тем же усталым бесцветным голосом.
– Знаете, Шпеер, я ведь никогда не жил, как другие люди. В последние тридцать лет я жертвовал своим здоровьем. До Первой мировой войны я часто не знал, что буду есть завтра. На войне я был обычным солдатом на передовой. А потом произошла революция, и началась моя миссия, и вместе с ней трудности – долгие десять лет. Но так распорядилась судьба; мне помогало провидение.
Мы пошли немного быстрее.
– Когда меня призвала нация, я хотел создать новую Германию – вместе с вами, Шпеер, – возвести много-много зданий. Германия стала бы самой прекрасной страной в мире. Только подумайте, что бы мы сделали с Берлином! Парижу было бы далеко до него. Но они все испортили. Они всегда видят в моих предложениях признаки слабости. Они думали, меня легко напугать. Так они думали обо мне! Что может эта шайка знать о фюрере национал-социалистической Германии! Но мы их победим! И тогда расквитаемся с ними. Они еще узнают, кто я! На этот раз никто не уйдет от возмездия. Я всегда был слишком снисходительным. Но теперь все. Мы с ними поквитаемся.
Он позвал Блонди, немецкую овчарку, которая убежала вперед.
В то время я часто задумывался, верит ли еще Гитлер в победу. Я никогда откровенно не обсуждал этот вопрос с теми немногими высокопоставленными офицерами, которых я мог считать своими друзьями, отношения с которыми выходили за рамки официальных – генералом Гудерианом и гросс-адмиралом Дёницем, или даже с теми, с кем я был на «ты», как, например, с фельдмаршалом Мильхом. В лучшем случае я пытался что-нибудь выведать у них с помощью осторожных намеков. Кстати, это характерно для отношений среди высшего руководства страны. Сегодня мне кажется, что, несмотря на все его разглагольствования о провидении, даже Гитлер не чувствовал уверенности. Эта прогулка с постоянными перепадами настроения: от депрессии до агрессии, от жалости к себе до иллюзорных планов на будущее, была типичной для неуравновешенного состояния Гитлера в целом, а не только в тот день. Во время войны подобные перепады случались почти ежедневно.








