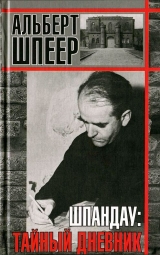
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Словно пытаясь придать уверенности своим словам, он стал приводить примеры из истории.
– Теперь я знаю, – сказал он, – почему Фридрих Великий после Семилетней войны решил, что с него хватит. Я тоже достаточно повоевал за свою жизнь. Эта война отнимает у меня лучшие годы. Я хотел войти в историю не с победными сражениями, а со зданиями, которые вы и я спроектировали вместе. Однажды эти варвары едва не сокрушили империю; они стояли у ворот Вены. Но тогда им тоже противостоял великий человек, и он отбросил азиатов. Как же расцвела наша старая империя после победы принца Евгения. Не забывайте, что прекрасная Вена эпохи барокко возникла сразу после смертельной опасности. И с нами будет то же самое после того, как мы победим. Мы тоже построим дворцы и великолепные здания. Они станут памятниками нашей победы над большевиками.
Удалось ли мне воспроизвести все более или менее точно? Сумел ли я убедительно описать характер? Я должен помнить, что все-таки всегда слушаю его голос, слышу, Как он прочищает горло, вижу его слегка сутулую фигуру перед глазами. После освобождения надо будет послушать записи и посмотреть фильмы – вдруг в моей памяти сохранился искаженный образ, или я слишком выпячиваю зловещие или отталкивающие черты? Ведь если это весь Гитлер, как я мог быть настолько им очарован, причем больше десяти лет?
26 ноября 1952 года. Вчера пришлось написать много писем, и, самое смешное, сегодня левое запястье так распухло, что косточки не видно. В медицинском кабинете Дёниц комментирует: «Пора брать анализ крови». Функ, всегда настроенный более пессимистично, говорит: «Рука красно-синяя. Очень плохо. Похоже на серьезное неврологическое заболевание». Русский врач перевязывает мне руку и прописывает «Салицин» четыре раза в день. Кроме того, мне не разрешили выходить в сад.
Мне пришлось так много писать, потому что теперь у меня есть два канала связи с внешним миром. Новый американец, назовем его Фредерик, полагает, что при такой большой семье официального количества писем недостаточно. Через него я теперь могу отправлять сколько угодно писем. Я бы не подумал, что он способен на активное сочувствие; у него довольно равнодушное лицо, и он до смерти боится; покрывается потом, даже когда просто думает о том, как рискует.
По этой причине я бы с удовольствием отклонил его предложение, потому что у меня и так достаточно возможностей. Но Фредерик мог бы заподозрить, что у меня уже есть связь с внешним миром. А этого допустить нельзя. Не знаю, что будет, если кто-то третий или четвертый предложит мне свою помощь. Придется писать письма каждую ночь, пока рука не отвалится.
29 ноября 1952 года. Первое воскресенье адвента. В часовне повесили рождественский венок. Вечером майор Андреев лично выносит его из тюремного корпуса. Вскоре появляется британский директор и сообщает: «Этот безмозглый капеллан не взял разрешение». Но полковник Лекорну воспринимает действия своего русского коллеги с полным спокойствием.
Гесс стелит мне постель, как он делает каждый вечер, потому что мне до сих пор не разрешают двигать перебинтованной рукой. Пользуясь случаем, сообщаю ему, что его жена опубликовала его письма в форме книги. Эта новость приводит Гесса в лихорадочное волнение. Когда он намекает, что он первым среди нас стал писателем, и это вполне естественно, я подпускаю маленькую шпильку:
– Скажите спасибо, что цензор вырезал все ваши безумные идеи о политике. Вас издали в дистиллированном виде, теперь вы – образцовый демократ.
Гесс смеется и изображает потрясение. Тем не менее, моей жене понравились опубликованные письма Гесса к сыну. Поскольку в последнем контрабандном письме она много пишет о Гессе, я зачитываю ему отрывки, пока он застилает постель.
– Ваша жена знала о ваших действиях против Гитлера перед концом войны? – спрашивает он.
– Нет, – качаю головой я, – я не хотел втягивать ее… Большое спасибо за постель.
– Это письмо – лучшая благодарность, – благожелательно отвечает Гесс. – Пожалуйста, передайте вашей жене мои самые теплые пожелания.
Что мне нравится в Гессе, так это то, что мои взгляды, которые, должно быть, приводят его в ужас, в отличие от Дёница не служат для него поводом для враждебного отношения ко мне.
2 декабря 1952 года. Сегодня Дёниц полчаса беседовал с женой. Вернувшись, он заметил с иронией: «Разговор был приятный, почти интимный. Вот только при нем присутствовали русский переводчик, заместитель французского начальника, охранник и то один, то другой директор».
4 декабря 1952 года. В саду Гесс говорит мне, что в последнем письме наказал сыну всегда помнить о благородстве и чести.
– Ага, – говорю я, – вы уже думаете о будущих поколениях.
Гесс смеется, но задумчиво замолкает, когда я спрашиваю, позволили бы при Гитлере женам Северинга или Тельмана издать книгу писем своих мужей.
– Конечно нет, – с чувством отвечает он.
Я продолжаю спрашивать: что бы он сказал, если бы Федеративная Республика запретила публикацию его писем.
– Это никуда не годится, – качает головой Гесс. – у них теперь демократия. Если бы они так поступили, демократии больше не было бы.
5 декабря 1952 года. Дёниц тайком прочитал отрывок из официальной истории британского Адмиралтейства. Он страшно доволен, потому что британцы разделяют его точку зрения: отказ от строительства сотен подводных лодок до начала войны или хотя бы в первые годы войны было серьезной стратегической ошибкой. Он снова и снова подчеркивает, что поставит все эти пункты в вину Редеру с подробным освещением в прессе, как только он и Редер выйдут на свободу. Говоря об этом, он всегда приходит в сильное волнение.
6 декабря 1952. Кранцбюлер переговорил с влиятельными людьми в западных странах, как он пишет в контрабандном письме Дёницу. Нам следует настроиться, говорит он, на отбытие полного срока. Мы обсуждаем эту информацию со странным спокойствием. Мысль о том, что когда-нибудь мы можем стать снова свободными, ушла в небытие.
11 декабря 1952 года. Лекорну, которые все эти годы был нашим британским директором, пришел попрощаться. Он только что побывал у Нейрата и Дёница; в его глазах стоят слезы, голос дрожит.
– Это ваш новый директор, – говорит он, показывая на стоящего рядом офицера.
Потом желает мне всего самого лучшего и вопреки запрету пожимает мне руку. Я благодарю его «за все, что вы сделали, но еще больше за то, что хотели сделать». Даже Гесс признает, что уходящий директор вел себя, «как джентльмен», но из принципа не подает ему руки.
15 декабря 1952 года. Охранникам запрещено приносить с собой книги в тюремный корпус. Сегодня вечером неутомимый майор Андреев расстегнул верхнюю пуговицу на мундире американского охранника и вытащил книгу. Это своего рода пограничный инцидент, поскольку русский офицер не имеет права прикасаться к американскому солдату.
16 декабря 1952 года. Новый британский директор мистер Джон Эгертон, бывший судья, совершает обход по камерам. Он записывает в блокнот наши пожелания. За эти пять лет в Шпандау к нам еще не относились с такой заботой и добросовестностью. Когда приносят ужин, он приказывает открыть все двери одновременно. Мы впервые все вместе стоим у раздаточного стола. В общем-то, нет причин выпускать нас по одному и снова запирать, поскольку мы много часов проводим вместе в саду.
Но тут появляется его коллега Андреев и орет:
– Всем немедленно вернуться в камеры! Но по очереди.
Мы плетемся назад: а что еще нам остается делать?
Я слышу обрывки жаркого спора между директорами. Англичанин:
– Но ведь еда остынет.
Русский непреклонен.
– Неважно. Что запрещено, то запрещено.
– Увидимся на совещании, – холодно отвечает англичанин.
В официальном письме Дёницу его жена пишет, что ее принял папа римский. Он был приветлив и отнесся к ней с сочувствием. Это известие вызвало у Дёница душевный подъем. Несколько лет назад дочь Нейрата встречалась с папой, а фрау Функ – с архиепископом Кельнским. Началось настоящее паломничество, хотя все мы протестанты. Я рад, что моя жена не отправилась на прием к папе.
22 декабря 1952 года. Сегодня Ковпак проявляет излишнюю бдительность. Дважды безуспешно пытался передать свои записи. Придется оставить их у себя на ночь. А в последнее время я много писал. Болтливое Рождество!
23 декабря 1952 года. На этот раз получилось. Утром отправил все свои записи.
Днем враждебно настроенный Гурьев осмотрел карманы Нейрата. С торжествующим видом он достал два маленьких кусочка шоколада. С тех пор как несколько месяцев назад обнаружили шарик конского навоза, сегодня впервые что-то нашли при обыске. Я тут же избавился от балласта: несколько листов бумаги смыты водой в туалете. Но нас не обыскивали.
Сразу после этого явился советский директор Андреев с переводчиком, чтобы допросить Нейрата, пока заключенный еще не отошел от потрясения. Но Нейрат спокойно заявляет:
– Шоколад? Я нашел его на своем столе, когда вернулся из сада. Решил, что это из моей рождественской посылки.
Новый английский директор, явно не в духе, входит в коридор. Он так громко отчитывает довольного Гурьева, что мы все его слышим.
– Что вы стоите руки в карманах? Кто вам позволил курить в присутствии офицера? Как вы себя ведете? Вы меня поняли? Я хочу поговорить с заключенными один на один. Убирайтесь.
– Как мало нам теперь надо. Мы радуемся, когда офицер ведет себя, как подобает офицеру, – комментирует Дёниц.
1 января 1953 года. Проснулся в полночь, думал о жене, детях, друзьях. Знаю, что в эту же минуту они тоже думают обо мне. Через открытое окно доносятся звуки выстрелов, крики и звон колоколов. Старый год кончился.
Утром приветливо поздравляем друг друга в умывальной. Ширах и Редер впервые за долгое время пожимают мне руку и желают всего хорошего.
– Что вы ждете от нового года? – спрашивает Ширах.
– Я принял твердое решение никогда не раздражаться, – отвечаю я.
– Правда? – в изумлении говорит Гесс. – А я уже не раздражаюсь. – У него растерянный вид.
Входит начальник французской охраны и, несмотря на дефект речи, торжественно произносит:
– Желаю, чтобы стены тюрьмы рухнули в этом году.
Другие западные охранники на удивление дружелюбно желают скорейшего окончания нашего заключения.
7 января 1953 года. Последние несколько дней майор Бресар безуспешно пытается выяснить, кто дал Нейрату шоколад. Говорят, он даже приказал обыскать мусорные контейнеры в надежде найти обертку от шоколада. Сегодня четыре директора провели специальное совещание по этому вопросу. На допрос вызвали, как нам сказали, десять свидетелей, которым пришлось ждать в приемной от двух до шести часов. Среди них – русский, обнаруживший шоколад. Он сидел один в углу, товарищи его бойкотировали; отчасти потому, что из-за него они потеряли полдня, а отчасти потому, что, по их общему мнению, Нейрат, почти восьмидесятилетний старик, имеет право на шоколад. Вечером британский директор объявляет правонарушителю приговор: «Совещание приняло решение не подвергать вас наказанию за то, что вы взяли шоколад. Но вам выносится предупреждение, потому что вы не отдали его первому же охраннику, как только нашли его».
20 января 1953 года. «Шоколадное дело» напугало многих охранников; на несколько дней источники информации иссякли. Но сейчас снова начинают поступать новости.
И сразу поднимается волнение. Функ рассказывает нам в саду:
– Недавно раскрыли заговор. Говорят, Скорцени, человек, освободивший Муссолини, хотел выкрасть нас с помощью двух вертолетов и сотни человек. Одновременно они собирались устроить путч. Мы все должны были войти в новое правительство, возглавляемое Дёницем как преемником Гитлера. Британская разведка арестовала Наумана, заместителя Геббельса, бывшего пресс-секретаря Зундермана и гауляйтера Шееля. Об этом кричат все газеты.
По-видимому, Дёниц хотел скрыть от меня эту новость.
– Но я невольно услышал ваш недавний разговор с американцем, – говорю я. – Судя по тому, что я слышал, вы – номер один в новом правительстве рейха…
Он взволнованно перебивает меня:
– Какая чепуха. Им следует выпустить меня отсюда, тогда я смогу сделать заявление, что не имею к этому никакого отношения. Я осудил систему Гитлера, и я никогда не имел ничего общего с такими людьми СС, как Скорцени. – Короткая пауза. – Но я до сих пор остаюсь законным главой государства и останусь им. До самой смерти!
Я изображаю удивление.
– Но страной давно руководит другой человек. Они же выбрали Хойса.
– Прошу прощения, – настаивает Дёниц. – Его поставили во главе государства под давлением оккупационных сил. Пока всем политическим партиям, включая национал-социалистов, не позволят действовать, и пока они не выберут кого-то другого, я остаюсь законным руководителем. Ничто не может это изменить. Даже если бы я сам захотел.
Пробую его убедить:
– На вашем месте я бы отказался от своих прав.
Дёниц качает головой, приходя в отчаяние от такого непонимания.
– Вы просто не хотите понять. Даже если бы я снял с себя полномочия, я бы все равно остался главой государства, потому что не могу уйти, пока не назначу преемника.
Я продолжаю стоять на своем.
– Но даже императоры и короли отрекались от престола после революции.
Дёниц меня поправляет:
– Они всегда назначали преемника. Иначе их отречение не имело бы законной силы.
Я разыгрываю козырную карту.
– В таком случае вам повезло, что наследный принц умер. А то вас было бы трое. – Внезапно мне приходит в голову, что принц Людвиг-Фердинанд еще жив, и я спрашиваю: – Расскажите, какое соглашение вы заключили в 1945-м с главой дома Гогенцоллернов?
– Он одержим этой идеей, – пожимая плечами, вставляет Нейрат.
24 января 1953 года. Обнадеживающие известия: Макклой в Америке назвал заговор мыльным пузырем, Аденауэр заявил, что никаких разоблачений не было. Оказалось, что все «дело» Скорцени – в той или иной степени вымысел журналистов.
26 января 1953 года. Пришла книга по строительству зданий. Она напечатана мелким шрифтом, как энциклопедия. С помощью британского директора моя жена передала книгу в Центральную библиотеку Вильмерсдорфа, а потом мне доставили ее из фонда этой библиотеки. Я впервые получил систематизированный обзор развития строительства за последние пять лет. Сейчас я работаю над разделом по соединению деревянных частей. Голова забита всякими штифтами, дюбелями, шпунтовыми соединениями, шипами, соединениями типа «ласточкин хвост».
3 февраля 1953 года. Мы получили приказ покрасить вестибюль, который к этому времени стал серым и блеклым.
Когда мы красили его в последний раз? Не помню, все годы перепутались у меня в голове. Мы сразу взялись за работу и начали с побелки потолка. Как же сильно человек стремится быть полезным. Директора достали краскопульт. Дёниц и Ширах качают насос, а я направляю агрегат на потолок. Русский директор с интересом наблюдает. Но краска не распыляется. Я откручиваю засорившийся распылитель, и поток известкового раствора заливает мне лицо. Впервые вижу, чтобы русский директор смеялся в голос. Разозлившись, будто бы из-за поломки, я направил струю в вестибюль. Все разбежались, в том числе и директор. Распылитель сразу же снова засорился. Стоя на стремянке, я крикнул Дёницу:
– Сделайте более жидкий раствор. Добавьте воды в ведро.
После этого покраска доставляет одно удовольствие.
Через несколько часов вестибюль готов. В прошлые годы я несколько недель работал кистью.
Но когда через некоторое время я смотрю на подсохший потолок, оказывается, что он покрыт бледно-серой пылью. Дёниц налил слишком много воды в известку.
5 февраля 1953 года. Тем временем привезли масляную краску. Она серая, или, как с гордостью объявляет Летхэм, «голубовато-серая цвета линкора». На мой вкус, она слишком мрачная. Я добавляю в нее цветной порошок, предназначенный для покраски верхней части стен (желтую охру и умбру) и получаю более яркий, оригинальный цвет. Дёницу и Шираху он нравится. В тех же пропорциях я смешиваю всю краску.
6 февраля 1953 года. Приступаем к работе, как обычно, в девять утра. Летхэм смотрит на образец краски.
– Ой, что это за цвет? Он же не серый, да?
Подтверждаю, что нет.
Он беспокоится:
– Ой, только не меняйте цвет! Знаете, американский директор выбрал цвет линкора. Не делайте этого.
Он говорит слезливым голосом, как с ребенком, которого надо успокоить и убедить исправиться.
– Да, понимаю, – отвечаю я. – Но я уже смешал всю краску, и у нас теперь только такой цвет.
Летхэм в отчаянии.
– Ой, ой, что вы сделали? Правда?
Он уходит расстроенным. Мы приступаем к работе.
12 февраля 1953 года. Один из четырех комендантов Берлина часто бывает с инспекцией в тюрьме. Сегодня приехал новый французский комендант в сопровождении свиты директоров, адъютантов и охранников. Я услышал, как перед моей дверью кто-то сказал: «Это Шпеер». Он попросил нас познакомить: «Позвольте представить вам нового коменданта французского сектора генерала Демьё». Он отдал честь, как положено; всегда обращаешь внимание на подобные мелочи. Потом он захотел посмотреть мой альбом, сказал несколько одобрительных слов и ушел, похвалив мой французский.
17 февраля 1953 года. Во время дневного отдыха Фредерик незаметно передал мне первую часть из серии статей о правительстве Дёница, которая публикуется под названием «Двадцать три дня Четвертого рейха». Дёниц, должно быть, уже ее прочитал, потому что выглядит довольным, разговаривая с Фредериком. Я же читаю статью с некоторым раздражением, потому что большинство суждений в ней ошибочны; почти все действующие лица представлены в героическом свете, и вообще все искажено. Смысл статьи становится понятным из заявления Дёница, которое используется в качестве эпиграфа к первой части: «Мне не за что извиняться, и я бы снова все сделал так же, как и тогда». Статья вызвала во мне желание записать подробности того периода, пока я их еще помню.
Когда я, прочитав статью, вернулся в сад, ко мне подошел Дёниц и встал рядом. Мы оба смотрели через заснеженное поле на восьмиметровую красную тюремную стену. Конечно, он догадался, что я прочитал «Иллюстрирте Пост». Но спросил с напускным безразличием:
– Что нового?
Не желая доставлять ему удовольствие, я лишь коротко ответил «ничего». Несколько минут мы молчали, созерцая зимний сад с притворно-скучающим видом. Потом я спросил:
– А у вас… есть новые идеи?
После долгих раздумий адмирал ответил:
– Нет.
– Полагаю, именно так ведут беседу старые морские волки, – с улыбкой замечаю я.
26 февраля 1953 года. Объявление на двери Нейрата: «По состоянию здоровья номеру три выдали кресло». «Оно мне вовсе не нужно», – ворчит Нейрат. Но, по всей видимости, к его приступам астмы относятся более серьезно, чем ему бы хотелось. Сегодня привезли кресло. Я не мог поверить своим глазам: оно из рейхсканцелярии, я сам разработал его дизайн в 1938-м!
Узорчатая обивка превратилась в лохмотья, лак больше не блестит, оно все покрыто царапинами, но мне по-прежнему нравятся его пропорции, особенно изгиб задних ножек. Какая встреча! По словам Вагга, кресло нашли на мебельном складе в Берлине.
Я действительно рад, что мне представился случай снова встретиться с частью своего прошлого. Прошлого, еще не отягощенного войной, гонениями, иностранными рабочими, комплексами вины. Более того, в самом этом предмете мебели нет ничего постыдного для меня, ничего чрезмерного, ничего помпезного. Это просто кресло хорошей работы. Способен ли я еще создать нечто подобное? Может, потом я стану изготавливать мебель, а не строить здания.
Только по зрелом размышлении я понял, что кроме этого обычного кресла в камере Нейрата я больше никогда не увижу ни одной своей работы, сделанной в те годы. Рейхсканцелярии уже нет, территорию партийных съездов в Нюрнберге сотрут с лица земли. Больше ничего не осталось от грандиозных планов по преобразованию архитектурного облика Германии. Как часто Гитлер говорил мне, что через тысячи лет наши здания станут свидетельством величия нашей эпохи – а теперь это кресло. Ах да, еще небольшой коттедж, который я построил в Гейдельберге Для родителей жены, когда был студентом. Больше ничего.
Сохранятся ли эти планы хотя бы в форме идеи? Сколько непостроенных зданий и нереализованных проектов вошли в историю архитектуры? Будет ли хотя бы одна Фотография моей работы в описании зодчества нашего времени? Правда, это была поздняя архитектура, очередная попытка – сколько же их было? – строительства в классическом стиле. Но я всегда это понимал и не переживал по этому поводу.
Тем не менее, мне иногда кажется, что я – конечная станция, последний приверженец классицизма. Я не имею в виду стиль или форму. Я никогда не верил новаторам, утверждавшим, что колонны и порталы – это пережиток прошлою. Подобные элементы существуют четыре тысячи лет, и кто вправе решать, что сегодня они больше не нужны?
Есть еще один фактор, который приближает конец этого стиля и, пожалуй, всех традиционных стилей: ремесленные традиции, на которых основывались формы прошлого, постепенно отмирают. Нет больше каменщиков, способных вытесать карниз из камня. Скоро не будет плотников, способных подогнать по размерам лестницу, не будет штукатуров, способных покрасить потолок. И если бы Палладио, Шлютер или Шинкель родились лет через сто, в далеком будущем, им пришлось бы работать с металлом, бетоном и стеклом. На нашей эпохе – неважно, хорошо или плохо она строила, – закончилась долгая, освященная веками традиция. И, возможно, это не случайно, что от наших планов ничего не осталось. Ничего, кроме кресла.
4 марта 1953 года. Сегодня, направляясь за чистыми простынями, проходил мимо камеры Дёница. Дверь была открыта, и он радушно предложил мне войти. Он внезапно помолодел на несколько лет. Он показал мне надпись под своей фотографией в газете: «Человек, который спас сотни тысяч жизней».
8 марта 1953 года. Несколько дней назад начал писать «мемуары». Толчком, видимо, послужила серия статей о Дёнице. Я так долго колебался, делал неудачные попытки, перечеркивал написанное и в конце концов стал сомневаться в своих способностях. Сейчас я пишу так, будто для меня нет ничего более естественного. До сих пор я не испытывал особых затруднений. Я пишу с удовольствием и рад, что у меня есть дело, которого хватит на несколько лет. Однако я немного облегчил себе задачу. Я начал не с Гитлера, а со своего дома и детства.
Я назначил себе норму: одна плотно исписанная страница в день. Через четыре года получится примерно тысяча четыреста страниц – объемистая книга.
9 марта 1953 года. Сегодня во время дневного перерыва было подозрительно тихо. Я хотел продолжить работу над первыми главами мемуаров, поэтому, желая убедиться, что никто не шпионит, я набил трубку и подал сигнал, что мне нужны спички. Когда мне их принесли, я заметил Селинавова, который красил бордюр. Успокоившись, я приступил к работе.
Вечером сообщили о смерти Сталина. Он умер несколько дней назад. Ушел второй злой гений этого века. Для меня это ничего не значит.
15 марта 1953 года. Уже десять дней работаю над мемуарами. Каждое утро после уборки камеры я надеваю свитер, натягиваю на голову шерстяную шапку, раскуриваю трубку, чтобы привести мысли в порядок, и открываю форточку, наполняя камеру кислородом. Днем я кладу толстый справочник по строительству на согнутые в коленях ноги, так что любопытным наблюдателям не видно, что я делаю.
По-моему, это даже хорошо, что за исключением пары-тройки контрабандных книг, мне не разрешалось читать какие-либо работы по современной истории. Пишу, так сказать, вслепую.
16 марта 1953 года. Как недавно прочитал у Стефана Цвейга, Казанова никогда не написал бы автобиографию, если бы не провел последние годы в убогом городишке в Богемии. Для меня Шпандау и есть этот городишко. Здесь я нашел уединение, необходимое для того, чтобы подвести баланс. Пока другие часами обмениваются в саду мнениями о прошлом, я пытаюсь понять, что произошло на самом деле.
17 марта 1953 года. В свой день рождения весь вечер работал над мемуарами, чтобы отвлечься. О Челлини кто-то сказал: «Художник, от которого почти ничего не осталось, кроме автобиографии!»
Помеха. Функ у моего смотрового окошка. «Зайдите ко мне в камеру. Хочу показать вам что-то интересное». Возмущенный его вмешательством, которое нарушает наши обычные формы общения, я не реагирую. Через пятнадцать минут Функ возвращается. «Идите же, это в самом деле интересно». Я прошу открыть мою камеру.
– Погасите свет! – требует Функ. – Видите луну и звезды прямо перед ней? Это турецкий знак удачи.
Лонгу скучно, потому что Функ показывал ему то же самое несколько минут назад, и он уходит. В темноте Функ протягивает мне кружку и шепчет:
– Пейте скорей! За ваш сорок восьмой день рождения! Все, что задумаете сегодня, сбудется.
Где он раздобыл такой превосходный коньяк?
21 марта 1953 года. Сегодня, когда мы сажали молодое ореховое деревцо, Функ сказал:
– Мы еще будем сидеть в тени этого дерева.
Говорят, Маленков станет преемником Сталина. На примере Бормана видно, какое выгодное положение занимает секретарь, чтобы стать преемником диктатора. Место Ленина занял его секретарь Сталин; теперь на место Сталина пришел его секретарь, Маленков. Говорят, в своей речи Маленков сделал упор на мир. Гесс лаконично замечает:
– Знаю, знаю. Именно в это время опасность войны наиболее велика.
3 апреля 1953 года. Сегодня вдруг вспомнил, как в 1942-м программа роста вооружений едва не села на мель из-за проблем с поставкой отверток. Историки часто пропускают подобные мелочи. Я должен обращать внимание на такие вещи. Поэтому и упоминаю здесь об этом.
11 апреля 1953 года. Из тайного письма от своего зятя Дёниц узнал о результатах исследований, проведенных Алленсбахским институтом в июле 1952 года. Сам он стоит во главе списка бывших видных деятелей, о которых немцы по-прежнему хорошего мнения. У Дёница 46 процентов; следом за ним идет Шахт – 42 процента, Геринг – 37, я – 30 и Гитлер – 24. Ширах с Гессом плетутся позади – у них 22 процента. Семь процентов плохо относится к Дёницу, 9 процентов – ко мне, 10 – к Шахту, 29 – к Шираху и Гессу, 36 – к Герингу, и 47 процентов – к Гитлеру.
– Немецкий народ любит меня, поэтому я скоро выйду на свободу, – с довольным видом заметил Дёниц, когда мыл руки рядом со мной.
Тем не менее, письмо не доставило Дёницу радости, так как его зять поступил непростительно: он распространил информацию, что он теперь пользуется такой же популярностью, как Роммель. С глубоким отвращением Дёниц заявил, что Роммель стал героем только благодаря пропаганде, потому что участвовал в заговоре 20 июля. После этих слов Дёниц ушел.
На мгновение я задумался, не должен ли я встать на защиту Роммеля, с которым я всегда хорошо ладил. Но воздержался. Обширный опыт показывает, что с моими товарищами по заключению бессмысленно говорить на эти темы, хотя Дёниц в своих рассуждениях оставил явную брешь, когда с горечью заметил, что все по-прежнему говорят о Роммеле как о «фельдмаршале», а его с Редером называют «бывшими гросс-адмиралами». «Какая нелепость – даже по международным законам звание гросс-адмирала, как и звание фельдмаршала, сохраняется навсегда». Я не стал напоминать ему, что он не говорил об этом, когда после 20 июля его товарищей-офицеров лишили званий и фактически выгнали из армии, чтобы Гитлер мог их повесить.
14 апреля 1953 года. Под влиянием вчерашнего спора пытаюсь вспомнить другого Дёница. Поэтому для своих мемуаров в общих чертах набросал описание нашей первой встречи в его парижском штабе, когда он занимал пост командующего подводным флотом. В то время у него была репутация спокойного, знающего, справедливого офицера. Его скромная штаб-квартира в обычном жилом здании резко отличалась от той помпезности, которую накануне демонстрировал фельдмаршал Шперле в Люксембургском дворце, где он давал банкет, на котором прислуживали официанты в ливреях. В тот момент полчище подводных лодок атаковало атлантический конвой. На каждом этапе сражения Дёниц руководил субмаринами, находившимися на расстоянии нескольких тысяч миль, по коротковолновому радио.
Незадолго до нашей встречи с Дёницем захватили британскую подводную лодку. К всеобщему удивлению, она была оснащена стальным торпедным аппаратом. На немецких субмаринах стояли бронзовые аппараты, и считалось, что никакой другой металл для них не подходит. Исследовав захваченное судно, немецкие инженеры объявили, что в будущем мы тоже сможем использовать стальные аппараты. Это имело огромное значение, потому что бронза представляла собой серьезную проблему. В конце концов нам с Дёницем удалось убедить Гитлера, и он разрешил нам действовать. Редер, в то время главнокомандующий ВМС, почувствовал себя обойденным и запретил Дёницу впредь иметь дело со мной. Он также направил мне выговор по официальным каналам через верховное командование ВМС.
Когда Дёниц в 1943 году занял место Редера, мы работали в тесном контакте. Он всегда был достойным и надежным партнером, и я был очень высокого мнения о нем. Несмотря на ухудшение наших отношений в течение тюремного заключения, я с удовольствием вспоминаю наше сотрудничество. Я понимаю, почему он отстранился от меня, и уважаю его мотивы. Более того, им овладел психоз заключенного, который бьется головой о стену своего приговора. Отказ принять действительность часто вызывает неожиданные, неконтролируемые реакции.
24 апреля 1953 года. Каждый вечер санитар разносит по камерам большой поднос с лекарствами и таблетками. Сегодня его сопровождал Гурьев, тот самый русский, который внезапно обнаружил в себе дар ясновидения и нашел шоколад в кармане Нейрата. Вскоре после того, как они скрылись в камере Функа, я услышал громкий спор в коридоре. Санитар Влаер кричал:
– Ну так иди и попробуй!
Ему отвечал бас Гурьева:
– Все бутылки подлежат конфискации.
Возмущенный голос Влаера:
– Что? Хочешь меня обыскать? Даже не вздумай ко мне прикасаться!
Хлопали двери; бегали охранники.
Через несколько часов Функ рассказал мне, что случилось:
– Да безумная история. Мне повезло. Санитар достал из кармана фляжку и вылил ее содержимое мне в кружку.
Коньяк! Русский стоял за дверью, но что-то заметил. Он схватил кружку, понюхал одной ноздрей, потом другой – и побежал за санитаром. Но по привычке, естественно, сначала запер меня. И я остался один на один с моим коньяком! Кружка была почти полной – огромное количество! Я поднес ее к губам и выпил одним глотком. Залпом! Это было непросто. Но его надо было выпить. Меня закачало. Но я сразу же налил в нее кофе из другой кружки. Все произошло в считанные секунды. Потом вернулся русский. Снова понюхал кружку. Представьте себе его лицо! Кофе. Он чуть не упал. Волшебное превращение. Он ничего не мог понять. Забрал у меня кружку и убежал.








