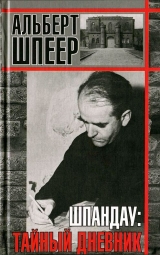
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Год девятый
Освобождение Нейрата – Мой «здоровый инстинкт» – Гитлер о политических взглядах художников – Возведение партийных ритуалов в статус богослужения – Завершение мемуаров – Эмболия легких – Нервный срыв – Жизнерадостный оппортунизм – Идея кругосветного путешествия – Редер, Ширах и Дёниц против Гесса – Мой взгляд на современную архитектуру – В пусте – Редер на свободе
6 октября 1954 года. Говорят, Бресара уволили, потому что он приказал сообщать четырем директорам о любых нарушениях британских и американских охранников. Его преемник, мсье Жуар, служил в гражданской администрации французского сектора, и он не военный. Он сразу положил конец этим нелепым донесениям. Теперь у нас снова царят мир и спокойствие. И мы опять переправляем наши тайные послания.
16 октября 1954 года. Как обычно, когда дежурят русские, я обернул бумаги вокруг ноги и закрепил эластичным бинтом. Во сне бинт размотался, и когда я проснулся, бумаги были разбросаны на кровати. Но ни одна не упала на пол, где ее обязательно заметил бы русский охранник, стоило ему заглянуть в смотровое окошко.
18 октября 1954 года. Дома появился щенок длинношерстой таксы. Дети в восторге. Цензор строго объявляет: «Пришли фотографии собаки. Но вы их не получите. По правилам разрешаются только фотографии членов семьи». Тогда я написал домой в официальном письме, чтобы они сфотографировались с таксой на коленях и с кошкой на плечах.
За месяц я прошел 240 из 624 километров до Гейдельберга. Пока мой рекорд за день – шестьдесят один боб, или шестнадцать километров.
26 октября 1954 года. На Парижской конференции было решено принять новую германскую армию в НАТО. В «Ди Вельт» описывается структура этой новой армии и методы обучения. Дёниц критикует:
– Они совершают ошибку. Бундесвер надо строить по традициям вермахта. Они рубят сук, на котором сидят.
– Возмутительно! – негодует Ширах. – Отдавать честь офицеру только один раз в день! И высокие сапоги упразднили! Не понимаю. Это же самое лучшее в армии.
Дёница больше интересует, как это повлияет на нас.
– Никогда не занимался пророчествами, но сейчас предсказываю: следующей весной все мы отправимся домой. Западные державы попросту не смогут больше держать нас в заключении. Мои морские офицеры не позволят.
Нейрат не принимал участия в этом разговоре. После последнего приступа он в одиночестве сидит в камере, читает в кресле или просто смотрит перед собой. К нему не пускают посетителей, якобы потому что ему нельзя волноваться. Тем не менее, некоторые охранники открывают его камеру и разрешают нам поговорить с ним.
4 ноября 1954 года. Днем произошло невероятное событие. Редер не разослал газеты по камерам, как обычно, а выскочил из библиотеки в коридор.
– Идите сюда, – возбужденно позвал он, – прочтите скорей! Невероятно! – Понизив голос, чтобы его не услышал Нейрат, он поясняет: – В газете пишут, что Нейрата отпустят.
В сегодняшнем номере «Ди Вельт» приводится статья «Ассошиейтед Пресс», в которой говорится, что советский верховный комиссар Пушкин предложил своим западным коллегам освободить Нейрата по старости и состоянию здоровья. Верховные комиссары проведут окончательные переговоры по этому вопросу.
Привлеченный шумом, подошел Гурьев. Увидел, что Дёниц прячет за спиной газету, и потребовал показать ему. Взглянув на заголовок, он опустил газету и потрясенно уставился перед собой, потом внимательно прочитал статью.
Вскоре поступил приказ выдать Нейрату газету только после дозы «Теоминала» и в присутствии санитара. Но Нейрат спокойно принял новости. Он снова заметил, что не поверит, пока не окажется с другой стороны ворот. По его мнению, пройдет еще недели три, прежде чем определят правила его жизни на свободе.
Гесс пришел в дикое волнение.
– Немедленно объясните Нейрату, – кричал он мне через коридор, – что это всего лишь пропагандистская ложь. Знаю я тактику коммунистов!
6 ноября 1954 года. Суббота. Нейрат сегодня раздражен, потому что ночью из его шкафчика забрали всю одежду.
– Кто дал русским право разорять мой шкафчик?
Потом он заметил, что его книги тоже исчезли. Он разгневанно повторял снова и снова: «Они не имеют права!»
В одиннадцать часов я вернулся после бани. В коридоре увидел начальника американской охраны Фелнера. Он подал мне знак. Но я не понял, что он имел в виду. Пока я стоял в коридоре, Фелнер вошел в камеру Нейрата. Сидящий в кресле старик поднял голову.
– Пройдите в кладовую, – сказал американец.
Вернувшись в свою камеру, я увидел Нейрата. Он, шаркая шлепанцами, на нетвердых ногах плелся следом за Фелнером. Они дошли до конца коридора, и железная дверь за ними закрылась. На мгновение воцарилась тишина. Внезапно рядом со мной возник Чарльз Пиз.
– Он ушел, – сухо произнес он.
Вот и все. Никаких прощаний, никаких церемоний, даже руки не пожали. Он просто исчез за железной дверью. Один из нас теперь свободен.
На несколько часов мы все словно оцепенели. У Дёница мокрые глаза. Мой старый трюк с прикусыванием языка тоже не срабатывает. Качая головой, Гесс признается:
– Никогда бы не подумал, что это возможно.
6 ноября 1954 года. Перед проповедью капеллан передал нам сообщение от Нейрата. Он был очень огорчен, что не смог попрощаться, сказал капеллан. Его отвели в кладовую без всяких объяснений. Там вместо побитого молью костюма ему выдали тюремную одежду без номера. Дочь встретила Нейрата в комнате для свиданий, а потом, не получив удостоверения личности или свидетельства об освобождении, отвела его к ждущей в тюремном дворе машине. Не было введено никаких ограничений на его свободу.
После «Те Деум» Брукнера капеллан прочитал 126-й псалом: «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Капеллан помолился за Нейрата. Потом за наше освобождение.
8 ноября 1954 года. Днем читали отчеты об освобождении Нейрата. Тем же вечером Аденауэр отправил ему поздравительную телеграмму, и даже Хойе ему написал. Такое внимание со стороны представителей новой Германии произвело глубокое впечатление на всех нас, даже на Дёница с Гессом.
Выйдя на свободу, Нейрат с тревогой спросил репортера:
– Как же теперь мой сад без меня?
Во время ужина Редер вместо своей чашки налил кофе в сахарницу.
10 ноября 1954 года. Все до сих пор взбудоражены освобождением Нейрата. Сегодня я, чтобы успокоиться, прошел восемьдесят девять бобов, или 24,1 километра, со средней скоростью 4,65 километра в час. Функ хмуро наблюдал:
– Полагаю, вы хотите стать деревенским письмоносцем.
12 ноября 1954 года. Два дня после прогулки лежу в постели. Правое колено распухло, на ногу наложили шину. Как затуманенная память деформирует чувство времени! Я сказал санитару, что в последний раз проблемы с коленом были у меня два года назад; а судя по медицинской карте, прошло уже пять лет. Незаполненное время не поддается измерению; строго говоря, нет событий – нет времени.
24 ноября 1954 года. Уже несколько дней газеты публикуют короткие отчеты на последних полосах о дебатах в ООН по поводу признания принципов Нюрнберга в качестве основы международного права. Дёниц, Ширах и Редер, естественно, язвят, как будто это мое личное поражение. И должен признать, это повлияло на мое восприятие самого себя. Для меня Нюрнберг никогда не был только лишь возмездием за прошлые преступления. До сегодняшнего дня надежда на то, что принципы процесса станут Международным правом, придавала мне силы. Теперь, как оказалось, их готовы принять лишь немногие страны.
Чем я могу ответить на обвинения, кроме молчания?
25 ноября 1954 года. С точки зрения товарищей по заключению, если только они не видят во мне заурядного оппортуниста, у меня развился комплекс вины в духе Достоевского, некая форма мазохизма, которая затрагивает не только меня, но и весь немецкий народ. Даже если они этого не говорят – а говорят они довольно часто, – они думают, что я играю на публику.
Но неужели моя позиция настолько необычная, настолько странная? Недавнее прошлое полностью дискредитировало понятие «здоровых инстинктов людей». Но некоторые инстинкты все же преобладают. Вне всяких сомнений люди инстинктивно чувствуют, что дозволено, а что – нет, причем независимо от всех правовых аспектов. Каждый человек знает, как поступать нельзя – как бы неуклюже ни выражал я свою мысль здесь. Иногда мне кажется, что простые чувства людей служат более надежным проводником к порядочности, чем любые законы.
В сущности, Дёниц, Ширах и Функ отрицают очевидное. Вспоминаю один случай в конце 1941 года, подтверждающий мою правоту. Я сидел на скучном обеде в рейхсканцелярии, который, казалось, никогда не кончится. Во время разговора Геббельс стал жаловаться Гитлеру на берлинцев: «Введение звезды Давида возымело совсем не то действие, на которое мы рассчитывали, мой фюрер. Нашей целью было исключить евреев из общества. Но люди на улицах не сторонятся их. Напротив. Им все сочувствуют. Эта нация еще не созрела, она излишне подвержена идиотской сентиментальности». Неловкость. Гитлер молча помешивает свой суп. Все мы, сидевшие за большим круглым столом, в основной своей массе, не были антисемитами и предпочли бы услышать о наступлении на Востоке. Дёниц и Редер тоже не были антисемитами. Но в то время мы пропустили эти слова мимо ушей. Однако они засели у меня в памяти, и теперь я вижу в них доказательство природного, практически врожденного чувства добра, присущего людям. Так я думал в Нюрнберге, так я думаю сейчас.
26 ноября 1954 года. Уже две недели лежу в кровати из-за распухшего колена. Каждый день меня навещает русский врач. Удивительное проявление сочувствия со стороны других заключенных. Ширах приносит мне еду и убирает в камере; Редер каждый день обменивает мне книги; Гесс заходит поболтать. Даже охранники пытаются меня подбодрить. Только Функ и Дёниц, похоже, испытывают стойкую неприязнь к болезни.
Держусь на восьми таблетках аспирина в день и пишу страниц двадцать мемуаров ежедневно. Все еще описываю период работы архитектором.
Интересно, Гитлер когда-нибудь обращал внимание, что за все годы до назначения на пост министра я не произнес ни одной политической фразы? Полагаю, он даже не замечал. Точно так же он только через несколько лет с удивлением, но без особого интереса узнал, что я был членом партии с 1931 года. Ему было глубоко наплевать, состоят ли уважаемые им художники – от Брекера и Торака до Хильца и Пейнера или Фуртвенглера и Ойгена Йохума – в национал-социалистической партии. Он всех их считал политически слабоумными. В определенном смысле он и ко мне подходил с теми же мерками. В 1938 году за несколько дней до открытия ежегодной выставки в Доме германского искусства мы небольшой группой сидели в любимом итальянском ресторане Гитлера «Остерия-Бавария» в Мюнхене. Вдруг Адольф Вагнер, гауляйтер Баварии, ни с того ни с сего стал рассказывать, что недавно обнаружил коммунистическую прокламацию, которую подписали многие люди искусства. Манифест, о котором шла речь, был опубликован незадолго до захвата власти, и на нем, среди прочих, стояла подпись Йозефа Торака.
Я застыл. Торак был до известной степени «моим» скульптором, который часто делал эскизы статуй и барельефов Для моих зданий, а в прошлом году изваял группу фигур Для немецкого павильона на Всемирной выставке в Париже. По словам Вагнера, такой человек не имеет права оформлять великие строения для территории партийных съездов в Нюрнберге, которые на многие века станут объектом восхищения и преклонения. Я был уверен, что теперь Торак для меня потерян. Если бы он занимал какую-нибудь должность в партии, Гитлер в ту же секунду его уволил. Но в этом случае Гитлер пренебрежительно ответил: «Ну вы же знаете, я не принимаю всерьез подобную чепуху. Нельзя оценивать художников по их политическим взглядам. Они занимаются творчеством, и воображение лишает их способности мыслить реалистически. Пусть Торак остается. Люди искусства простодушны. Сегодня они подписывают одно, завтра – другое; они подписывают, даже не глядя, если им кажется, что это во благо».
28 ноября 1954 года. Хотел сделать что-нибудь приятное Тони Влаеру и сегодня нарисовал для него главную трибуну Цеппелинфельда в Нюрнберге. В знак благодарности он рассказал, какое сильное впечатление это здание недавно произвело на него. И хотя я решительно попрощался с миром, который олицетворяет эта территория партийных съездов, я чувствую странную радость от того, что Цеппелинфельд еще не уничтожили.
Меня до сих пор это волнует!
После окончания съезда партии в 1938 году Гитлер вызвал меня на совещание. Он подробно рассматривал события прошедшей недели, раздавая награды и наказания. «Некоторые действия наконец обрели окончательную форму, – объявил он. – Я говорю о демонстрации гитлерюгенда, параде Имперской службы труда и ночном выступлении партийных чиновников на Цеппелинфельде. Панихида по солдатам СА и СС на Арене Луитпольда тоже прошла на высоком уровне. Мы должны придерживаться твердого порядка проведения таких мероприятий, чтобы, пока я жив, они стали неизменными ритуалами. Это означает, что потом никто не сможет их испортить. Я боюсь, что мои преемники будут испытывать тягу к нововведениям. Возможно, будущие лидеры рейха не смогут добиться тех же результатов, что я, но эта структура обеспечит им поддержку и власть».
До этого момента я воспринимал фразу «Das Tausendjahrige Reich» – «Тысячелетний рейх» – как исключительно риторическую фигуру речи, стремление увековечить себя, оставить нечто значительное после своей смерти. Но увидев, как Гитлер буквально канонизирует ритуал подобным образом, я впервые осознал, что все эти формирования, шествия, посвящения были частью хорошо продуманной пропаганды. Теперь я до конца понял, что для Гитлера они были сродни церемонии основания церкви. За два года до этого, к примеру, когда он обдумывал порядок проведения панихиды по погибшим 9 ноября в Мюнхене, он открыто использовал в официальном документе псевдорелигиозный термин «паломничество национал-социалистов».
Я до сих пор помню свое удивление от того, что все это действовало и на самого Гитлера. Он стал сдерживать себя ради «обряда» и в Нюрнберге больше не демонстрировал свои ораторские способности в полную силу. Вместо этого он стал выдвигать на первый план архитектуру и концентрацию толпы, так что грандиозный антураж церемонии заменил, так сказать, саму церемонию. Я был удивлен, наверное, потому, что не мог совместить эту на вид сдержанную скромность с его претензией на величие. Теперь мне кажется, что он умышленно уступил статус прославленного народного героя ради того, чтобы обрести великое звание основателя религии.
30 ноября 1954 года. Воспоминания нахлынули сплошным потоком. Сегодня я долго думал над вопросом, почему Гитлер именно меня выбрал своим архитектором и именно мне доверил строительство своих святынь. С точки зрения происхождения и образования, напыщенный и кичливый мир Гитлера был чужим для меня. Он сам намекал, что ему нужен молодой талантливый архитектор, еще не испорченный посторонним влиянием, из которого он вылепит то, что захочет, tabula rasa. Вероятно, я подходил под эти критерии.
Сегодня по камерам ходил с проверкой британский комендант Берлина. Что-то готовится! В конце октября здесь побывал американский комендант, хотя это был не американский месяц, а две недели назад мы принимали советских высокопоставленных посетителей.
Гесс отгородился от генерала стеной возмущенного молчания. Ширах, желая произвести хорошее впечатление, поклонился со словами: «Благодарю за визит». Функ поблагодарил генерала за то, что тот навестил его в госпитале. Дёниц подал прошение о проведении операции на мочевом пузыре. В моей камере генерал ограничился парой сочувственных слов по поводу моего колена. Редер пожаловался На полковника Катхилла, который почти два года назад объявил об улучшении условий, в частности, обещал разрешить встречи с адвокатами и переписку с друзьями. Обещания до сих пор не выполнены.
1 декабря 1954 года. Сегодня Катхилл явился в камеру к Редеру и сердито сообщил:
– Генерал рассмотрел ваши жалобы и признал их необоснованными.
В знак протеста Редер отказался встать.
– И все равно я прав, – заявил он.
Катхилл в бешенстве развернулся на каблуках.
– Возмутительно, возмутительно!
Вечером американский директор сообщил Редеру, что по решению четырех директоров ему выносится предупреждение за сфабрикованную ложь. Но Редер, не обращая внимания, снова повторил:
– И все равно я прав!
Вообще-то я тоже присутствовал, когда нам давали эти обещания.
Хотя я стараюсь держаться в стороне от всего этого, меня огорчает их обращение с Редером, его отчитывают, как нашкодившего школьника. Если они не желают уважать его воинское звание, могли бы по крайней мере проявить уважение к старости – ведь он на несколько десятков лет старше их.
9 декабря 1954 года. Слабость и озноб. Кашляю кровью. Молодой лейтенант медицинской службы утверждает, что у меня бронхит. Без всякого осмотра он прописал две таблетки аспирина каждые два часа.
Прошлой ночью я внезапно стал задыхаться. И одновременно появилась острая боль в груди. Я сел в кровати; неприветливый русский включал свет каждые десять минут, как будто больной с температурой представлял повышенную опасность побега. Кроме этого, он ничего не сделал.
10 декабря 1954 года. Сегодня я сам простучал свою грудь. Те же глухие звуки я слышал десять лет назад. Неужели снова инфаркт легкого? Моя кровавая мокрота наконец встревожила лейтенанта, и он тоже простукивает мою грудь. Хотя он отмечает слабые глухие звуки, он настаивает на своем диагнозе – бронхите. У меня нет сил, будь что будет. Я не испытываю страха, почти не чувствую раздражения; скорее что-то похожее на облегчение.
12 декабря 1954 года. Вчера Лонг всерьез обеспокоился, увидев следы кровавой мокроты. Через два часа приехал высокопоставленный американский врач и сразу обнаружил жидкость в легких. С помощью переносного аппарата из американской больницы сделали рентген. Приговор таков: инфаркт легкого.
16 декабря 1954 года. Дни апатии – ни книг, ни газет, ни аппетита. Смутно, как будто сквозь пелену, понимаю, что мое состояние вызвало споры. Катхилл положил им конец, приказав немедленно перевести меня в лазарет, несмотря на возражения русских. Переводом занимался Хокер. Террей был вне себя.
– Такое решение могут принять только все четыре директора, – заявил он.
– Для меня имеют значение только приказы моего директора, – равнодушно ответил Хокер.
19 декабря 1954 года. Три дня лежу в лазарете, семь на пять метров. Светлая комната с двумя настоящими окнами. Хорошая больничная койка.
24 декабря 1954 года. Несколько раз в день по пятнадцать минут сидел в кресле из рейхсканцелярии, сделанном по моему проекту. В нем приятно сидеть. «Вы теперь быстро пойдете на поправку», – сказал сегодня врач.
В часовню меня привезли на каталке. И во время службы мне пришлось лежать.
Позавчера приезжала жена. Она навестила меня в лазарете и привезла домашнюю запись сонаты Баха: Хильда играет на флейте, Альберт – на виолончели, а Маргарет – на фортепиано.
29 декабря 1954 года. Мои подсчеты оказались верными. Я хотел закончить мемуары к 1 января и сегодня написал заключение к книге. Конец получился немного скомканным, но я все отчетливее понимаю, что это лишь первый черновой вариант. Вопреки моим первоначальным замыслам, я закончил книгу смертью Гитлера. Мой арест, процесс и приговор стали эпилогом. Мне также кажется, что годы в Шпандау не относятся к концу того периода моей жизни, а являются началом нового этапа.
Вот и пришел конец трудоемкой, временами грустной работы, на которую я потратил два года. Взгляд в прошлое сам по себе потребовал бы от меня много сил. Думаю я правильно поступил, упорно продолжая работать над мемуарами здесь, в этих обстоятельствах, под постоянным страхом разоблачения. Это чудо, что все получилось. Из Гейдельберга написали, что рукопись насчитывает примерно тысячу сто машинописных страниц.
6 января 1955 года. Задолго до Рождества я много размышлял о том, как мне как отцу стать ближе своим детям, которые не знают меня, не знают, что я за человек. Я задумался, что трогало меня в детстве, и вспомнил, как мой отец вешал на елку сосиску для нашей собаки.
Сегодня пришло письмо от детей, свидетельствующее об успехе моего замысла. Они во всех подробностях описали, как такса, слишком хорошо воспитанная, долго сидела под елкой и несколько раз просила сосиску, прежде чем поверила их ободряющим словам и наконец схватила лакомство. Больше всего меня тронуло, что одиннадцатилетний Эрнст, который знает меня только по письмам, выступил перед собакой с речью, а Хильда случайно ее услышала. «Знает ли она, откуда взялась сосиска? – спрашивал Эрнст. – От папы, который предложил в письме повесить ее на елку. Поэтому такса должна быть благодарна папе». В первый раз я оказал какое-то влияние на детское Рождество. Словно разделил праздник с ними.
7 января 1955 года. Снова в камере. Перед тем как войти, бросил последний взгляд на ворота, от которых был всего в нескольких метрах.
Первые несколько часов в узкой камере обрушились, словно удар по голове. Сердце билось неровно, пульс участился, временами подпрыгивая до ста двадцати.
13 января 1955 года. Хотя я уже несколько дней принимаю успокоительные, сегодня потерял самообладание во время визита британского доктора. Я сказал, что он нарушает свои врачебные обязательства, он отправил больного человека в камеру, я больше не могу это терпеть. Я все больше выходил из себя и под конец выкрикнул, что здесь все думают только о наказании, что мне просто необходимо вернуться в лазарет. Доктор терпеливо и с видимым беспокойством выслушал мою тираду. Впервые за почти десять лет я потерял над собой контроль. Мое психическое состояние явно взволновало его больше, чем физическое, во всяком случае теперь я должен принимать таблетки, которые он мне выписал на несколько дней, только под надзором[14]14
Вот что было записано в официальной истории болезни заключенного №5:
«Этим утром заключенный пребывал в сильном душевном волнении. Он с горечью жаловался, что его слишком рано перевели из палаты в камеру и что его, больного человека, несправедливо наказывают. Он был в таком эмоциональном состоянии, что не слышал разумных объяснений.
Днем он заметно успокоился, извинился за утреннюю вспышку и пожаловался на бессонницу, состояние тревоги и сильное сердцебиение.
Наблюдение показало, что у него острая депрессия с компонентом тревоги, и следует принять особые меры, чтобы он себя не покалечил.
14.01.55. Сегодня утром значительно спокойнее. Принимать: 1) таблетки... [неразборчиво] 2) «Мединал» гр. X на ночь, 2 ночи.
Заключенный не должен принимать лекарства сам. Их нужно ему давать и следить, чтобы он их проглатывал. Если он соберет их в большом количестве и примет, это будет легкий способ самоубийства. На ночь – каша.
Подпись капитана
Делать копию для начальника охраны. Таблетки должен давать охранник или присутствовать при их приеме.
Подпись британского директора».
[Закрыть].
22 января 1955 года. Дружеская беседа с другим британским врачом, который оказался психиатром.
– Ваш срыв стал результатом потрясения, – объяснил он. – от возвращения в камеру и слабости после долгой болезни.
Гесс тоже беседовал с ним около часа. Мне удалось заглянуть в историю болезни Гесса, и я обнаружил там следующую запись: «Его боли, по всей видимости, истерического характера. В психиатрическом лечении нет необходимости. Обращаться с ним спокойно, но твердо».
7 февраля 1955 года. К нам прибыл первый профессиональный американский охранник. Раньше он работал в учреждении для психически больных заключенных. Бывший футболист с круглым добродушным лицом. Он смеется все дни напролет и рассказывает дурацкие анекдоты, в которых не юмор вызывает смех, а выражение лица шутника. Ему дали прозвище Моби Дик.
Русский предложил называть новичка Санчо Панса. Но большинство западных охранников были бы смущены, спроси их, что это за имя. Они довольствуются чтением детективов и решением кроссвордов или просто дремлют, в то время как русские изучают химию, физику и математику; они читают Диккенса, Джека Лондона или Толстого и прекрасно разбираются в мировой литературе.
5 марта 1955 года. Во время дневного перерыва Гурьев приносит газеты. Ширах берет «Курьер», газету из французского сектора. Он быстро пробегает ее глазами и возвращает русскому.
– Вот, – говорит он, – с одной газетой уже разделался.
Потом он берет «Ди Вельт», так же быстро ее просматривает и радостно сообщает:
– И с этой покончено. Быстро мы их читаем, да?
«Берлинер Цайтунг», издаваемую под контролем русских, он засовывает подмышку и с довольным видом идет в камеру.
Если «Берлинер Цайтунг» нам выдает западный охранник, мы при любой возможности бросаем презрительные замечания, а если ее выдает русский, мы принимаем заинтересованный вид. Когда Функ получает «Берлинер Цайтунг» от западного охранника, он, как правило, говорит: «Можете забрать ее назад» – и демонстративно вычеркивает свой номер. Но русскому он поет сладким голосом: «О, огромное спасибо» – и возвращается в камеру, изображая радость от предстоящего удовольствия. Ширах нашел идеальное решение. Западному охраннику он говорит, беря газету: «Я только разгадываю кроссворд, в этом желтом листке больше нет ничего хорошего». И он в самом деле разгадывает кроссворд. Но в присутствии восточных охранников он восхищается: «Как интересно!»
Ко мне подходит Функ с «Берлинер Цайтунг».
– Вот здорово! – восклицает он. – Здесь есть вся речь Молотова, вам непременно надо прочитать ее сегодня же!
Я делаю вид, что сгораю от нетерпения.
– Дайте мне газету, пожалуйста. Вы же знаете, мне очень интересно. Вся речь, говорите?
Дёниц, утверждающий, что всегда говорит прямо и честно недавно заметил Гурьеву, когда тот по ошибке повторно выдал ему «Берлинер Цайтунг»:
– Нет, спасибо, я уже внимательно ее прочитал. Все превосходно.
На днях он попал в неловкое положение. Лонг стоял поблизости, когда Дёниц сказал Семиналову:
– Жена говорит, у «Ди Вельт» плохая репутация. Ее полностью контролируют англичане. Нельзя верить ни одному ее слову.
Сзади подошел Лонг и с чувством собственного превосходства спросил:
– И что же в нас такого плохого?
Дёниц круто развернулся и чуть не сгорел со стыда. А потом выпалил без всякого смысла:
– Британская демократия – самая старая в мире. – Как только Гурьев ушел, он добавил: – И, конечно же, самая лучшая. Это мое глубокое убеждение.
С этими словами он отправился в камеру. Перед дверью он повернулся и снова заверил всех присутствующих:
– Я всегда говорю, что думаю.
19 марта 1955 года. Сегодня мне исполнилось пятьдесят лет.
По чистой случайности именно сегодня я прошел последнюю часть пути до Гейдельберга. Пока я наматывал круги в саду, вышел Гесс и сел на свою скамейку. Она представляет собой два кирпичных основания, на которых лежит узкая доска. Он оперся на колышки, поддерживающие помидоры, чтобы не прислоняться спиной к холодной стене.
– Теперь собираюсь в Мюнхен, – сказал я, проходя мимо него на предпоследнем круге. – Потом в Рим и дальше – на Сицилию. Сицилия в Средиземном море, поэтому после нее идти уже некуда.
Завершив последний круг, я остановился и сел рядом.
– Почему бы не пойти в Азию через Балканы? – спросил Гесс.
– Там везде коммунисты, – ответил я. – Но, может быть, я смогу пройти в Грецию через Югославию. А оттуда через Салоники, Константинополь и Анкару в Персию.
Гесс кивнул.
– Так вы доберетесь до Китая.
– Там тоже коммунисты, – покачал головой я.
– Тогда на Тибет через Гималаи.
Этот маршрут я тоже отклонил.
– И там коммунисты. Но можно пересечь Афганистан и дойти до Индии и Бирмы. Интереснее было бы отправиться через Алеппо, Бейрут, Багдад и по пустыне в Персеполь и Тегеран. Долгий поход по жаре, кругом сплошная пустыня. Надеюсь, я найду оазисы. Во всяком случае, теперь у меня есть хороший план. Четыре тысячи километров с лишним: пока мне этого хватит. Вы помогли мне выбраться из затруднительного положения. Большое, большое спасибо, герр Гесс.
С легким поклоном, будто мы на дипломатическом приеме, Гесс ответил:
– Рад помочь, герр Шпеер.
Вечером тщетно пытался вспомнить, как раньше проходили мои дни рождения. Только один заслуживал внимания: десять лет назад, когда мне исполнилось сорок. В тот день я вручил Гитлеру докладную записку, которую потом детально обсуждали в Нюрнберге.
Рано лег спать и, как обычно, помолился за благополучие семьи и друзей.
25 марта 1955 года. Мои отношения с Дёницем становятся все хуже и хуже. В последнее время Дёниц пытается завязать дружбу с Редером – эти двое, бывший верховный главнокомандующий ВМС и его преемник, до настоящего момента оставались злейшими врагами, даже в этих стенах. С другой стороны, Редер испытывает такую жгучую ненависть к Гессу, что она принимает гротескную форму, и никакие перемены места или времени не могут это изменить.
16 апреля 1955 года. Десять лет назад, за четыре дня до последнего дня рождения Гитлера, подполковник фон Позер, мой офицер связи с Генштабом, разбудил меня среди ночи. Мы договорились поехать на Одер и посмотреть последнее решающее наступление на Берлин. Я давно выбрал холм на территории моего поместья близ Эберсвальде, с которого хорошо просматривались берега Одера. До войны собирался построить там небольшой загородный дом. Вместо этого пришлось вырыть траншею для наблюдения.
Почти два часа мы ехали по восточным окраинам Берлина, по бесплодной земле, которая еще хранила на себе следы зимы. Повсюду мы натыкались на запряженные лошадьми повозки со скарбом и беженцами. Рядом с одной повозкой бежала собака. Когда мы подъехали, она остановилась посреди дороги, ее глаза тускло поблескивали в свете затемненных фар. Мы ожидали увидеть страшную суматоху за главным оборонительным рубежом, думали, здесь будут сновать курьеры на мотоциклах, будут идти колонны транспорта снабжения, войска. Вместо этого здесь царило странное затишье; мы не увидели ничего, кроме пустоты и апатии. Порой мы попадали в плотные объятия тумана. Тогда приходилось включать стеклоочистители. По мере приближения к Одеру до нас изредка доносились звуки артиллерийской стрельбы, но вскоре и они стихли. Около моего поместья мы встретили лесничего. Он слышал, что немецкие войска отступают с самого утра, и сказал, что скоро здесь будут русские. Все кругом казалось призрачным, жутковатым; я впервые до конца понял значение выражения «ничейная земля». Но лесничий настоятельно советовал нам уехать; нам нельзя здесь оставаться, повторял он. Мы поспешно собрали плащ-палатки и, избегая крупных дорог, направились по заброшенным лесам на запад.
20 апреля 1955 года. – Вы знаете, какой сегодня день? – спросил меня коренастый Ростлам.
– Да, двадцатое, – ничего не подозревая, ответил я.
Он бросил на меня многозначительный взгляд, словно приготовил мне какой-то сюрприз.
– Сегодня особенный день?
Я не мог понять, к чему он клонит. Наконец я сказал:
– Ах да, конечно, сегодня должен приехать британский директор.
Ростлам вышел из себя.
– Не притворяйтесь тупым! – рявкнул он. – Вы прекрасно знаете, о чем я говорю.
Только тогда до меня дошло. Но что бы я ни сказал, он бы все равно не поверил, что я забыл о десятой годовщине последнего дня рождения Гитлера. Вообще-то мне тоже кажется это странным. Не понимаю, почему эта дата вылетела у меня из головы. Больше того, мне даже неинтересно, почему это произошло.
Совсем недавно – скажем, во время церемонного празднования дня рождения Гитлера в 1939-м – кто из нас мог представить, что некоторое время спустя между двумя высокопоставленными гостями произойдет подобная сцена? Гесс вытаскивает колышек из грядки, на которой Редер выращивает помидоры, и приспосабливает его вместо спинки для своей скамейки. Это видит Редер. Размахивая тростью, он наскакивает на погруженного в задумчивость Гесса и начинает осыпать его ругательствами. Гесс говорит иронично-утешающим тоном:








