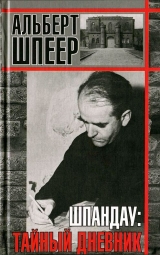
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
2 марта 1962 года. Вчера во время свидания с женой в комнату зашли советский и американский директора. Как обычно, я приподнялся со стула и пожелал им «доброго дня». Двадцать минут спустя, когда меня вели обратно в камеру, американский директор остановил меня и сказал, вполне дружелюбно:
– Прошу прощения, но вы не поздоровались со мной должным образом.
Я непонимающе уставился на него.
– Но я же встал.
– Вам известно, что я об этом думаю, – покачал головой он. – Но позвольте дать вам хороший совет. В следующий раз вставайте, как солдат.
– Но я никогда не был солдатом, – в отчаянии проговорил я.
Он посмотрел на меня с некоторой тревогой.
– Вы должны понимать, что это военная тюрьма.
4 марта 1962 года. Сегодня Садо зачитал мне запись из тюремного журнала: «Наложить взыскание на номер пять за неподобающее поведение во время свидания: в течение недели запрещается читать книги или газеты. В случае повторного нарушения будет применено более строгое наказание».
Ширах язвительно заметил:
– Это наказание явно придумал американский директор, а не русский.
Но Пиз с сочувствием произнес:
– Я этого не понимаю. Вы поздоровались с ними, как обычно. Вы все эти годы так здоровались. Но может быть, это как-то связано с Ширахом, который всегда раскланивается так, что его шапка пол подметает.
4 марта 1962 года. Никаких книг и газет. Но охранники по очереди заходят ко мне в камеру и рассказывают, что пишут в газетах. Никто не принимает наказание всерьез.
5 марта 1962 года. Сообщив последние новости, Шарков рассказал мне о своих впечатлениях от функционеров СЕПГ[22]22
Sozialistische Einheitspartei Deutschland, SED – Социалистическая единая партия Германии, правящая партия в Восточной Германии.
[Закрыть]. Судя по всему, они здорово его напугали своей дисциплиной и сдержанностью.
– Немцы при Гитлере – ужасно, – сказал он. – И при Ульбрихте – ужасно. Все всегда идеально. Кругом порядок. – И с неожиданным переходом на меня: – И вы с вашим садом тоже.
9 марта 1962 года. Отношения с Ширахом снова дошли до нижней точки. Между нами все время возникают какие-то трения, и я давно пытаюсь понять, что меня так раздражает в нем. Конечно, дело не только в разных темпераментах и характерах, не только в разном отношении к прошлому. Вероятно, основная проблема заключается в том, что ему некуда отступать, у него нет того, что я называю путями отхода, без которых ни один человек не может находиться в мире с самим собой. Для меня такими путями отхода была и есть архитектура; для Дёница и Редера – их военное искусство; для Нейрата – происхождение и дипломатия. У Шираха же ничего нет. Ему было лет пятнадцать-шестнадцать, когда он познакомился с Гитлером, и вскоре во время учебы в университете Гитлер стал центром его мироздания. Он не получил никакой профессии, никогда не занимался настоящим делом; он был всего лишь функционером.
Иногда я думаю о том, что значила для него литература, его поэзия. Его всегда считали одним из ведущих лириков Третьего рейха. Но пишет ли он что-нибудь здесь? Я ни разу не слышал от него ни слова об этом. И в то же время, как учит нас история европейской литературы, тюрьма стимулирует творческий процесс. Сколько великих произведений было создано в тюремных камерах! Что касается Шираха, по-моему, его поэзия была для него просто работой функционера; она рождалась не из художественного темперамента или желания придать форму действительности, а из стремления угодить. И как только не стало предмета его поклонения, поэзия тоже кончилась; его творчество умерло вместе с Гитлером.
По-видимому, именно это стоит между нами. Мы оба считаем себя художниками. Но в строгом смысле этого слова он, вероятно, таковым не является.
10 марта 1962 года. Перечитал все, что написал вчера, и испытал легкое потрясение. Разве это не относится и ко мне? Почему я не рисую? Аргументы, что все проекты, составленные здесь, никогда не будут выполнены, звучат неубедительно. Булле, Леду и даже мой любимый Жилли часто работали только на чертежной доске. Что я мог бы создать за эти шестнадцать лет заключения? Поскольку в историю архитектуры я уже не войду, я мог бы, по крайней мере, отвоевать себе место с помощью грандиозных замыслов. Мне тоже недостает желания придать форму действительности? Стремления создать что-то свое? Неужели мои творческие способности тоже зависели только от Гитлера?
12 марта 1962 года. Неделя наказания закончилась. Советские охранники сначала вели себя сдержанно, но вскоре стали приветливыми и дружелюбными. Сегодня американский и британский директора нанесли мне совместный визит. Даже Андрысев зашел ко мне в камеру после окончания наказания. В тот момент я лежал на кровати и ел незаконный шоколад.
– Не вставайте, пожалуйста, не вставайте, – остановил он меня, не обращая внимания на шоколад.
А неделю назад меня наказали за то, что я неправильно встал. Только Ростлам никак не успокоится:
– В Шпандау так мало правил; можно было бы хотя бы их соблюдать.
Во время наказания я решил, что чтение четырех газет – это лишнее напряжение нервов и напрасная трата времени. Так что теперь я отказался от «Курьера» и «Берлинер Цайтунг» и ограничиваюсь только «Ди Вельт» и «Франкфуртер Альгемайне».
14 марта 1962 года. Хочу еще раз вернуться к своим отношениям с Ширахом: возможно, я не разрабатывал никаких проектов, кроме нескольких загородных домов для охранников – ни театров, ни школ, ни административных зданий, – потому что тюрьма привела меня в состояние ступора. Должен признать, что мешают мне не внешние обстоятельства – ведь я написал тысячи, если не десятки тысяч, заметок. По-видимому, здесь, в Шпандау, я подвергаюсь какому-то внутреннему, психологическому давлению, которое имеет отношение не столько к моему наказанию, сколько к чувству вины.
Но если это так и я таким образом оправдываю себя, значит, в определенном смысле я должен оправдать и Шираха. Неужели я способен понимать только одного себя?
19 марта 1962 года. Сегодня на завтрак ел печенье, которое прислала Хильда. Ульф забыл вовремя достать его из духовки, и оно ужасно твердое. Когда я его жую, раздается страшный хруст, поэтому я осмеливаюсь его есть только под аккомпанемент пролетающего над головой самолета.
25 марта 1962 года. Несколько дней назад мой друг Джек принес мне карманный транзистор. В камере я держу его в заднем кармане, а наушники прячу под лыжной шапочкой. Видно только несколько сантиметров белого провода, но я лежу на кровати, развернув перед собой газету, так что я надежно скрыт от любопытных глаз.
Портативный приемник производства японской фирмы «Сони» – техническое чудо. Я могу слушать Штутгарт, мою «домашнюю станцию», которая всего в часе езды от нашего дома. Сегодня впервые за семнадцать лет я побывал на музыкальном представлении, слушал приглушенные голоса зрителей, звуки инструментов, меня охватило это восхитительное чувство торжественности и ожидания, которое всегда предшествует исполнению музыкального произведения. Я думал, что слушаю Берлин, но оказалось – Зальцбург.
Громкий разговор в коридоре. Я быстро убрал приемник. Американский директор велел охраннику открыть камеру.
– Директора решили, что вы должны вернуть ботинки, которые получили в подарок на день рождения. Они не подходят к тюремной одежде. Мы выдадим вам другую пару.
Такова реальность.
3 апреля 1962 года. На протяжении нескольких месяцев в плохую погоду я занимаюсь ремонтом нашей часовни. Хочу сделать ее темно-синей, цвета мозаики на гробнице Галлы Плацидии, алтарь будет накрыт богатой желтой парчой, мебель будет темно-красного цвета, а пол почти черным – что-то наподобие пещеры, освещенной свечами. Но сегодня мои замыслы рухнули. Директор Андрысев приказал выкрасить часовню в небесно-голубой цвет.
12 апреля 1962 года. Прошлой ночью во сне я, как спортсмен, перемахнул через высокую тюремную стену и очутился в дивном ландшафтном саду, по красоте ничуть не уступающим Хенералифе в Гранаде. Огромные розовые кусты, цветочные клумбы и фонтаны. Никогда не думал, что по ту сторону стены меня ждут такие чудеса садоводства. На рассвете я захотел вернуться в тюрьму, но заблудился среди аллей и внезапно оказался на воле, без всякого надзора. В страхе и неуверенности я стал искать дорогу в тюрьму, но все время попадал не туда. Охваченный паникой, я побежал. Наконец я нашел стену, но не смог через нее перелезть. Я проснулся с бешено бьющимся сердцем.
16 апреля 1962 года. Я сам выбрал бархатный алтарный покров. Он гармонирует с желтыми свечами в массивном канделябре, который Курт Шарф, глава Евангелической церкви Германии, пожертвовал для нашей отремонтированной часовни. Еще нам передали две красивые вазы; летом я поставлю в них цветы.
Теперь в часовню ходят, как на выставку. Ни один директор во время посещения тюрьмы не упускает случая взглянуть на мои архитектурные достижения.
17 апреля 1962 года. Одиночество, глубокий снег, тайга. Я в нескольких сотнях километров к северу от Охотска. Меня окружают бескрайние леса; вдали виднеются дымящие вулканы, на их склонах притаились глетчеры. Я проходил мимо горячих источников, вокруг них уже вовсю цветут фиалки. Осталось еще примерно две тысячи километров до тоннеля через Берингов пролив, куда я должен добраться недель через шестьдесят.
20 апреля 1962 года. Маргарет, наша вторая дочь, сегодня вышла замуж за молодого востоковеда. Слушал «Коронационную мессу» Моцарта, потом «Те Деум» Брукнера. Ровно в десять минут шестого входит Лоу с большим стаканом рома и сообщает, что по собственной инициативе написал в Гейдельберг. Он попросил всех собравшихся выпить за молодоженов ровно в пятнадцать минут шестого – а я выпью вместе с ними.
30 мая 1962 года. Через два с лишним месяца я снова читаю все четыре наши газеты. Мне не хватало статей о театре и концертах и новостей о восстановлении и городском планировании. «Берлинер Цайтунг» – печальное, но полезное дополнение.
12 июля 1962 года. В «Франкфуртер Альгемайне» семья Шираха объявила о помолвке одного из своих сыновей. Полное имя нашего товарища по заключению – Бальдур Бенедикт фон Ширах. Гесс комментирует:
– Ширах говорил мне, что все мальчики из их рода получали имя Бенедикт; все девочки – Бенедикта.
Потом саркастически добавляет:
– Вы не знали? В прошлом он скрывал от нас этот католический довесок к арийскому Бальдуру.
9 августа 1962 года. Сегодня американский солдат крикнул с вышки по-английски:
– Мистер Шпеер, мне нравится ваш сад. Он замечательный.
14 августа 1962 года. Несколько месяцев назад Гесс устроил страшную перепалку с британским стоматологом. Врач хотел удалить его последние шесть зубов, потому что каждый раз, когда у него портится очередной зуб, приходится ставить новые коронки и мосты, а это слишком хлопотно. Тогда Гесс написал петицию директорам. Ему удалось добиться следующего постановления: любые операции на теле заключенного проводятся только с письменного согласия заключенного.
После того как французский зубной врач тоже решил, что все зубы необходимо удалить, рот Гесса осмотрела советская врач-стоматолог. Ее вердикт: «Зубы убрать». Тогда Гесс потребовал консультации американского стоматолога. Вчера в лазарет явился американец в сопровождении трех ассистентов и с портативным рентгеновским аппаратом. Он пришел к заключению, что все шесть зубов здоровы, и объявил: «Мой принцип – удалять только в случае необходимости». Теперь этот человек занимается нашими зубами. Гесс победил. Сегодня он наслаждался триумфом и провозгласил:
– По одному дантисту на каждые полтора зуба!
13 сентября 1962 года. Странный сон. Гитлер должен приехать с инспекцией на завод. Я еще в должности рейхсминистра, но я сам беру в руки веник и помогаю вымести мусор с завода. После инспекторской проверки я вижу себя в машине. Я пытаюсь надеть китель, который снял перед тем, как подметать, но безуспешно: я не могу попасть в рукав. Рука постоянно оказывается в кармане. Мы приезжаем на широкую площадь, окруженную правительственными зданиями. С одной стороны я вижу памятник воинам. Гитлер направляется к нему и кладет венок. Мы входим в мраморный зал – это вестибюль какого-то официального учреждения. Гитлер спрашивает у адъютанта: «Где венки?» Адъютант с укором выговаривает офицеру: «Вы же знаете что он теперь повсюду возлагает венки». Офицер одет в светлую, почти белую форму из ткани, напоминающей тонкую перчаточную лайку. Поверх мундира на нем надета широкая накидка, украшенная вышивкой и кружевами. Приносят венок. Гитлер переходит на правую половину зала, где расположен еще один памятник воинам, у подножия которого уже лежит много венков. Гитлер опускается на колени и запевает заунывную песнь в стиле григорианского хорала, снова и снова повторяя тягучую строчку «Аве Мария». Стены огромного мраморного зала заполнены мемориальными досками. Гитлер один за другим кладет венки, которые ему подают суетливые адъютанты. Его скорбная песнь звучит все более монотонно; череда мемориальных досок кажется бесконечной. Офицер пытается улыбнуться, но на него осуждающе смотрит вся гитлеровская свита[23]23
См. толкование этого сна в книге Эриха Фромма «Анатомия человеческой деструктивности»: «Этот сон интересен по многим соображениям. Он относится к тем снам, в которых человек выражает свои знания о другом человеке, а не свои собственные чувства и желания. И такой взгляд во сне часто бывает более точным, чем впечатление наяву. В данном случае Шпеер в стиле Чарли Чаплина находит выражение для своих представлений о некрофильском характере Гитлера. Шпеер видит в нем человека, который все свое время тратит на преклонение перед мертвыми, однако он действует, как автомат – для чувств здесь места нет. Возложение венков превращается в организованный ритуал, доходящий до абсурда. Но в то же самое время Гитлер возвращается в религиозную веру своего детства и полностью отдается скорбной заунывной мелодии. В конце сна особое ударение ставится на монотонность и автоматизм траурного ритуала.
Вначале Шпееру снится ситуация из реальной действительности, из того периода жизни, когда он был государственным министром и очень активно брал все в свои руки. Мусор, который он сам выметает веником, возможно, символизирует мерзость и грязь нацистского режима; а его неспособность попасть в рукав кителя – скорее всего, символическое выражение его чувства беспомощности, ощущения, что он больше не может быть частью этой системы. Здесь происходит переход к главной теме сна, где он узнает, что у него не осталось больше ничего, кроме мертвецов и механического скучного некрофила по имени Гитлер».
[Закрыть].
19 сентября 1962 года. Мой урожай яблок – штук тридцать – украли еще до того, как яблоки созрели.
Год семнадцатый
Психические отклонения – Вили Брандт обещал помощь – разговор с Гессом о самостоятельных решениях в партии – Гесс изобретает снегоочиститель – Гесс и его комплекс ненависти – Примирение – Берингов пролив – Разговор об этом и других безумствах – Восхищение техническими достижениями в молодости – Первая внучка – Череда несчастий
1 октября 1962 года. Генри Джеймс писал: «Кроме большой радости, только одно состояние души вызывает столько же веселья – большая печаль». Двадцать лет назад я бы не понял этой фразы или, в лучшем случае, воспринял бы ее как литературный цинизм. Я всегда считал, что главное несчастье заключенного – это потеря свободы, зависимость от милости охранников, людей, стоящих на нижней ступени иерархии, постоянное ощущение собственного бессилия. Теперь я с удивлением понимаю, что настоящим источником страданий служит отсутствие событий – как внешних, так и внутренних. Отгородившись стеной равнодушия, в конечном счете испытываешь благодарность за притеснения охранников: они вызывают хоть какие-то чувства и, по крайней мере, создают видимость событий. Здесь, в основном, преобладает доброжелательная, довольно теплая атмосфера, а это постепенно приводит к расстройству психики. Я вижу, как необходимы человеку его эмоции. Глубочайшее отчаяние наполнено тайным удовлетворением. Вот в чем смысл этой фразы Генри Джеймса.
26 октября 1962 года. Кеннеди приказал ввести режим полной блокады в отношении Кубы. В американских портах собирается армия численностью сто тысяч человек.
Этот кризис также интересует нас только в приложении к Шпандау – что подтверждает мой утренний разговор с Гессом и Ширахом. Однажды давным-давно мы хотели творить мировую историю, но теперь вся мировая история для нас сводится к судьбе нашей тюрьмы. Вот что нас беспокоит: через несколько дней управление Шпандау в очередной раз перейдет к русским. Сегодня Ширах рассуждав о возможном развитии событий. Однажды ночью они выломают дверь, ведущую из сада в тюремный корпус. Небольшой отряд головорезов под предводительством лейтенанта подавит сопротивление западных охранников. В считанные минуты нас погрузят в русский автобус; автобус повезет нас по лесистой местности к границе русской зоны в Штаакене, расположенной всего в двух километрах отсюда. Все будет сделано в мгновение ока, и западные правительства, для которых сейчас главная проблема – это Куба и Берлин, вряд ли станут что-либо предпринимать – пошлют лишь какую-нибудь невнятную ноту протеста в Москву.
Потом мы обсудили свои тревоги с некоторыми западными охранниками. Лонг, первый, кому мы рассказали о наших опасениях, побледнел. Я попытался его успокоить, напомнив о существовании телефона и сигнализации, но он лишь растерянно хмыкнул.
– Включить тревогу? Звонок раздастся в караульном помещении. И сюда прибежит еще больше русских.
Тем временем к разговору подключился Садо. Я спросил его:
– Что бы вы сделали, если бы два русских солдата вошли в вестибюль и наставили на вас свои автоматы?
Садо широко улыбнулся.
– Я уже думал об этом. Знаете что? Я бы поступил, как де Голль на заседании в Алжире – поднял бы обе руки и закричал: «Я вас понял!»
Один из доброжелательно настроенных русских явно заметил, что нас что-то беспокоит.
– Политика – ничего хорошего, да? – заметил он.
28 октября 1962 года. Хотя все пытаются не подавать виду, в воздухе витает почти осязаемое напряжение. От монотонности не осталось и следа; появились другие вещи, помимо подъема, завтрака, уборки камер, работы в саду, прогулки и так далее до самого отбоя – вечный, неизменный цикл. Снова вспомнил Генри Джеймса. Этот Кубинский кризис, угрожающий самому существованию мира, в некотором роде приносит оживление в нашу жизнь.
Конечно, мы тоже очень переживаем из-за конфронтации, но сама наша нервозность создает для нас точку опоры.
К примеру, сегодня, несмотря на всю мою радость, я почувствовал легкий укол разочарования, когда, лежа под одеялом, услышал по транзистору, что Хрущев согласился убрать ракеты с Кубы. Через некоторое время я встретил в коридоре Громова, который сообщил мне:
– Отличные новости по радио. Мир! Очень хорошо.
Вечером слушал через наушники Четвертую симфонию Шумана в исполнении оркестра под руководством Фуртвенглера.
1 ноября 1962 года. Вчера на свидание приезжал Эрнст, но все прошло ужасно. Как и несколько лет назад, он не сказал ничего, кроме пары-тройки фраз. На все мои вопросы он отвечал только «да», «нет» или «не знаю» тихим, почти неслышным голосом. Очевидно, это не равнодушие, а своего рода ступор. Сегодня я сказал жене, что он оказался на удивление общительным. Я пытался помочь ему или себе преодолеть разочарование? И что подумает мальчик, когда узнает, что я сказал?
3 ноября 1962 года. Вили Брандт принял Хильду. Обещал свою помощь.
17 ноября 1962 года. Несколько дней назад я посоветовал Каргину роман Дудинцева «Не хлебом единым». И только сегодня прочитал в эпилоге, что книгу запретили в Советском Союзе. Я немедленно исправил ошибку и сказал Каргину:
– Пожалуйста, не брать Дудинцева в библиотеке, – я невольно заговорил по-немецки с русскими ошибками. – В Москве большое обсуждение. Результат: книга плохая.
Я ясно видел, что моя забота глубоко тронула Каргина. Он невольно дернулся, словно хотел пожать мне руку, но в последний момент сдержался.
– Большое, большое спасибо, – с волнением поблагодарил меня он. – Если книга плохая, читать плохо.
Он покачал головой и быстро ушел.
20 ноября 1962 года. Все время думаю об испуге Каргина и его благодарности за то, что я спас его от Дудинцева.
Один из тех редких случаев, когда я, человек, которые столько лет зависел от помощи других, сам смог кому-то помочь. Испытываю огромное удовлетворение. В то же время меня немного позабавило выражение неприкрытого ужаса, которое было написано на его лице, когда он понял, какой опасности избежал.
В подобных ситуациях присутствует элемент снисходительности, а в данном случае, вполне возможно, примешивается еще и дополнительный фактор: ведь, как это ни парадоксально, заключенный – более свободный человек. Странно, но только сейчас, когда я пишу эти строки, мне пришло в голову, что я никогда не считал запрет писателей и книг в Третьем рейхе посягательством на мои права. А ведь были запрещены Томас Манн, Франц Кафка, Зигмунд Фрейд, Стефан Цвейг и многие другие. Напротив, благодаря этим ограничениям многие немцы чувствовали свою принадлежность к элите. Элемент подобного отречения, лежащий в основе всей системы нравственности, безусловно, действует весьма эффективно. Один большой секрет диктатуры – от Сталина до Гитлера – заключается в их способности преподнести насилие под моралистическим соусом и, таким образом, превратить его в удовольствие. Вполне вероятно, что Геббельс, любитель современной литературы, не испытывал никакого чувства утраты, когда подчинился политике режима в отношении искусства и отрекся от своих прежних богов. Он отказался от литературного удовольствия в обмен на радости морального окоченения.
19 ноября 1962 года. Полковник Надысев запретил мне носить мой яркий, цветастый свитер, а Шираху – шелковые рубашки. Он сам их разрешил несколько месяцев назад. Теперь он заявил:
– Напишите домой, что такие подарки, как дорогие рубашки, свитера, трубки, мыло и тому подобное, будут отсылаться назад. С сегодняшнего дня разрешаются только простые вещи.
20 ноября 1962 года. Полковник Надысев продолжает вести жесткую политическую линию. Он пригрозил строгим наказанием, потому что я разговаривал с охранником. Не вижу логики. В конце концов, вся охрана – представители власти; он мог бы сам прервать разговор.
Днем американец Брэй вместе со мной гулял по саду. Пока мы шагали по дорожке, я пытался втолковать, что ему лучше гулять одному, потому что русские солдаты на вышках могут доложить о его поведении по телефону. И точно, несколько часов спустя полковник Надысев так громко отчитывал охранника, что мы все его слышали:
– Охранникам запрещено разговаривать с заключенными. Вы это знаете! Вы – не заключенный. О чем вы думаете? Как вы можете говорить с ними?
Американец, обычно не отличающийся трусостью, уклончиво ответил:
– Он шел рядом. Что я мог сделать?
Садо тоже досталось от русского директора.
– Вы разговаривали с заключенными!
Садо оказался смелее.
– Здесь все говорят!
24 ноября 1962 года. Все продолжается в том же духе. Сегодня Надысев приказал держать двери в камеры Гесса и Шираха закрытыми во время богослужения. Впредь только тем, кто ходит в часовню, будет разрешено слушать музыку, сообщил он.
После службы Шарков, который вернулся из отпуска, подошел ко мне в саду и хотел поделиться своими впечатлениями о Киеве. Но я сразу ушел, оставив его в полном недоумении от столь недружелюбного приема. Через час я объяснил ему в коридоре:
– Солдат на башне видит – звонит! Сразу приходит директор.
Он тепло меня поблагодарил.
26 ноября 1962 года. Поскольку Советы отказались от своей штаб-квартиры в Восточном Берлине, сегодня вместо коменданта города нас посетили два полковника из администрации в Карлсхорсте. Они оказались весельчаками, но придрались к нашей выложенной новым кафелем ванной, назвав ее чересчур роскошной.
Надысев тотчас продемонстрировал, что даже полковник и директор тюрьмы – всего лишь марионетка. Благодаря дружелюбию посетителей из Карлсхорста, он сам внезапно преобразился. Он спросил меня с душевной теплотой в голосе:
– Вас хорошо кормят, не так ли?
– Не совсем, – сдержанно ответил я.
Даже ужин стал лучше.
2 декабря 1962 года. Ширах болеет уже несколько дней, и теперь я подолгу гуляю с Гессом. Но вскоре выясняется, что у нас нет интересных тем для разговора. В конце концов, о чем мы можем говорить – после шестнадцати лет? Начиная с повседневных пустяков, мы неизменно, с длинными паузами, сворачиваем на прошлое. Сегодня я рассказал ему об отдельных самовольных поступках, которые совершал на посту министра вооружений – разумеется, речь шла только о безобидных случаях, потому что я не хотел ранить его чувства и ставить под угрозу с таким трудом достигнутое согласие. Я рассказал о трагикомической ситуации с реактивным истребителем, единственным самолетом, который мог бы остановить атаки американских бомбардировщиков на наши топливные заводы; или о переходе наших ядерных исследований к урановому двигателю, потому что Хейзенберг обещал сделать бомбу не раньше, чем через три – пять лет.
Гесс страшно разволновался, услышав, что я действовал без разрешения.
– Вы хотите сказать, что не отправили запрос по поводу атомной бомбы? – в ужасе спросил он.
– Нет, я сам принял решение. Под конец говорить с Гитлером стало невозможно.
Гесс сделал мне официальный выговор, как на партийном собрании.
– Герр Шпеер, вы вели себя неподобающим образом. Вынужден это подчеркнуть. Вы были обязаны проинформировать фюрера, чтобы он сам принял решение. – После небольшой паузы он добавил: – Вот до чего дошло после моего отъезда!
– Только, пожалуйста, не говорите Шираху, – попросил я. – Это только посеет вражду между нами.
Гесс согласился, но заметил, что только вчера обещал Шираху скрыть кое-что от меня.
– Странно, – продолжал я, – что вас это удивляет. В конце концов, в партии тоже многое делалось без разрешения.
– Да, да, – признал Гесс после некоторого размышления, – но, тем не менее, я все держал под контролем.
На этот раз я не позволил ему увильнуть от ответа.
– Вы, может быть, – сказал я. – Но не Гитлер.
Гесс вопросительно посмотрел на меня.
– Или вы спросили у него разрешения, прежде чем улететь в Шотландию? – многозначительно добавил я.
Гесс растерялся.
– В ваших словах что-то есть. Но с точки зрения государственных интересов я действовал в духе национал-социализма – вам придется это признать.
С этими словами Гесс нацепил одну из своих непроницаемых масок. Мне показалось, или я действительно увидел улыбку, промелькнувшую – на короткое мгновение – на этой маске?
4 декабря 1962 года. Утром по распоряжению британского директора Летхэм официально спросил Шираха, почему он не посещает службу в часовне.
– Это мое личное дело, – резко ответил Ширах. – Я отказываюсь об этом говорить. Никто не имеет права задавать мне подобные вопросы.
20 декабря 1962 года. Уже несколько дней меня преследует одна идея: я хочу выкрасить темные кирпичи оконного проема в белый цвет. Железные решетки будут небесно-голубыми, дверь в камеру – тоже белой, кровать и мебель – темно-красными, пол – почти черным. Стены на уровне пояса я бы выкрасил в ярко-зеленый цвет и сделал бы темно-зеленый бордюр; стены от бордюра до потолка я бы покрыл тонированной белой водоэмульсионной краской с добавлением охры. Потом я бы попросил, чтобы мне прислали два желтых банных полотенца; они заменят скатерть и эффектно подчеркнут эту немного необычную игру цвета. Может быть, директора даже разрешат поставить вазу для цветов из сада.
– Если вы позволите мне это сделать, скоро моя камера будет выглядеть, как номер в гостинице «Хилтон», – три дня назад сказал я американскому директору. Но сегодня он передал, что мою просьбу отклонили. Директора беспокоятся, какое впечатление моя камера произведет на посетителей.
Любопытно, но о «Хилтоне» я знаю только из газет. Как мое воображение цепляется за сведения о мире, который я не знаю! Все эти странные обрывки, частички информации, которые я черпаю из газет, разговоров, книг и писем, складываются в ясную и понятную картину внешнего мира. В последнее время я замечаю, как эта картина постепенно вытесняет знакомую мне реальность, причем даже в моих снах. Теперь я вижу не оставшиеся в прошлом руины, а небоскребы, которых никогда не видел.
Интересно, когда я выйду на свободу, как моя воображаемая реальность будет соотноситься с действительностью?
24 декабря 1962 года. Свитер, рубашка, кусок дегтярного мыла «Перз» и трубка преодолели порог роскоши, по-видимому, благодаря празднику. Однако Альберту пришлось сначала обработать каустиком дорогую трубку «Стенвелл», чтобы приглушить блеск; а тапочки не пропустили – чересчур элегантные. Гесс получил пижаму и рождественскую звезду из лиственницы в обрамлении сосновых веток. Свитер, который для Шираха связала его сестра, тоже посчитали излишней роскошью, равно как и кальсоны из изумительной тонкой шерсти. В итоге, помимо миниатюрной елки, он остался лишь с парой носков и куском мыла.
В шесть часов вечера прогуливались с Гессом по коридору; мы говорили о повседневных делах и не упоминали о Рождестве. В половине девятого отправились спать.
31 декабря 1962 года. Всю ночь шел снег. На улице холодно, – 6 градусов, и дует восточный ветер. В саду я взял лопату и расчистил снег с круговой дорожки для двух других заключенных.
– Что скажете о моих стараниях, герр Гесс? – спросил я, когда он проходил мимо с Ширахом.
– Они достойны самой высокой похвалы, – ответил он. – Но у меня есть идея, как избавиться от снега без особых усилий. Я уже попросил бланк заявления; может быть, вы поможете мне с чертежами. Мы просто поставим на снег две доски под углом друг к другу. Спереди привяжем веревку, а сзади приделаем рычаг управления. – Гесс торжествующе посмотрел на меня, будто только что изобрел колесо. Охваченный изобретательским азартом, он перешел к практическому исполнению: – Впереди вы с Ширахом тянете за веревку. Я буду идти следом и направлять движение.
Мы с Ширахом расхохотались. Он сделал вид, что обиделся, и сказал:
– Ну и ладно, как хотите. Значит, не буду подавать заявку.
Ближе к полудню все директора друг за другом прошли по камерам и пожелали нам счастливого Нового года. В половине третьего я вышел в сад. Решил пройти километров десять, но к четверти пятого сделал тридцать шесть кругов, или 16,1 километра. Это стало моим рекордом за 1962 год, и я был доволен. Мне осталось еще пятьсот километров по бескрайним снежным равнинам до Берингова пролива. Весь этот путь мне придется проделать практически в полной темноте. Однако изумительное северное сияние наподобие того, что я видел на севере Лапландии в конце 1943-го, волшебным образом преобразует окружающий меня пейзаж. Шагая по кругу, я восторженно смотрел в темное небо и настолько увлекся фантасмагорией снега, света и сверкающих равнин, что остолбенел, когда увидел мрачный тюремный фасад.
Оценивая этот год, не могу сказать, что он был неудачным. Альберт добился первого успеха в архитектуре; Хильда получает хорошие отметки на философском факультете; Фриц сдал предварительный экзамен по физике; Маргарет начала работать над докторской диссертацией; Арнольд хорошо учится в университете; а в конце года Эрнст неожиданно порадовал нас отличными оценками по многим предметам.
19 января 1963 года. Приказ, изданный русским директором два месяца назад, запрещающий тем, кто не ходит в церковь, слушать музыку, отменили. Сегодня перед началом концерта на пластинках Громов велел открыть все двери.
7 февраля 1963 года. Сегодня лопатой убирал снег на круговой аллее при температуре – 12 градусов. Решил закаляться, поэтому работал без пальто. Ширах и Гесс снова смотрят на меня свысока, поэтому я расчистил тропинку только для одного; пусть сами откапывают вторую дорожку. Но они, закутавшись в теплую одежду, предпочли гулять гуськом; Ширах покрыл голову платком, и он свисал из-под шапки, как бурнус.
8 февраля 1963 года. Гесс ведет себя все более враждебно. Сегодня мы встретились в саду. Я остановился и спросил:








