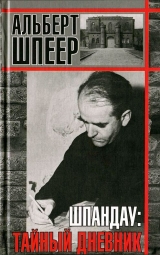
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
В быстром комфортабельном пассажирском самолете мне досталось место у окна; рядом сел мой охранник. Стояла дивная погода, и после долгого заключения этот полет будоражил кровь. Под нами мирно проплывали деревни и маленькие города, явно не тронутые бомбами. Поля засеяны, а леса, несмотря на все слухи, никто не вырубил. В последнее время жизнь вокруг меня застыла на месте, поэтому я не осознавал, что на воле она продолжается. При виде движущегося поезда, буксирного судна на Эльбе, дымящихся заводских труб по спине пробегали мурашки.
Около получаса мы кружили над домами и руинами Берлина. Пока «Дакота» описывала огромные петли, я сумел рассмотреть Восточно-Западную ось, которую закончил к пятидесятилетию Гитлера. Потом я увидел Олимпийский стадион с явно ухоженными зелеными газонами и, наконец, рейхсканцелярию, которую я проектировал. Она стояла на месте, хотя и пострадала от нескольких прямых попаданий. Все деревья в Тиргартене были вырублены, и сначала я перепутал его с аэродромом. Озера Грюнвальд и Хафель были прекрасны, как всегда.
В половине восьмого на моих руках с тихим щелчком застегнули наручники. Когда самолет заходил на посадку, я увидел колонну машин и множество солдат. Мы вошли в автобус с закрашенными черной краской окнами. Он ехал на большой скорости, резко тормозил и трогался с места, поворачивал и сигналил. Последний крутой поворот, и он остановился. Прикованные к своим солдатам, мы вышли из автобуса. В ту же секунду за нами закрылись средневековые ворота. Во дворе стояли представители армий союзников.
Прозвучала команда на английском: «Снимите наручники. Здесь они не нужны». С торжественным видом американский охранник пожал мне руку на прощание.
Внутри нам велели сесть на деревянную скамью. Мы были в своей собственной одежде, которую нам вернули перед самым отъездом, впервые после суда. Теперь мы по очереди заходили в комнату, где вместо нашей одежды нам выдавали длинные синие тюремные штаны, поношенную тюремную куртку, грубую рубаху и тюремную шапочку. Холщовые тапочки с толстой шерстяной подошвой. Нам выдали одежду заключенных концлагерей; чиновники не преминули сказать нам об этом. Я стоял пятым. Потом я вошел в медпункт, где меня тщательно осмотрел приветливый русский врач. Я настоял, чтобы он записал «здоров» – тогда я смогу доказать, что последующие болезни приобретены в заключении.
Потом я прошел через железную дверь, которая с грохотом захлопнулась за моей спиной. Порядок нашего поступления определил наши тюремные номера. Соответственно, с этих пор я – «номер пять». В тюремном блоке мне отвели одну из множества пустующих камер. Один из нас стал насвистывать, чтобы снять напряжение. Окрик охранника заставил его замолчать.
26 июля 1947 года. После двухлетнего отсутствия я снова в Берлине, городе, который я люблю, городе, которому я хотел посвятить работу всей своей жизни. Я немного иначе представлял свое возвращение. Окончание строительства большинства моих зданий было запланировано к этому, 1947-му, году. Большой зал – его базовая конструкция уже была бы завершена – возвышался бы над Берлином, и уже был бы намечен план длинного широкого бульвара, ведущего к дворцовому комплексу Гитлера. Я впервые до конца осознал, что ни один из этих проектов никогда не будет завершен. Они так и останутся чертежами.
27 июля 1947 года. До сих пор отношение к нам было безупречным, но чрезвычайно холодным и отчужденным. Каждый день нас на полчаса выводят в узкий тюремный двор. Нам не разрешают говорить друг с другом. Охранники с суровыми лицами отдают нам лишь необходимые приказы.
Руки за спиной, в десяти шагах друг от друга, мы шагаем вокруг старой липы, которая все еще здесь.
Сегодня Жан Террей, французский начальник охраны, впервые проделал трещину в этой атмосфере остракизма. Этот невысокий коренастый человек довольно громко пробурчал себе под нос: «Как можно обращаться с ними подобным образом? Нехорошо».
2 августа 1947 года. Британский директор вышел в тюремный двор и предложил нам работать в саду. «Только те, кто хочет и кому позволяет здоровье. Это пойдет вам на пользу». Мы все согласились.
4 августа 1947 года. Теперь мы много часов проводим в саду площадью пять-шесть тысяч квадратных метров. Здесь много ореховых деревьев и высоких кустов сирени. Сад зарос сорняками в половину человеческого роста; никто не ухаживал за ним с тех пор, как началась война. Сорняки появятся снова, потому что французский директор тюрьмы настаивает, чтобы их закапывали в качестве зеленого удобрения.
Тюрьма Шпандау находится в крайней западной части Берлина, на границе лесов и озер. Мы ведем здесь более здоровый образ жизни, чем в Нюрнберге, и шесть часов работы приносят мне большую пользу. Мои проблемы со зрением исчезли. Но в Нюрнберге мы ели вдоволь, а в Шпандау мы получаем немецкий паек с точностью до грамма.
16 августа 1947 года. Я уже месяц в Шпандау.
Часто подбираю упавшие со стола хлебные крошки. Впервые в жизни я почувствовал, каково это, когда не хватает еды.
Что касается связи с семьей, здесь все намного хуже. Одно письмо раз в четыре недели и пятнадцатиминутное свидание раз в восемь недель. Но моя жена не может позволить себе эту поездку. Жаль, мы упустили возможность встретиться на несколько часов в Нюрнберге.
31 августа 1947 года. Я подбадриваю себя мыслью, что когда-нибудь в будущем смогу начать все заново. Я все больше Думаю о том, как систематизировать эти годы. Я должен разработать, так сказать, терапию, чтобы продержаться эти девятнадцать лет.
Отправной точкой для меня является тот факт, что я должен отсидеть все двадцать лет. Значит, я выйду отсюда шестидесятилетним человеком. В этом возрасте другие мужчины уже думают о пенсии. Может, у меня останется еще лет десять. С чего мне следует начать новую жизнь? Политика никогда меня не интересовала; производство вооружений было лишь вызовом для моих организаторских способностей. Даже на пике моей власти я всегда подчеркивал Гитлеру, что после войны хочу вернуться к работе архитектора. Сейчас меня не привлекает и перспектива руководства какой-нибудь промышленной фирмы – даже если кому-то придет в голову предложить мне такую работу. Я – архитектор и всегда останусь архитектором. Наш полет над Берлином показал мне, что великая задача, в которую я верил, осталась лишь в чертежах. Если через двадцать лет я все еще буду испытывать желание совершить что-нибудь значительное, мне придется начать с того места, где я остановился в 1933 году, когда познакомился с Гитлером. Я должен воспринимать те двенадцать лет как всего лишь перерыв в работе. Идея моего старого учителя Тессенова о простых домах для людей приобрела для меня и для настоящего времени совершенно новое значение. Тогда его лекции были протестом против мегаломании индустриальной эпохи. Он умышленно противопоставлял свои простенькие, но искусно выполненные дома небоскребам и промышленным предприятиям. Но теперь его цели согласуются с бедностью нашего времени и отчаянными нуждами народа. Я предвижу, что именно он, а не Гропиус, Мис ван дер Роэ или Ле Корбюзье, будет определять будущее. Именно я, его бывший помощник и любимый ученик, должен продолжить его работу. Пора покончить со всеми этими приступами меланхолии, хватит рыдать над грандиозными планами, непостроенными дворцами и триумфальными арками; пора вернуться к своим истокам. Неужели я не смогу спроектировать дома для шахтеров и использовать свой ум в восстановлении городов?
Все зависит от того, смогу ли я поддерживать связь со своей профессией.
12 сентября 1947 года. К счастью, здесь нет тюремной библиотеки, заполненной обычно потрепанными, грязными, третьесортными романами. Поэтому мы отправляем свои запросы в публичную библиотеку Шпандау. Я прочитал «Красную комнату» Стриндберга на немецком, сейчас читаю «Красное и черное» Стендаля на французском. Но к такой литературе следует прибегать только для отдыха, что я и делал бы в обычной жизни. Я очень хочу читать архитектурные журналы и технические книги, чтобы быть в курсе последних изменений, то есть возобновить своего рода формальное изучение архитектуры. Я предвижу, что к моменту моего освобождения в употребление войдут новые строительные материалы и принципы. К сожалению, в каталоге публичной библиотеки Шпандау, похоже, нет подобных технических изданий. Может, позже что-нибудь появится.
18 сентября 1947 года. Тюремные правила тоже помогают придать некую форму этой невыразительной жизни. Они составили рабочую программу с четким графиком, расписанным по минутам. С восьми до половины двенадцатого утра и с двух до половины пятого дня мы должны работать. В оставшееся время я сам придумываю себе задания. Я готов начать новую жизнь. Я не чувствую себя несчастным.
Год второй
Шпандау – Тайная переписка с семьей – Свидетель по делу Флика: Гитлер и промышленники – Стычка с Дёницем – Вечерняя медитация – Поведение охранников – Идея биографии Гитлера – Мечты и книги – Страсть к работе, сейчас и в прошлом – Гитлер – любитель музыки
3 октября 1947 года. Прошло два месяца. Наша жизнь в Шпандау протекает спокойно. Кое-что импровизировали на ходу, потому что они еще не до конца разработали схему управления.
Оккупационные войска, стоящие на вышках по периметру тюрьмы и у ворот, меняются каждый месяц. Сначала на пост заступают русские, потом американцы, затем британцы и, наконец, французы. Лично для нас меняется только еда. При каждой смене режима руководитель дежурной группы принимает на себя обязанности председателя на совещаниях Большой Четверки. Но это практически ничего не значит, потому что директор тюрьмы с советской стороны, даже когда он не является председателем, в любое время может сказать «нет» или вмешаться лично.
Моя камера 3 метра в длину и 2,7 метра в ширину. Если учесть толщину стен, эти размеры увеличились бы почти вдвое. Высота потолка 4 метра, поэтому камера не кажется слишком тесной. Как и в Нюрнберге, оконные стекла заменили мутной коричневатой целлулоидной пленкой. Но когда я встаю на деревянный стул и открываю фрамугу, я вижу сквозь прочные железные прутья верхушку старой акации, а по ночам – звезды.
Стены выкрашены в грязно-желтый цвет, верхняя их часть и потолок побелены. В камере стоит стол 0,48 метра шириной и 0,81 длиной. Грязно-коричневый лак отслоился, истертый поколениями заключенных, и под ним виднеются древесные волокна. Мои вещи обычно лежат на столе: коробка табака, трубки, рулетка, фотографии, расческа, цапки, карандаши, письма, три книги и Библия. Советский охранник недавно отчитал меня, заявив, что стол мог бы быть «почище» и «покультурнее». Его нотация не возымела никакого действия.
Шкаф заменяет небольшая открытая полка, 0,43 на 0,54 метра, которая висит на стене. Там я держу мыло и другие личные вещи. Куртка, пальто и полотенца висят на крючках. Сплю я на черной железной койке 1,9 метра в длину и всего 0,79 в ширину. Но в отличие от нюрнбергских кроватей, здесь есть подголовник, подушка, наматрасник и простыни. Мне выдали пять серых шерстяных одеял, проштампованных большими черными буквами GBI. Это значит, что их взяли из трудового лагеря, относившегося к моему бывшему ведомству Generalbauinspektor (генерального инспектора по строительству) в Берлине. Они сделаны из синтетического волокна, поэтому не греют; вдобавок они тяжелые. Ватные матрацы, судя по американским армейским штампам, изготовлены в Сан-Антонио, Техас.
Днем я накрываю койку одеялом и превращаю ее в кушетку. На этой кушетке я завтракаю, читаю, пишу и отдыхаю. Прошло несколько месяцев, а я уже так привык к небольшим размерам своей камеры, что решил сделать все комнаты маленькими в домах, которые я когда-нибудь буду проектировать. Преимуществ намного больше, чем недостатков. Я, к примеру, могу взять что-нибудь со стола, не вставая с кушетки: нужно всего лишь повернуться на бок и протянуть руку. По проекту площадь кабинета во дворце Фюрера должна была составить 650 квадратных метров.
Как и в Нюрнберге, в железной двери есть прямоугольное отверстие на уровне глаз. По ночам камеру тускло освещает зажженная в коридоре лампочка. Как правило, Дверь закрывают на два оборота ключа и запирают на засов. Если кто-то забывает, я испытываю странный дискомфорт.
Каждое утро в шесть часов раздается стук в дверь. Это сигнал подъема. Я встаю быстро, потому что через несколько минут дверь открывается под аккомпанемент вездесущего лязганья ключей. В брюках и соломенных шлепанцах иду умываться. Через полчаса приносят завтрак. Еду мы получаем из военных пайков дежурной нации. В июле русские наконец-то выдали нам суррогатный кофе и ржаной хлеб; такой еды мы не видели больше двух лет. В августе за наше снабжение снова отвечали американцы; еще раньше, в британский месяц, нам давали сладкий чай с молоком и печеньем. Сейчас настала очередь французов, но наши надежды на бриоши и вкусные французские багеты оказались напрасными. Чей бы ни был месяц, мы неизменно худеем. Недавно мне пришлось проделать новые петли для пуговиц на тюремных штанах, потому что они стали велики в поясе; а сначала были тесноваты.
После завтрака выкуриваю первую трубку. Какая бы нация не дежурила, мы раз в неделю получаем жестяную коробочку американского табака «Принц Альберт».
2 октября 1947 года. Сегодня, нажав на кнопку, которая установлена в каждой камере, Функ включил красный диск в коридоре. Так мы вызываем охранников. Через дверное отверстие слышится тихий голос мсье Террея: «У меня нет зажигалки. Нет зажигалки. В кармане ничего нет». Функ подначивает его: «Но у вас всегда есть спички. Посмотрите в другом кармане». Террей настаивает: «У меня ничего нет». Потом вдруг: «Ах да, вот!» Функ разыгрывает эту сцену каждое утро и, похоже, с удовольствием. В соседней камере у Гесса спазмы желудка, и он начинает стонать: «Ой, ой, ой».
Половина восьмого. Двери отпираются. После обмена приветствиями с каждым охранником и каждым заключенным мы делаем уборку в наших камерах. Террей обращается к Гессу: «Подъем. Уборка. Вы должны убрать свою камеру. Вы меня слышите?» Ответа нет. Пока мы подметаем вестибюль, Ширах без всякой видимой причины бормочет: «Да, да, да, да». Дверь в камеру Гесса открыта, горит свет; он лежит на кровати, натянув одеяло до подбородка.
В четверть девятого мы возвращаемся в камеры. Террей выкрикивает: «Готовы?» Потом запирает двери.
3 октября 1947 года. Воскресенье, но у нас по-прежнему не проводятся церковные службы. Редер недавно заявил протест. Майор Бресар, темпераментный, дородный директор-француз, только пожал плечами и быстро вышел из вестибюля.
Этот так называемый «вестибюль», 75 метров длиной и 5 метров шириной, на самом деле тюремный коридор.
Перед нашим приездом многоэтажную шахту с железными лестницами, которые есть в большинстве тюрем, закрыли подвесным фибровым потолком. На каждой стороне вестибюля располагаются шестнадцать камер.
Недавно все три двери, ведущие к главному входу, на несколько минут остались открытыми. Я ясно видел виселицу, которая по прошествии стольких лет все еще здесь.
Днем – полчаса в саду, потом нас запирают в камерах, и у нас появляется масса времени до десяти часов вечера, когда гасят свет. Как мне выдержать это еще девятнадцать лет без серьезного ущерба для здоровья?
Я разрабатываю систему, во многом напоминающую метод Куэ, французского психолога и фармацевта, основоположника метода психотерапии и личностного роста, основанного на самовнушении. Сначала надо убедить себя, что плохое на самом деле не так уж плохо. Когда я с этим справлюсь, все, что казалось мне невыносимым, станет обычным делом, и я, наконец, сумею убедить себя, что в моем положении есть множество преимуществ. Моя жизнь, говорю я себе, почти не отличается от обычного, хоть и примитивного существования. Это, конечно, полная чушь, потому что она по всем пунктам отличается от жизни на свободе. Но этот метод поможет мне продержаться.
Раньше я бы сказал, что скорее умру, чем буду жить в определенных условиях. Теперь я не только живу в этих условиях, но и временами чувствую себя счастливым. Принцип «жизнь стоит того, чтобы жить», безусловно, отличается гибкостью.
11 октября 1947 года. Сегодня, в субботу, у нас была первая религиозная служба в Шпандау. Она проходила в двойной камере, которую переделали в часовню. Голые стены, выкрашенные в светло-коричневый цвет, вместо алтаря – тюремный стол, на нем лежит Библия, на задней стене – простой деревянный крест. Шесть тюремных стульев – Гесс по-прежнему не принимает участие в службе. В углу – туалет, накрытый деревянной крышкой. На нее сел советский надзирающий офицер. Французский капеллан Казалис читал проповедь на тему: «В Израиле существовал свод правовых запретов, благодаря которым прокаженные были отрезаны от сообщества людей; и эти запреты были непреодолимы, как тюремная стена». Редер, Дёниц и Ширах обиделись; утверждают, что капеллан назвал их «прокаженными». Во дворе и умывальной комнате разгораются жаркие споры. Я в них не участвую.
Дело, по-видимому, вот в чем: они не желают слышать от капеллана правду. Несмотря на все, что случилось, для них церковь – всего лишь часть антуража респектабельности. Не более того. Она нужна для крещения, свадеб, смертей, но не должна вмешиваться в вопросы совести. Еще один пример того, как мало этот класс буржуазных лидеров ценит нравственную подоплеку христианской доктрины. С такой философией, безусловно, не может быть никакого противодействия зверствам. Мысли о связи между декадансом христианской веры и варварством. Когда в конце войны я решился на активное противостояние, я действовал не с позиции христианина, а с позиции технократа. Так чем же я отличаюсь от своих товарищей по заключению? Вероятно, только тем, что вижу эти связи и могу принять проповедь Казалиса как испытание.
14 октября 1947 года. Не могу в это поверить. Служащий тюрьмы предложил тайно переправлять мои письма. Антон Влаер, молодой голландец, во время войны был призван на принудительные работы и трудился на заводе по производству вооружений в Берлине. Там он заболел, и его поместили в специальную больницу для строительных рабочих, которую я основал незадолго до войны. Пока в одном углу двора американский и британский охранники оживленно обсуждают боксерский матч, в другом этот голландец шепотом рассказывает мне, как хорошо с ним обращались в нашей больнице. Он остался в больнице до конца войны и работал санитаром в операционной. Доктор Хайнц, главный врач, принял его в свою семью как сына.
С того дня туалетная бумага приобрела невообразимое значение для меня и моей семьи. Какая удача, что никому не пришло в голову выкрасить ее в черный цвет! Исписанные листки я прячу в ботинках; учитывая резкое похолодание, в такой подкладке есть свои преимущества. Пока еще никто не заметил мою неуклюжую походку. К счастью, личный обыск проводят весьма поверхностно.
Моя жизнь – или, по крайней мере, мое ощущение жизни – приобрела совершенно новое качество. Впервые за два с половиной года у меня появилась не подлежащая цензуре связь с внешним миром. Часто я не могу уснуть в ожидании следующего письма; но еще я часто дрожу от мысли, что все откроется. Влаер взял с меня слово не говорить об этом другим заключенным: он боится, что они проболтаются. Во избежание лишнего риска я использую эту новую возможность лишь в редких случаях. Хочу несколько месяцев посмотреть, насколько хорошо работает этот канал. Не хочу подвергать его опасности, отправляя слишком много писем, в которых все равно не может быть ничего серьезного. Но у меня есть одна волнующая идея.
Если этот способ связи с внешним миром окажется надежным, все мое существование здесь приобретет абсолютно новое значение. До сих пор я исходил из предпосылки, что в тюрьме я должен только выживать; что я не смогу совершить ничего значительного, пока не кончатся эти двадцать лет. Теперь я одержим идеей использовать срок своего заключения для того, чтобы написать книгу огромной важности: биографию Гитлера, описание тех лет, что я провел на посту министра вооружений, или рассказ об апокалипсической последней фазе войны. Значит, моя тюремная камера превратится в каморку ученого. Во время прогулки во дворе я с трудом сдерживал себя, чтобы не заговорить об этом. Ночью почти не спал.
15 октября 1947 года. Недавно меня допрашивали два дня подряд в комнате для посетителей, так как я прохожу свидетелем по делу промышленника Фридриха Флика. Обвинитель, судья и доктор Флекснер приехали в Шпандау, потому что мне отказали в разрешении давать показания в здании суда.
Американский судья вел допрос со спокойным дружелюбием: «Мы приехали сюда, герр Шпеер, в надежде, что вы сможете прояснить ряд вопросов для нас». Их интересовало, можно ли вменить промышленникам в вину тот Факт, что они просили поставлять им рабочую силу. Каждый предприниматель должен был выпустить определенный объем продукции, сказал я. Поэтому он мог направить запрос только на то число рабочих, которое было необходимо для выполнения его нормы выработки. И выбирать, кто у него будет работать – депортированные рабочие или заключенные, – он тоже не мог. В сущности, он даже не имел права сам устанавливать продолжительность рабочего дня и форму взаимоотношений с рабочими. Все эти вопросы, подчеркнул я, решал только Фриц Заукель, генеральный комиссар Гитлера по рабочей силе. В целом предприниматели не хотели использовать принудительный труд, хотя бы из соображений практичности, пояснил я, и старались улучшить условия жизни рабочих. Открытое неповиновение отправило бы Флика прямиком в концентрационный лагерь; именно это произошло с крупным предпринимателем Фрицем Тиссеном, несмотря на верную службу партии. Надеюсь, мне удалось хоть немного пошатнуть уверенность обвинения.
Я с радостью осознал, что, несмотря на многие месяцы вынужденного молчания, я все еще способен разумно отвечать на вопросы в течение нескольких часов, быстро реагировать на замечания, производить впечатление. В конце судья поблагодарил меня, и мне разрешили пятнадцать минут поговорить с Флекснером. Живая дружеская беседа. Однако рядом стояли охранники всех четырех наций и один из директоров.
Моя радость свидетельствует, до какой степени я унижен: весь день был в приподнятом настроении, потому что ко мне обращались «герр Шпеер».
18 октября 1947 года. Перед службой Редер заявил официальный протест капеллану Казалису от имени пятерых заключенных, потому что капеллан назвал их «прокаженными». Они потребовал, чтобы он читал только по Евангелию. Я умышленно занял противоположную позицию, сказав: «Я не неврастеник. Я не хочу, чтобы со мной обращались, как с нежным цветком. Ваши проповеди обязаны меня расстраивать». Все на меня ополчились.
20 октября 1947 года. Воскресенье. У меня масса времени. На допросе в комнате для посетителей обвинитель начал с предположения, что в действительности крупные предприниматели, вроде Флика, имели преобладающее влияние на правительство и подстрекали к войне.
Если бы эти люди хоть раз побывали в ставке фюрера! Я вспоминаю дискуссии о вооружениях в Виннице или «Волчьем логове», куда я привозил этих якобы могущественных промышленников. За единственным исключением (и это, как ни странно, было в тот раз, когда Рёхлинг открыто выступил против Геринга), им давали слово, только когда речь заходила о специфических технических вопросах. Никакие военные, тем более политические проблемы никогда не обсуждались в их присутствии. Что касается крупных промышленных магнатов, людей вроде Альберта Фёглера, Фридриха Флика, Гюнтера Квандта или Густава Круппа, во время войны они умышленно держались на расстоянии от Гитлера. Мне бы и в голову не пришло пригласить их в штаб-квартиру на совещание по вопросам вооружений. Гитлер никогда бы не разделил власть с Фликом или кем-то еще. Это нелепая мысль.
Да, в прежние времена некоторые из них приходили Гитлеру на помощь. Хотя ему это не свойственно, он испытывал искреннюю благодарность к этим людям. Был один промышленник, которому Гитлер отдавал дань уважения даже после его смерти: этого человека звали Эмиль Кирдорф. Помню один случай, когда мы небольшой компанией пили чай в гостинице «Дойчер Хоф» в Нюрнберге после осмотра нескольких городских зданий. Гитлер заговорил о финансовых трудностях, которые партия испытывала незадолго до Депрессии. Кредиторы требовали возврата долгов и больше не желали слушать политические аргументы; они явно намеревались довести национал-социалистическую партию до банкротства. «Я поклялся, что не позволю партии объявить себя банкротом, – рассказывал Гитлер. – Я скорее пустил бы себе пулю в голову. И в последнюю минуту помощь пришла в лице нашей дорогой фрау Брукман. Она Устроила мне встречу с Эмилем Кирдорфом. Мы четыре часа проговорили в ее доме». Впоследствии Кирдорф позаботился о долгах и помог партии снова стать платежеспособной. Когда Гитлер рассказывал такие истории, никогда нельзя было знать наверняка, что все было именно так, как он говорил. Тем не менее, после его рассказа стало понятно, почему старик занимал особое место в его сердце. Потом Гитлер даже простил Кирдорфу его откровенную критику злоупотреблений нового правительства.
В отдельных случаях Гитлер был способен на подлинное великодушие. К примеру, после смерти генерального директора «Даймлер-Бенц» доктора Кисселя встал вопрос о его преемнике. Совет директоров избрал доктора Гаспеля, хотя Гиммлер и Франц Ксавер Шварц, заведующий финансами национал-социалистической партии, пытались избавиться от Гаспеля и еще двух директоров «Даймлер-Бенц», которые были женаты на еврейках. Убедившись, что доктор Гаспель и его коллеги хорошо управляют компанией, Гитлер отказался от каких-либо действий против них; и их никто не трогал до конца войны.
С другой стороны, я помню, что даже в мирное время Гитлер периодически выступал против ценных бумаг. Меня это пугало, потому что мои родители большую часть своего капитала держали в ценных бумагах. «Они приносят высокие прибыли без всякой работы. Когда-нибудь я покончу с этим безобразием и национализирую все корпорации. А в качестве компенсации выдам акционерные сертификаты с низкой процентной ставкой».
Сейчас без четверти семь. Санитар Тони Влаер совершает вечерний обход по камерам. Я слышу обрывки разговоров, смех. Гесс, как обычно, жалуется. Потом – звяканье ключей, шаги по каменному полу, голос французского охранника Корниоля, говорящего Влаеру: «Хорошо, пошли!» Снова наступает тишина. Остаток вечера буду читать, а то все эти воспоминания начинают мне надоедать. Последние несколько вечеров я читал «Прощай, оружие!» Хемингуэя. Он пишет совершенно по-новому, необычно. Этот американский стиль с его репортерской точностью очаровал меня. Ничего подобного я не читал. Правда, к моменту моего ареста я практически перестал читать художественную литературу.
Без двадцати восемь вынужден прервать свое чтение. Дёниц нажал сигнальную кнопку, и американский охранник Стоукс открыл его камеру. Дёниц громко пожаловался на зрение, сказал, что больше не может читать. Потом я услышал его вопрос: «Что-нибудь особенное произошло?» Американец ответил «нет». Потом раздается шепот, изредка прерываемый восклицаниями Дёница: «Что? Правда? Что?» Видимо, разговор свернул на политику. Кажется, Дёниц хвалил президента Тафта, но американец не проявил ожидаемого восторга. Он был убежденным демократом – о чем не знал Дёниц. Разговор постепенно сошел на нет; потом Дёниц отдал свои очки. Стоукс выключил свет. Вскоре и Функ заснул. Раздается голос Редера: «Который час?» Стоукс называет ему время. Редер тоже отдает очки. Через десять минут приходит очередь Шираха. Мне нужны спички, чтобы раскурить трубку, и, пользуясь возможностью, я вызываю охранника.
В здании становится удивительно тихо – лучшее время для чтения, так как все спят, кроме меня и Гесса. Я откладываю в сторону Хемингуэя и беру книгу о средневековом городе. Вчера, как и каждый вечер, я назначил себе норму на сегодня. В этом отношении я тоже педант. Потом, чтобы оживить в памяти средневековый период, я хочу почитать «Песнь о Нибелунгах».
Без двадцати десять. Раздается сигнал из камеры Гесса; он без единого слова отдает свои очки. Гаснет свет. Через пять минут я тоже буду спать.
Недавно я придумал упражнение по медитации, которое делаю перед отходом ко сну. Лежа в темноте, я пытаюсь войти в контакт со своей семьей и друзьями, мысленно представляя образ каждого из них во всех подробностях: походку, голос, характерные движения рук, наклон головы во время чтения. Я боюсь, что иначе они ускользнут от меня. Мне хочется верить, что таким образом я смогу установить с ними нечто вроде телепатической связи. Кроме того, наверняка есть люди, которые думают обо мне с жалостью или сочувствием, хотя даже не знают меня. Поэтому каждую ночь я концентрирую мысли на одном из этих незнакомцев, думаю о нем, пытаюсь сказать несколько слов конкретному человеку. Обращение к незнакомцам неизменно заканчивается тоской по лучшему миру. Потом время неизмеримо растягивается. Часто я засыпаю, не дойдя До конца. Но почти всегда достигаю состояния внутренней гармонии, которое сродни трансу.
26 октября 1947 года. Сегодня Казалис читал проповедь по такому тексту: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». На этот раз он выбрал благоприятный момент и сказал, что он – самый большой грешник из всех нас; все прихожане были довольны.
2 ноября 1947 года. Лонг, британский охранник, сегодня пришел на работу явно «под парами». Он хвастал перед приятелями, сколько пива он выпил, и намекал на приятную компанию. Вечеринка закончилась всего три часа назад, сказал он. С разрешения Корниоля я уступил ему свою койку, а сам прогуливался по коридору, чтобы предупредить его, если появится старший офицер. Когда настало время выходить на прогулку в сад, он все еще плохо держался на ногах. Он все время вертел в руках большую связку тюремных ключей. Внезапно он встревожено вскрикнул: «Слышите звон ключей? Русский директор идет! Скорей расходитесь!»
Русский директор в самом деле появился, но только час спустя. Я поприветствовал его как предписано правилами. Днем, когда я нес свой обед в камеру, он крикнул мне вслед: «Номер пять, вернитесь! Вы не поздоровались со мной». Я напомнил ему о приветствии в саду. «Вы должны приветствовать меня каждый раз, когда видите».
18 ноября 1947 года. Ночью пространство около высокой стены залито светом прожекторов. Сегодня я снова стоял на кровати и долго всматривался в темноту тюремного двора, разглядывая одноэтажные строения в конусе света. Шел снег, огромные хлопья падали на землю тихо и мирно, как в сказке. В тонкой дымке появились неясные очертания там, где обычно царит только мгла. Русский солдат на сторожевой башне от скуки направил луч прожектора на фасад нашего здания. Мне в глаза ударил свет; на мгновение я ослеп. Свет вернул меня к реальности, и я быстро лег в постель.








