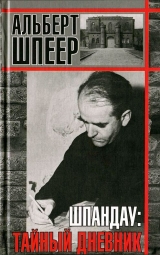
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
16 января 1951 года. Прошлой ночью пришлось прервать рассказ о Линце. Несколько раз мне казалось, что я слышу звук резиновых подошв, и в конце концов так разволновался, что отложил письменные принадлежности. Лежа в темноте, я вспоминал жаркие споры по поводу планов Гитлера, разработанных еще в 1938 году и предусматривающих строительство гигантского промышленного завода рядом с Линцем. Геринг одобрил их и включил в четырехлетний план, но Тодт и особенно планировщики города выступили против. Гитлер лично выбрал строительный участок рядом с городом. Ему говорили, что восточные ветры с Дуная принесут в город вредный промышленный дым, но он отмахивался от всех возражений. Доктор Тодт убеждал, что прекрасный старый Линц превратится в закопченный промышленный и пролетарский город, наподобие Эссена, но Гитлер не желал прислушиваться к его доводам. Точно также он проигнорировал мои возражения, что огромный завод закроет городу выход к берегу Дуная, а это – наиболее ценный участок с точки зрения городского планирования. В его собственных аргументах не было и намека на романтику; это был трезвый математический расчет. По словам Гитлера, осуществление его далеко идущих планов в отношении Линца станет возможным, только если город сам сможет нести расходы по обслуживанию новых зданий. С налоговыми доходами от заводов Германа Геринга будущее Линца будет обеспечено на все времена.
Когда пешком, когда на машине, мы осмотрели раскинувшийся на огромной территории завод. Он занимал площадь примерно 2500 акров и был раза в три больше завода Круппа в Эссене. Мы начали с осмотра прокатного стана, потом заглянули в сталелитейный, кузнечный и другие цеха. Гитлер наблюдал за чистовой обработкой корпусов и орудийных башен для тяжелых танков. Довольный увиденным, он отвечал на приветствия инженеров и рабочих, иногда обменивался с ними парой слов или пожимал им руки.
Когда мы покинули большой металлургический завод, Гитлер с восхищением заговорил о современной архитектуре, о зданиях из стекла и металла. «Видите этот фасад Длиной больше трехсот метров? Какие великолепные пропорции. Здесь другие требования, не те, которыми мы руководствуемся при строительстве залов для проведения партийных съездов. Там наш дорический стиль является выражением нового порядка; здесь же необходимо техническое решение. Но если какой-нибудь современный архитектор захочет построить тут дома или здания муниципалитета в заводском стиле, я скажу: он ничего не понимает. Это не модерн, это безвкусица, и к тому же нарушает вечные законы архитектуры. Свет, пространство и функциональность необходимы для рабочего места; в муниципалитете мне требуется благородное достоинство, а в жилом доме – чувство защищенности, которое помогает мне справиться с суровой действительностью. Только представьте, Шпеер, рождественская елка у стеклянной стены. Невозможно! Здесь, как и везде, мы должны думать о разных сторонах жизни».
После металлургического завода мы проехали несколько километров к востоку на завод Нибелунгов, крупнейший производитель танков в нашей программе вооружений. Мы хотели узнать, как продвигается строительство семидесятитонного танка «Тигр Порше», который Гитлер намеревался использовать несколько месяцев спустя во время наступления под Курском. Он был уверен, что этому танку нет равных, и рассчитывал, что несколько десятков таких танков смогут изменить ход летней кампании 1943-го и, соответственно, помогут ему выиграть величайшую из всех войн. Через полчаса он и думать об этом забыл и с тем же интересом обсуждал с Глассмейером, руководителем создававшегося в то время оркестра Брукнера, идею ежегодного фестиваля Брукнера, наподобие Байрейтского. Когда после всех этих архитектурных фантазий, музыкальных грез и военных видений мы приехали к спецпоезду, его грубо вернули к действительности. Адъютант доложил о массивной бомбардировке Парижа. Бомбили среди бела дня при мощной поддержке истребителей; немецкая противовоздушная оборона оказалась бессильна.
23 января 1951 года. В последнее время много читал, все подряд: Мопассана, Д. Г. Лоуренса, Герхарта Гауптмана, Теодора Драйзера, Шницлера, Свифта.
Но из этого чтения я извлек настоящую пользу – у меня появилась новая идея. Я больше не читаю пьесы; вместо этого я раз в неделю хожу в театр. Покупаю билеты, оставляю пальто в гардеробе, собираю труппу и вхожу в фойе с воображаемой программкой в руке. Когда поднимается занавес, со сцены веет прохладным ветерком, и я чувствую запах клея, пыли и папье-маше. На днях посмотрел «Ганса-живодера» Цукмайера; завтра у меня в программе Нестрой с пьесой «Кавалер роз».
Мой мир фантазий настолько совершенен, что в конце пьесы Цукмайера я едва удержался, чтобы не захлопать.
30 марта 1951 года. Кошмарные разговоры о еде, как обычно в течение русского месяца. Небольшое изменение в меню, и мы сразу оказались во власти банальности. Я только что разозлил Дёница, рассказав в саду, как в конце 1939-го Гитлер посылал свой четырехмоторный самолет в Позен за рождественскими гусями. Пилот Гитлера Баур в оправдание говорил, что самолет, который почти не используется, должен иногда совершать полеты для профилактики. Гусей Гитлер отправлял в подарок близким друзьям. Любопытная смесь буржуазной заботы и расточительности монарха, но Дёниц видит в этом лишь нарушение приличий. Он пришел в сильное волнение, но в конечном счете нашел выход, отказавшись поверить в мою историю.
2 апреля 1951 года. Последние дни моего отпуска, который я устраиваю раз в полгода. Каждую ночь принимаю таблетку снотворного. Но сегодня меня переполняют эмоции благодаря письму от моей секретарши фрау Кемпф. Пол Генри Нитце, который много меня допрашивал по поводу вооружений и воздушных бомбардировок, пока я находился в Фленсбурге, и который сейчас занимает солидный пост директора отдела стратегического планирования в Государственном департаменте, выразил в письме сочувствие к моему положению в Шпандау.
4 апреля 1951 года. Это проявление внимания имеет для меня большое значение, хотя в целом письмо лишь выражает сожаление по поводу того, что Нитце ничем не может Мне помочь. Что такого в этом письме? Почему оно меня так взволновало? Возможно, все дело в том, что в этом мире чиновников, охранников и директоров со мной говорит человек моего круга и положения. Какими бы дружелюбными ни были охранники, мне приятно, когда меня хоть раз не называют «номером пятым».
5 апреля 1951 года. Архитектор часто автоматически подсчитывает «кубатуру» здания, вот и я только что прикинул, что объем тюрьмы, в которой содержат нас, семерых заключенных, составляет примерно тридцать восемь тысяч кубических метров. По сегодняшним ценам строительство такого помещения обошлось бы в семь-восемь миллионов марок. Таким образом, моя одна седьмая часть, размером с небольшой дворец, стоит более миллиона марок[12]12
В апреле 1951 года марка стоила примерно 25 центов.
[Закрыть]. Никогда еще не жил с таким размахом.
У нас три кухни: одна для нас, одна для охранников и одна для директоров. Охранникам и директорам еду подают официантки; но, конечно, не нам, хотя в газетах писали, что каждого из нас обслуживают три официантки. Есть секретари, электрики, истопники, уборщицы и прачки. Мы сами поддерживаем порядок в нашей части тюрьмы; мы сами стираем свое белье и приносим себе еду. Тем не менее, на нас работают два повара и два санитара.
Два года назад берлинским властям разрешили вдвое урезать расходы, составлявшие примерно 400 000 марок в год. Число работников тогда сократилось с пятидесяти до тридцати человек. Тем не менее, по моим подсчетам тюрьма обходится примерно в 300 000 марок. Еще 400 000 уходит на содержание охраны западных стран, состоящей из двадцати четырех человек. А еще расходы на ремонт и обслуживание здания. Через пятнадцать лет, когда придет время моего освобождения, в Шпандау будет вложено 15 миллионов марок.
Годовой бюджет Шпандау примерно соответствует сумме, которая тратилась на содержание Бергхофа.
8 апреля 1951 года. Когда стоит такая чудесная погода, днем я обычно сижу в саду с Функом. Иногда поблизости прогуливается Нейрат, потому что Функ – прекрасный рассказчик, а русский директор уже несколько недель не показывался в саду. Сегодня Функ рассказывает занимательную историю о мажордоме Гитлера, Канненберге. Зимой 1939-го Гитлер вместе с нами решил разыграть этого толстого коротышку, и тот получил повестку с приказом явиться в «полк дымовой завесы». С тех пор охваченный паникой Канненберг стал все время крутиться вокруг Гитлера, с тревогой заглядывая ему в глаза – Гитлер тайком ухмылялся, обращая наше внимание на его поведение. Через несколько дней Канненберг, набравшись храбрости, подошел к Гитлеру с вопросом: нельзя ли что-нибудь сделать с этим приказом? Но Гитлер решил продолжить розыгрыш. Нет, ответил он, он не может сделать исключение; в этом правительстве нет такого понятия, как фаворитизм, нет никаких привилегий; это национал-социализм, а не насквозь прогнившая республика. Канненберг чуть не плакал, а Гитлер с тайным злорадством наблюдал за его отчаянием. В конце концов Канненберг выдвинул последний аргумент: его забота о благополучии фюрера, вероятно, важнее, чем управление генератором дыма на фронте. Тогда Гитлер расхохотался и на глазах изумленного мажордома разорвал официальную повестку.
Нейрат, десять лет прослуживший немецким послом в Риме и Лондоне и занимавший пост министра иностранных дел с 1932 по 1937 год, потерял дар речи. Он не мог понять ни сам розыгрыш, ни наше сегодняшнее веселье. Аристократ старой закалки, он был в шоке.
– Значит, вот что там творилось? Так шутил глава государства? Если бы хоть кто-то сказал мне тогда! Значит, вот как управляли рейхом? Так его и проиграли. – Он отворачивается, пожимая плечами. – По отношению ко мне Гитлер всегда вел себя пристойно, как и подобает государственному деятелю.
Улыбаясь, хотя и испытывая легкую тревогу, мы смотрим ему вслед. Его исхудавшая стариковская фигура уходит, как и его эпоха.
20 апреля 1951 года. Все еще работаю над проектом дома, и это занятие приводит меня в состояние эйфории. Много месяцев работы. Снова с рейсшиной и угольниками; вычерчиваю детали; начертил двенадцать листов на чертежной доске. Из-за плохого освещения работал только в Дневные часы, когда за окном светило солнце.
25 апреля 1951 года. Свидание с женой снова внесло сумятицу в душу. Когда я ее вижу, я понимаю, что не только меня приговорили в Нюрнберге, но и ее тоже. Трудно сказать, кто из нас больше страдает. Несколько дней после встречи с ней я не в состоянии с кем-нибудь разговаривать; я остаюсь наедине с собой и своими мыслями.
У Нейрата тоже было свидание. На этот раз его постаревшая жена и дочь приехали вместе. Возвращается он совершенно другим. Он с трудом скрывал признаки сердечного приступа, чтобы жена не волновалась хотя бы из-за этого. Но, по его словам, она все поняла и была бледной как смерть, когда прощалась с ним. Обычно сдержанный Нейрат сегодня выглядит расстроенным. Он несколько раз повторил, что потерял всякую надежду. Он измученно добавляет, что жена хочет снова приехать в августе. «Но к тому времени со мной уже, вероятно, будет покончено». Он первый из нас сдался. Нейрату семьдесят восемь лет.
Чтобы отвлечься, я решил вечером пойти на «Амфитрион» Клейста. «Сценарий» уже давно лежит у меня на столе. В первом акте иллюзия сохраняется. Но потом она начинает рассыпаться. Все разваливается. Гретель в комнате для свиданий. Я осознаю, что больше не переворачиваю страницы. В голове крутятся обрывки нашего разговора. В промежутках – снова Зевс с Алкменой. Нет никакого смысла. Я прекращаю. Интересно, это означает, что мой эксперимент с театром окончен?
Я прошу таблетку снотворного на ночь. Не раздумывая, сразу ее глотаю. Через полчаса она начинает действовать.
28 апреля 1951 года. Трава стала зеленой, на ореховых деревьях распускаются почки, желтые и синие анютины глазки, которые я посадил только позавчера, уже цветут. Побывав на свежем воздухе в саду, я впервые за долгое время снова хорошо сплю. Нейрату работа в саду тоже пошла на пользу. Дёниц ему помогает. Но по ночам у него все чаще случаются приступы астмы и тревоги.
Пиз принес новость: британцы хотят перевести нас из Шпандау на запад, в лагерь для интернированных лиц. Но я предпочитаю более короткий тюремный срок в суровых условиях длинному заключению в более благоприятных условиях. В любом случае неважно, что думает он или думаю я. Ничто не меняется.
4 июня 1951 года. Теперь я могу делать все что угодно в своей части сада. Весной я выкопал яму глубиной около полуметра и разбил сад камней; из нескольких тысяч кирпичей я построил подпорные стенки высотой от двадцати до сорока сантиметров. В качестве зарядки я перевез на тачке все кирпичи из неиспользуемой части сада.
– Что вы собираетесь делать с этими кирпичами? – поинтересовался Нейрат. – Впервые вижу, чтобы кто-то носил кирпичи в сад.
Теперь, когда я лежу на траве в саду камней, как сегодня утром, эти кирпичные стены напоминают мне маленький город. Меня окружают цветы. Сейчас цветут розовые и голубые люпины. Через несколько дней к ним присоединятся ирисы. В одном углу распустились молодые ярко-зеленые папоротники. По стене вьются камнеломки, розовые флоксы, нежные колокольчики и монбреции. Иногда стебель камнеломки вытягивается вверх, напоминая миниатюрную сосну, усеянную крошечными белыми цветками.
Мое решение что-нибудь сделать, чем-то занять свое время нашло новое применение. Мне надоело все время наблюдать и записывать, а потом как можно скорее избавляться от своих записей. У меня не остается ничего осязаемого; перед каждым новым началом я ощущаю все ту же пустоту. Этот сад, эта нелепая архитектура в кирпичах обладает бесценным преимуществом – ее можно потрогать руками, и каждое утро она все еще здесь.
14 июня 1951 года. Гесс смотрит на мой сад камней с кислым лицом, словно проглотил ложку уксуса. «Он не доставляет мне удовольствия. Цветы напоминают о воле!» Мои коллеги-садоводы предпочитают полезные растения; они выращивают редиску, горох, лук, клубнику и помидоры. Дёниц стал специалистом по помидорам. На его кустах висят сорок-пятьдесят плодов. Он радуется, когда кто-нибудь считает их в его присутствии.
18 июня 1951 года. Вчера Пиз раздобыл для меня губную помаду, и я выкрасил в красный цвет несколько зеленых ягод клубники. Каждое утро новый американский охранник на наших глазах с наслаждением съедает поспевшую за ночь клубнику. Сегодня он плюется и ругается; но, увидев, что все, в том числе и его коллеги-охранники, смеются, он смеется вместе с нами.
25 июня 1951 года. Месяц назад я посадил горох группами по три куста на глубине семи, пятнадцати, двадцати пяти и сорока сантиметров и обильно поливал. Сегодня я стал осторожно раскапывать. Даже когда глазок был опущен вниз, стебель изогнулся дугой и вытянулся вертикально. Ни один росток не отклонился от вертикальной прямой больше, чем на несколько градусов, даже те, что были посажены на глубине сорока сантиметров. Только один горошек, посаженный на глубине двадцати сантиметров, утратил чувство направления и вырос в спутанный клубок широких стеблей.
В теплицах нагревательные кабели часто поддерживают температуру у корней выше, чем на поверхности. Значит, дело не в солнечном тепле. Двадцатиметровая сосна, растущая в тени утеса в Шварцвальде, тянется не к свету, а вертикально вверх. Стало быть, сила тяжести? Для разработки технологии получения реакций, схожих с поведением гороха, крайне важно исследовать эти механизмы направления.
Новый эксперимент. Я выкопал яму глубиной сорок сантиметров. На дне выложил вперемешку ряд семена фасоли и гороха. С южной стороны накрыл яму куском стекла. Потом засыпал яму землей. Таким образом, поверхность почвы находится на том же расстоянии от семян, что и стекло. Следовательно, тепло и свет одинаково действуют с обеих сторон. Если именно эти факторы влияют на рост, горох будет расти по направлению к стеклу. Но я по-прежнему считаю, что растения имеют тенденцию сопротивляться силе притяжения.
22 августа 1951 года. Горох снова вытянулся вверх с потрясающим чувством направления, не реагируя на боковой солнечный свет. Одиннадцать из тридцати горошин выбрались на поверхность, хотя путь их был неблизок – сорок сантиметров. Две горошины сдались, поднявшись на двадцать сантиметров, и еще несколько потеряли терпение, не выдержав длинного расстояния. Сантиметров за восемь до поверхности они выпустили боковые отростки со сформировавшимися листочками. Но эти горошины тоже оказались достаточно дисциплинированными, чтобы через полсантиметра отказаться от этих отнимающих много сил бегов. Какая жизненная энергия таится в этих ростках, способных произвести стебелек толщиной полтора миллиметра и длиной сорок сантиметров. Как я и предполагал, v фасоли не наблюдается столь сильного биологического «инстинкта». Только один боб из шести попытался выбраться на поверхность и тоже сдался всего в нескольких сантиметрах от цели, а другие – явно сбитые с толку – выпустили ростки в разные стороны от семени. Почему эти родственные растения ведут себя по-разному?
25 сентября 1951 года. Долгое время я так уставал от работы в саду, что почти не испытывал желания писать. Работа в саду постепенно превращается, как неодобрительно заметил Гесс, в манию. Поначалу она была для меня освобождением. Но теперь меня порой пугает заурядность этой механической деятельности. Если я буду постоянно заниматься садоводством, я вполне могу превратиться в садовника как умом, так и душой. Выживание в тюрьме – это проблема равновесия.
Год шестой
Параллель с Карно – Мрачные новогодние мысли – Мою дочь приглашают учиться в Соединенные Штаты – Гитлер – психолог – Нам предстоит плести корзины – Понятие преданности – Национализм Нейрата – Трудности в общении с Герингом – Использование силы против Гесса – Пан-Европа – Смерть матери – Гитлер о разрушении немецких городов – «Нюрнбергский дневник» Гилберта – Снова в карцере
23 ноября 1951 года. Два месяца, включая четыре недели «отпуска», ничего не писал. Тем временем западные державы объявили о прекращении состояния войны с Германией. Скоро опять появятся немецкие солдаты.
25 ноября 1951 года. В официальном тюремном письме попросил дочерей связать мне на Рождество пару повязок на запястья и «шлем» – цилиндр длиной тридцать пять сантиметров и шестьдесят сантиметров в окружности с отверстием для лица. Нечто подобное я надевал, когда катался на лыжах.
2 декабря 1951 года. Мне не отдали письмо от родных, потому что я не выполнил рабочий приказ французского директора. Никто, кроме майора Бресара, не относится к этому наказанию всерьез. Я злюсь только потому, что мне трудно притворяться равнодушным. Это отнимает слишком много нервной энергии.
3 декабря 1951 года. Увидел статью в «Ревю», но очень торопился и прочитал только часть. Она вышла два с половиной месяца назад, и даже охранники держали ее в секрете от нас – что также избавило нас от назойливых расспросов. Описание нашей жизни в Шпандау в весьма искаженном виде. Мы с Нейратом пришли к единому мнению, из-за подобных спорных статей западным державам так сложно добиться нашего досрочного освобождения. Группа Шираха, Функа и Дёница, напротив, выглядит очень довольной. По некоторым признакам я пришел к заключению, что материал для статьи предоставил Функ. По-видимому, у него тоже есть собственный канал связи с внешним миром; в общем-то, можно предположить, что к настоящему времени каждый заключенный обзавелся незаконными средствами связи.
6 декабря 1951 года. Прошлой ночью прочитал в постели номер «Ревю». Серия статей называется «За стенами Шпандау». Автор – Юрген Торвальд; тюрьма еще не сломала меня, утверждает он и пишет дальше:
«Он все еще верит в себя и в свою миссию, суть которой пока скрыта в будущем. Он по-прежнему отказывается признать, что его жизнь и бесспорные способности остались в прошлом. Единственный из всех заключенных он борется, используя все ресурсы своего яркого интеллекта, самоконтроль и богатое воображение, и стремится пробить окружающие его стены невежества. Он непреклонно, с железным упорством заботится о своем здоровье, бегая во дворе, энергично работая в своем саду камней, он – единственный из заключенных принимает воздушные и солнечные ванны во время занятий садоводством. С тем же упорством он старается не потерять связь с реальностью. Если бы он превратился в полусумасшедшего отшельника, говорит он, у него не осталось бы ни единого шанса».
Я читаю эти слова со смешанным чувством.
Из-за статьи новый американский охранник решил, что я – самый опасный заключенный. «Если мы освободим вас, вы сразу начнете перевооружать Германию. Все генералы уже вернулись». Но он говорит это без злобы, скорее с интересом и даже уважением. Тот факт, что он охраняет столь важного заключенного, тешит его тщеславие.
9 декабря 1951 года. Утром вылил в раковину кувшин теплой воды и рассеяно наблюдал, как она вытекает в сток. В последнее время со мной часто случаются подобные казусы. Чувство неловкости.
10 декабря 1951 года. Прочитал у Гаксота, что во время Французской революции военный министр Карно так быстро и успешно организовал вооружение и обучение французской армии, что молодая республика сумела разгромить австро-прусский альянс в сражении при Вальми в 1792 году Лазар Карно, как и я, был «дипломированным инженером»; то есть он принадлежал гильдии технарей и нанимал на работу главным образом технарей. Он требовал и добивался обещания от политических лидеров революции, что его коллеги не будут подвергаться притеснениям со стороны революционных фанатиков. Удивительные параллели.
11 декабря 1951 года. Дёниц надеется на скорое освобождение. По его словам, немецкую армию не создать, пока наши новые союзники держат высокопоставленных офицеров в Шпандау. Он уже обсуждает с нами, что сказать адвокату о здешних условиях. Функ, с другой стороны, верит в астрологические прогнозы, которые предсказывают, что нас выпустят в следующем году. Даже западные директора и охранники дают Шпандау максимум два-три года. К тому времени завершится перевооружение западных стран, говорят они, и тогда можно будет заняться и этим деликатным вопросом. Мне тоже так кажется. Вообще-то каждый день для меня – настоящая пытка, но я должен держать себя в руках и не поддаваться панике.
С другой стороны, советский директор, майор, вроде бы сказал: «Никто не выйдет отсюда, пока не отсадит весь срок до последнего дня или не умрет». Во всяком случае, так я слышал вчера.
15 декабря 1951 года. Наверное, между заявлением русского директора и моим кошмарным сном есть связь. Я на десятом этаже гостиницы. Чудесный вид на море. Внизу простирается заброшенный пляж. Ярко-желтый песок резко выделяется на фоне изумрудно-зеленого океана. Тяжелый запах. Внезапно моя комната начинает раскачиваться. На мгновение горизонт уходит в сторону. Снова начинается страшная тряска, но я не могу понять, что перемещается: горизонт или комната. Еще несколько ужасных подземных толчков. Здание все больше заваливается на бок. Пол круто наклоняется, и я начинаю скользить вниз. Раскат грома, потом все погружается в темноту. Здание рушится; я скольжу все быстрее по наклонной плоскости и приземляюсь на груду камней и грязи. Вместе со мной падают обломки стен и сваи.
Утром я спрашиваю Пиза:
– Что-нибудь произошло прошлой ночью?
Он смотрит на меня с удивлением.
– Вообще-то да. Рок заснул, сидя на стуле, и упал на пол. Он вас разбудил?
25 декабря 1951 года. На Рождество Вагг и Руле тайком принесли виски и «Кьянти» – к сожалению, в шесть часов утра. Нам пришлось пить на пустой желудок, стараясь при этом не привлекать внимания своим слишком веселым настроением. Ситуация осложняется, когда британский директор тюрьмы полковник Лекорну наносит нам визит. Из опасения, что он почувствует запах алкоголя, мы отвечаем на его вопросы, опустив голову. Он делает вывод, что Рождество вызывает у нас сильные чувства, и, в свою очередь, тоже приходит в волнение. В его голосе чувствуется неуверенность.
1 января 1952 года. Новогодняя прогулка. Всегда одно и то же: Дёниц гуляет с Нейратом, Ширах с Редером и Функом. Мне остается Гесс. Я подавлен, и, вероятно, не следует сейчас подводить предварительные итоги. Но в такие дни соблазн слишком велик. Пошел восьмой год, и к этой мысли можно относиться спокойно, только если пребываешь в состоянии полной апатии. Когда я думаю о том, что сделал за эти годы – почти десятилетие этой короткой жизни – я понимаю, что все мои интересы, все мои усилия были больше нацелены на прошлое и будущее, нежели на настоящее. Все это время я сражался с прошлым, готовился к будущему. Но к чему в действительности я готовился? учил ли я языки, читал ли книги, изучал ли профессиональные журналы, делал ли зарядку – я все время убеждал себя, что должен держаться, что нельзя сдаваться, что необходимо вернуться к реальной жизни здоровым физически и душевно. Но разве не здесь моя реальная жизнь?
Все указывает на то, что оставшиеся пятнадцать лет я проведу в Шпандау. Зачем я себя обманываю? Я выйду из тюрьмы стариком. О каком новом начале может идти речь? К тому же дети уже вылетят из гнезда, и мою семью, с которой я живу в воображении, давно разбросает по всему свету. В мыслях я поднимаюсь в горы, плыву на байдарке по реке, отправляюсь в опасные путешествия. Но к тому времени, когда я выйду на свободу, у меня разовьется подагра, и любая прогулка станет для меня испытанием. Старик из далекого прошлого, чувство неловкости перед друзьями и соседями. Все остальное – самообман. Я веду себя так, будто впереди меня ждет жизнь, а это лишь временная пауза. Эта камера, этот несчастный сад камней, мои эксперименты с бобами и шутки с охранниками – все, что мне осталось. А потом меня ждет лишь что-то вроде эпилога.
3 января 1952 года. Все еще погружен в новогодние мысли. Пытаюсь осознать их значение. Строго говоря, моя жизнь кончилась в мае 1945-го. В Нюрнберге я зачитал свой некролог. Вот и все.
12 января 1952 года. Альберт и Хильда ходили на свою первую вечеринку. Развлекались до четырех часов утра. Их письмо дышит счастьем и предвкушением радости. У них вся жизнь еще впереди.
8 февраля 1952 года. Бумаги нет, поэтому пишу на листке календаря, который висит в камере. Таким образом, директора, сами того не зная, снабжают нас писчей бумагой, хотя ведут тщательный учет каждого клочка, который мы получаем.
После умывания Функ рассказывает о предсказании: в этом году умрет государственный деятель, которого будет оплакивать западный мир, и еще один человек, смерть которого вызовет всеобщую радость.
– Два дня назад, – подводит итог он, – оплакивали смерть короля Англии.
В ответ Гесс мрачно произносит:
– Значит, скоро умру я.
20 февраля 1952 года. Получили известие, что Бонн одобрил участие немецких войск в обороне. Функ с торжествующим видом заявляет, что сейчас, через семь лет, произошло именно то, что пророчески предрекал фюрер в последние месяцы войны: «противоестественный альянс» между Западом и Востоком развалится и однажды немцы будут сражаться на стороне американцев и англичан против русских. Когда я обращаю его внимание на то, что сбывается только часть предсказания, поскольку другая половина Германии, по всей видимости, будет вместе с русскими воевать против западных стран, он приходит в замешательство, бросает на меня сердитый взгляд и удаляется, не сказав больше ни слова.
22 февраля 1952 года. С недавних пор русский директор стал гораздо чаще появляться в саду, будто дает понять, что не желает иметь никакого дела с союзниками. Он запрещает разговаривать и требует, чтобы мы гуляли поодиночке. Вдобавок он настаивает, чтобы свет в камерах не выключали до десяти часов вечера, даже если заключенный хочет лечь спать раньше этого времени. Вчера разгорелся жаркий спор по этому поводу в присутствии заключенных. Западные власти, которых Функ в последнее время с иронией называет «нашими союзниками», выразили ему категорический протест. Только англичане ведут себя более осторожно.
Ковпак, начальник русской охраны, подал рапорт о наказании, потому что Дёниц разговаривал с Нейратом.
25 февраля 1952 года. Из девятисот кандидатов «Американская полевая служба» выбрала Хильду для поездки в Америку на год по обмену. Она будет жить в семье. Может, вызвать ее на пятнадцатиминутное свидание? Это будет первая встреча с одним из моих детей здесь. Ширах видит своих сыновей раз в два месяца, но после каждого свидания они уезжают в слезах. Я отказался от этой идеи.
9 марта 1952 года. С какими чувствами Хильда поедет в Америку? Как будут вести себя люди? Припомнят, что она дочь осужденного военного преступника? Конечно, она будет защищать меня с детской преданностью. Что она на самом деле думает обо мне? И вообще, что я значу для своих детей? В их самых потаенных мыслях, в которых они, возможно, не признаются даже самим себе?
Что ей будет труднее принять: что я был архитектором Гитлера, который не только строил для него дворцы и залы славы, но и создавал декорации для партийных съездов, которые служили фоном для его актов массового гипноза; или что я был его министром вооружений, управлял его военной машиной и использовал целую армию рабов? Меня меньше всего волнует архитектура зданий, которые я проектировал для режима. Иногда я сравниваю ее с Трокадеро в Париже или Ломоносовским университетом в Москве, и считаю, что она лучше. Но меня до сих пор мучает мое участие в повсеместной несправедливости. Я заявил об этом публично и писал в письмах родным; я твердо уверен, что дети думают так же. Их еще долго будет преследовать тот факт, что их отец входил в ближний круг тирана. Может быть, надо написать Хильде несколько строк на эту тему, чтобы она во всеоружии встретилась с Америкой. По крайней мере, благодаря собственным терзаниям я могу помочь ей справиться с ее проблемой.
Чувствую огромное облегчение.
10 марта 1952 года. Набросал черновик письма Хильде. Пока писал, понял, что все немного сложнее, чем мне казалось. Как лучше помочь ей?
12 марта 1952 года. Вчера порвал все черновики. Никакого письма Хильде не будет. Чем дальше я углубляюсь в проблему, тем отчетливее понимаю, что у детей я, вероятно, вызываю не столько комплекс вины, сколько чувство стыда. Мое участие во многих преступлениях стало для них историей. Возможно, они больше видят мою вину в том, что я был приближенным и фаворитом Гитлера, который вместе с адъютантами и секретарями проводил с ним скучные вечера, смеялся над его глупыми шутками и выслушивал его нудные теории исторической философии. И, Бог свидетель, я не могу написать письмо обо всем этом. Даже самому себе.








