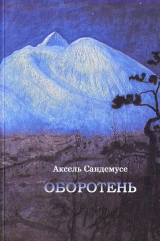
Текст книги "Оборотень"
Автор книги: Аксель Сандемусе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Тень Оборотня
Эрлинг проснулся от доносившихся из кухни звуков, комната была залита солнцем. Он спал так крепко, что, проснувшись, не сразу сообразил, где находится. Он опасался, что, открыв глаза, окажется совсем не там, где ему хотелось бы, что он обнаружит незнакомую комнату или, хуже того, увидит кого-нибудь, с кем ему, голодному, неумытому и злому, придется разговаривать натощак.
Однако он был дома, в своей спальне, и Фелисия наконец-то была рядом. Как он тосковал по ней! Эрлинг выгнулся, а потом потянулся, с наслаждением ощущая каждую жилку, каждый мускул, еще раз блаженно потянулся и зевнул, как собака. Он распрямлялся, словно ребенок после рождения.
Запахло кофе. За окном пели птицы, и он различал девственные очертания берез, которые не сегодня завтра должны были зазеленеть. Утро было тихое и ясное. Солнечные пятна на полу разбудили в Эрлинге радость. Должно быть, он здорово проспал, если солнце уже заглянуло к нему в окно. Ему захотелось обнять Фелисию, но он удержался. Сперва нужно встать, почистить зубы, умыться, а уж потом можно будет снова забраться в постель. Одно цеплялось за другое. Эрлинг часто читал, как человек, разбуженный утром поцелуем, тут же начинал заниматься любовью (иначе истолковать все эти слова и мысли было просто невозможно), – ни о каком кофе не было и речи, а стакан пива показался бы возмутительным нарушением стиля. Потом любовники долго болтали о всяких приятных пустяках, а тем временем обладающий воображением читатель страдал за разбуженного поцелуем героя, который должен был думать сейчас совсем о другом.
Один из недостатков Эрлинга заключался в том, что он просыпался в радужном настроении, если накануне ему случалось выпить, и бывал неестественно зол и мрачен, если засыпал трезвым, такое пробуждение было для него равносильно стихийному бедствию. В молодости он даже мечтал о небольшой язве желудка, которая заставляла бы его по меньшей мере ограничивать количество выпитого, раз уж судьба отказала ему в тяжелом похмелье, а ничто другое не могло заставить его держаться в разумных пределах. Ему не было свойственно и обычное чувство стыда; напротив, он имел склонность смеяться в самых неподходящих случаях, однако ему почему-то становилось стыдно за смех других. Когда-то он, как и многие другие, считал себя не совсем нормальным, но с годами пересмотрел некоторые свои оценки. Однажды, очень давно, дети попросили его выпивать каждый вечер, потому что после этого утром он бывал веселым и добрым. Эллен с трудом удержалась от смеха, хотя, будучи моралисткой, не могла одобрить того, что человек весел и прекрасно себя чувствует, тогда как по воле Божьей должен испытывать раскаяние и отвращение к себе.
Эрлинг тихонько вышел из комнаты. Фелисия в окно видела, как он вылил себе на голову ведро воды и запрыгал на месте, оттого что вода оказалась слишком холодной. Она выбежала к нему с полотенцем. Он выхватил его у нее из рук по дороге в дом, успев, однако, заметить ее тонкую талию, перехваченную ремешком, узкую желтую юбку, не скрывавшую здоровую игру мышц и стройные ноги в серых замшевых туфлях без каблуков. Дрожа, он растерся полотенцем и, зевая, снова нырнул в теплую постель. Пить-пить – выстукивали его зубы. Умираю от жажды!
Только тогда он заметил Фелисию с открытой бутылкой пива в руке.
– Пьяница! – сказала она, но голос ее звучал почти благоговейно.
Эрлинг жадно прильнул к горлышку пивной бутылки и, опустошив ее, со счастливым стоном откинулся на подушку. Фелисия вернулась на кухню. По телу Эрлинга разлилось блаженное тепло, он ощущал каждую клеточку своего тела, дышал всей плотью, даже растопыренные пальцы ног пили воздух.
Фелисия негромко напевала на кухне, готовя что-то вкусное. Задумчиво, временами прерываясь, она пела одну из старинных песен об Оборотне, которой Эрлинг сам когда-то научил ее. По тому, как она пела, он мог угадать, что именно она сейчас делает, – песня звучала то громче, то тише, то вовсе замирала на мгновение в зависимости от того, чем в это время были заняты руки Фелисии.
Мне нагадали в девочках еще,
– Садится иней, падает роса -
Что оборотень принесет мне смерть.
– Так Бог судил, когда я родилась -
О дорогой мой волк, не тронь меня!
– Садится иней, падает роса -
Отдам тебе я шелковую ленту.
– Так Бог судил, когда я родилась -
Малютка Кирстен плакала навзрыд,
– Садится иней, падает роса -
В усадьбе это Педер услыхал.
– Так Бог судил, когда я родилась -
И, выходя из розовых кустов,
– Садится иней, падает роса -
С кровавой пастью волка повстречал.
– Так Бог судил, когда мы родились -
Отважный Педер обнажил свой меч,
– Садится иней, падает роса -
И оборотня на куски рассек.
– Так Бог судил, когда мы родились -
Он в землю меч сверкающий упер,
– Садится иней, падает роса -
И в сердце жало острое впилось.
– Так Бог судил, когда мы родились - [2]2
Здесь и далее стихи в переводе Ю. Вронского.
[Закрыть]
Эрлинг собирал разные предания о падшем человеке, воплотившемся в образе Оборотня.
В прежние времена он встречал людей, которые считали себя христианами и изучали вопросы, по его мнению близкие к богословию, однако все они начинали как-то странно юлить, когда он спрашивал их, верят ли они сами в то, что говорят. Добиться от них ответа было невозможно. Тогда он пришел к выводу, что ни во что они не верят и все их слова только пустая шелуха, они лишь жонглировали постановкой бессмысленных вопросов, чему научились в каком-нибудь молельном доме или в другом подобном месте.
Теперь он понимал: в ту пору ему не хватало зрелости, чтобы найти во всем связь, а может, они и сами ее не улавливали. Или, если улавливали, то полагали, что он не заметит, что свои важные проблемы они облекают в одежды собственного опыта, – и потому были честны, как и вообще все верующие. Всего каких-нибудь пятьдесят лет назад поэты выражали свои мысли с помощью греческой мифологии именно потому, что не верили в нее, не были ею связаны и не совершали никакого святотатства, наполняя ее своими мыслями и пользуясь по своему усмотрению ее символами. Однако греческая мифология была слишком тесна и далека, и потому стало естественным пользоваться вместо нее христианской мифологией с ее широко известными символами и образами. Ослабленное уже христианство открыло Библию для неверующих и профанов. Они смогли черпать в ней сокровища так же, как люди черпают их в классической литературе, когда наконец забывают школьную зубрежку и банальные истины. Люцифера можно понять, лишь пригласив его к себе и внимательно изучив, как сконструирован этот светоносец, ставший великим человеконенавистником и подаривший людям ту тьму, о которой они мечтали, напуганные светом.
Эрлингу казалось, что он много раз видел Оборотня. И неважно, что тот порой являлся ему в обличье саблезубого тигра.
Когда африканцы пьют кровь на своих ритуальных обрядах, они предпочитают заворачиваться в шкуры леопардов и других хищников. Эрлинг верил в Оборотня, как верят в мифологические образы, но в то же время и не совсем так. Старый Оборотень превратился в современного Сатану, Разрушителя, и тогда служители и почитатели прежнего божества, опережая друг друга, поспешили вовремя оказаться в нужном месте. Добрый Бог слишком поздно обнаружил, что его лагерь переполнен перебежчиками и квислинговцами. Наверное, ему показалось, что кроме них, у него на небесах уже никого и не осталось. Зато Эрлинг узнал, что истина никогда не бывает новой.
«Und wie des Teufels einziges Ziel und Streben Verderben ist, so treten nun auch beim Werwolf alle anderen Interessen vor dem Drang nach Mord und Zerstцrung zurьck. Er nimmt die Thiergestalt an, einzig und allein um Schaden zu stiften»[3]3
«И так же, как единственная цель и стремление дьявола – уничтожение, так и у Оборотня все другие интересы отступают перед тягой к убийству и разрушению. Он принимает личину зверя для того, чтобы причинить вред» (нем).
[Закрыть].
Нет ничего истинно дьявольского, до чего не додумались бы люди и чего они не совершали бы и не совершают по отношению друг к другу:
«In der christlichen Zeit, wo man die Existenz der heidnischen Gцtter zugab, um sie zum Teufel erklдren zu kцnnen, wurde der heidnische Cultus zum Greuel der Teufelsanbetung, die Diener der Gцtter zu Teufelsdienern (1 Corinter X, 20–21), und hier entstand mit dem Hexenglauben die Vorstellung von Menschen, die sich mit Hilfe des Satans aus reiner Mordlust zu Wцlfen verwandelen. So wurde der Werwolf in dьster poetischer Symbolik das Bild des thierisch Dдmonischen in der Menschennatur, der unersдttlichen gesammtfeindlichen Selbstsucht, welche alten und modernen Pessimisten den harten Spruch in den Mund legte: Homo homini lupus»[4]4
«В христианское время, когда существование языческих богов признавали, чтобы объявить их чертями, поклонение языческим богам стало сутью поклонения Сатане, а служители этих богов стали прислужниками Сатаны (Первое послание Коринфянам. 107: 20–21), и тут вместе с верой в ведьм появилось представление о людях, которые из чистого стремления к убийству с помощью Сатаны превращались в волков. Таким образом, Оборотень в мрачной поэтической символике стал олицетворять звериное, демоническое в природе человека, ненасытный, враждебный всему окружающему эгоизм, который дал повод и древним, и современным пессимистам для жестокого изречения: человек человеку – волк» (нем., лат.). Цит. по: Wilhelm Hertz, «Der Werwolf. Beitrage zur Sagengeschichte». Stuttgart, 1862.
[Закрыть].
Оборотень – детоубийца, он чует плод в утробе женщины и вырывает его, он всегда чует источники жизни. Во все времена он совершал то, чего люди не хотели видеть, отталкивали от себя, и в конце концов стал более реальным, чем сам человек.
Но вместе с тем, какими бы окольными путями ни ходила мечта человека об искуплении грехов, она тоже никогда не исчезнет. Однажды крестьянин с женой работали на своем поле. В полдень они расположились на опушке, чтобы поесть. Тут из леса вышел волк. В нем было что-то необычное. Крестьянин с женой не испугались его. По глазам волка они поняли, что он не опасен, но как будто чем-то огорчен. Какой он грустный, сказала жена. Может, нам следует дать ему хлеба?
Крестьянин дал волку хлеба, тот отошел в сторонку и стал есть. И тут же превратился в старика с усталым и грустным лицом. Старик опустился на колени перед крестьянином и его женой и поблагодарил их за хлеб. Оказывается, ему было обещано, что он умрет не Оборотнем, а человеком, если кто-нибудь, ни о чем не спрашивая, просто по доброте сердечной даст ему кусок хлеба.
Фелисия принесла поднос с завтраком. Кофе, яйца, джем и поджаренный хлеб. Эрлинг держал поднос, пока она, сняв кимоно, взбивала подушки, чтобы им было удобно сидеть. Потом она тоже забралась под одеяло и устроилась рядом с ним.
– А теперь, пьяница, тебе надо поесть. Мы, как послушные дети, будем пить кофе в постели.
Когда они поели, Эрлинг отнес поднос на кухню и, прихватив какую-то книгу, снова лег.
– Ты собираешься читать? – удивилась Фелисия. – А я-то надеялась, что в твоем организме уже не осталось ни капли коньяка.
– Мне хочется прочитать тебе одну вещь, – ответил он. – Слушай внимательно. Это Хольберг[5]5
Людвиг Хольберг (1684–1754) – датский драматург, историк, философ, видный деятель скандинавского Просвещения.
[Закрыть]. Вот кто умел находить нужные слова для каждого случая. Слушай! «Так или иначе человеку приходится подавлять свои чувства. Существуют даже правила, каковыми следует руководствоваться. Правда, коли кровь горяча и жизненные соки бьют через край, соблюдение подобных правил почти ничего не дает. Коли огонь попадает в порох, порох взрывается, и, коли жизненные соки по той или иной причине начинают бродить, брожение сие будет продолжаться, пока соки не иссякнут. Я прекрасно понимаю, что многие не согласятся со мной и найдутся даже такие, кто, опираясь на собственный опыт, будет свидетельствовать, будто, следуя упомянутым правилам, смогли преодолеть себя и изменить свой характер. Я допускаю, что на свете существуют такие гиганты. Допускаю также, что кое-кто чванится тем, что одержал победу над собой без особой борьбы. Вполне вероятно и то, что человек, долго боровшийся со своими страстями, преодолел их в такой мере, что они почти перестали вырываться наружу».
– Жизненные соки бродят, Фелисия, – сказал Эрлинг и бросил Хольберга на пол, за Хольбергом полетели подушки. – Ты неотразима с этим жемчугом на шее и часиками на руке.
Былое становится сном
Фелисия ненадолго задремала, но, вздрогнув, проснулась: кто-то похожий на дьявола – может, это был садовник Тур Андерссен – склонился над ней и хотел впиться когтями ей в грудь. Вся дрожа, она плотнее закуталась в одеяло.
– Тебе приснилось, что ты упала с дерева? – спросил Эрлинг. – Говорят, это воспоминание передалось нам от наших прародителей – детеныш обезьяны падает с дерева.
– А может, это еще более древнее воспоминание, – возразила Фелисия. – Мы падаем с Древа познания.
– Или сон о том, как человека застали, когда он воровал яблоки.
– Разве это не одно и то же?
Садовник и был тем самым волком с железными когтями, образ которого встречается в старинном церковном искусстве. Фелисии не первой пришло в голову, что Тур Андерссен похож на волка. Однажды, когда он прошел мимо, тетя Густава сказала ей:
– В Конгсберге в цирке я видела волка в клетке на колесах. И теперь при виде Андерссена мне всегда кажется, будто я снова смотрю сквозь прутья клетки.
Фелисия с уважением относилась к наблюдательности тети Густавы. У Тура Андерссена была волчья голова, и кружил он по усадьбе осторожно и неутомимо, как волк. Фелисия сказала об этом Яну, он улыбнулся:
– Тур из Эстердала, там у всех такая походка. Обрати внимание, какой у него большой, плавный шаг. Он потомок древних охотников, проходивших за день по многу миль. Жители Эстердала ходят по горам так же, как жители Нурланда бороздят на своих карбасах Лофотенское море. К тому же у волков не бывает усов.
У садовника были висячие усы. Почему-то они выглядели наклеенными, но независимо от того, есть ли усы у волков или нет, усы Андерссена делали его еще больше похожим на волка. И когда он шел по Венхаугу с ружьем за спиной, это был волк. Одновременно он напоминал Нансена, этакого Нансена-неудачника, которому никогда не пришло бы в голову идти через материковый лед, если там нельзя убить лося, Нансена, лишенного нансеновского огня, с завистливыми глазами, неграмотного, – это была плохая фотография Нансена, жалкая попытка нежити выдать себя за великого путешественника и человека. Жители Эстердала ходят, как лоси, сказал Ян. Ты не находишь в нем отдаленного сходства с лосем?
Может быть, и с лосем, подумала Фелисия, это ничего не меняет. Он похож на лесного зверя. Но стоило подойти к нему поближе, взглянуть в его узкие, недобрые глаза и услышать, как он сбивчиво говорит о моркови и свекле, лесной зверь в нем исчезал. Андерссен был покладист и исполнял все, что от него требовали, он был хороший садовник, но из тех, кто не придумает ничего нового, он делал только то, что знал наизусть. Способности его были ограниченны, фантазия убога, в разговоре с ним было бесполезно прибегать к иронии или иносказаниям. Этого Андерссен не понимал, на лице у него появлялась застывшая маска человека, лишенного чувства юмора, и это не предвещало ничего хорошего. У него начинали опасно подергиваться руки. Он никогда не забывал того, что однажды его тупая башка сочла оскорблением. В мае 1940 года несколько немецких пехотинцев добродушно засмеялись, когда Тур Андерссен поскользнулся на тротуаре в Конгсберге и нелепо замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Он не простил этого немцам. Тур Андерссен стал Ангелом Мстителем, бесчувственным и мощным, как копер, его мужество было мужеством машины. Скользкая грязь на тротуаре, улыбающиеся немецкие парни – и Тур Андерссен все время, пока длилась война, вцеплявшийся в глотку каждому, в ком видел немца. Конечно, он не думал об этом, но немцы невольно позволили ему стяжать славу и в то же время осуществить свою месть, то есть именно то, к чему он стремился. Наверное, он единственный из участников Сопротивления не вздохнул с облегчением, когда наступил мир, но ведь, строго говоря, он и не был на их стороне. Ни Ян, ни Фелисия – Эрлинг был в другой группе – не сомневались, что Тур Андерссен, нацист по природе, лишь из-за смешного случая ополчился против своих духовных братьев. Тур Андерссен не ушел за границу, когда ему нужно было скрыться, он ушел в леса и больше двух лет возглавлял собственную армию, состоявшую из одного человека. Увидев, что над домами взвились норвежские флаги, он явился в Хамар в тесной, обтрепанной немецкой форме. Месть как будто не принесла ему удовлетворения, он был мрачный, как всегда, и с подозрением смотрел на каждого, кто хотел сделать из него народного героя. Он как был, так и остался прозаическим одиноким волком, который никогда не встречал равного себе, а на всех самок смотрел с враждебным недоверием. Над чем это они смеются? Уж не над ним ли?
У Эрлинга были все основания, познакомившись в Венхауге с Туром Андерссеном, сравнить его со своим братом Густавом. Эти два человека довольствовались собой, им никто не был нужен. Правда, Густав в свое время женился, но на самом деле он давно заглотал и переварил свою жену. Он явно не тосковал по сыну, уехавшему в Америку, о сыне говорилось не иначе как о чужеродном отростке, который не смог прижиться дома…
Комнату, где лежали Фелисия и Эрлинг, залил солнечный свет. Фелисия повернулась на бок и обняла Эрлинга за шею:
– Я лежала и думала о падении с Древа познания, – сказала она. – С семнадцати лет и до самого начала войны я мечтала о тебе. Особенно первые годы после нашей встречи. Я представляла себе, что ты бродишь где-то поблизости и ждешь, когда я пройду мимо. Мои мечты становились все более дерзкими по мере того, как таяла надежда на встречу. Я даже придумала, что ты прячешься у нас в саду, чтобы увидеть свою принцессу. Ты, наверное, помнишь – впрочем, конечно, нет, – что моя комната была на втором этаже и окно смотрело на скалу, поднимавшуюся в саду шагах в пятидесяти от дома. С этой скалы было видно, что делалось в моей комнате, если у меня горел свет. Я сама лазила туда и проверяла.
Голос Фелисии дрогнул. Хотя это и было очень давно, ей стало стыдно, как если бы ее застали на месте преступления.
– Порой мне почти удавалось убедить себя, что ты в саду, на скале. Тогда я делала вид, будто забыла задернуть занавески. Я медленно раздевалась и ходила по комнате, словно была чем-то занята, потом медленно надевала пижаму и ложилась. Через некоторое время, словно испугавшись, что ко мне кто-нибудь заглянет, я вставала и задергивала занавески. Все это я вспомнила в нашу с тобой первую ночь в Стокгольме.
Фелисия лежала, сунув голову Эрлингу под мышку, но мысли ее были в Венхауге, где она испытывала радость, дурача другого мужчину, который, как она знала, кружил по саду или поминутно выглядывал из своего окна. Ей было приятно воображать, как он, подкравшись к форточке вентилятора ее теплицы, находит ее закрытой, представлять себе его разочарование, боязнь, что форточку могут открыть, когда он стоит там. Она бы, конечно, не допустила этого. У нее не было намерения вывести его на чистую воду и таким образом испортить себе удовольствие, но ведь Тур Андерссен не знал об этом. Она так и видела, как он отступает в сторону, чтобы она не заметила его, если откроет форточку. Не один раз она стояла в теплице и вслушивалась, зная, что он притаился там, насторожившись, как зверь, – ведь, кроме нее, его мог увидеть каждый, кто проходил мимо. Садовник забавлял и волновал Фелисию, этот бессильный, жалкий картезианец, которого она могла завести одним пальцем. Она видела его за стеной теплицы стоящим в очереди, очередь состояла только из туров андерссенов и тянулась от теплицы до пихтовой рощи и еще дальше, по всей Норвегии – это была очередь в бордель, которая стояла и мерзла, потому что в тот день гетера Фелисия никого не принимала. До появления в Венхауге Тура Андерссена ей никогда не доставляло удовольствия вести с кем-нибудь такую игру. Любой розыгрыш казался Фелисии плоским и глупым, но ей нравилось мучить и унижать садовника, превращать его в своего придворного шута. Когда она стояла рядом по другую сторону стены, у нее бешено стучало сердце, она улыбалась и глаза ее сверкали от горящего в ней самодовольства.
Такой была эта игра. Другая, как, например, несколько дней назад, случалась не так уж часто. Тур Андерссен вышел из-за пихт и остановился. Из жилого дома его не было видно, он не двигался и смотрел по сторонам. Его не видел никто, кроме Фелисии, сторожившей возле форточки. Она была голая, на ней не было ничего, кроме ее обычных туфель без каблуков. Она как раз собиралась закрыть форточку, но ей захотелось узнать, стоит ли он там.
Тур Андерссен зашевелился и осторожно подошел ближе, Фелисия оскалилась, точно собака, но только на мгновение, и снова ее лицо превратилось в маску. Не спуская глаз, она наблюдала, как Тур Андерссен беззвучно, шаг за шагом, приближается к форточке вентилятора.
Как ни странно, Фелисия не видела связи между молоденькой девушкой, ждавшей так и не пришедшего к ней Эрлинга Вика, и грубой игрой с садовником в Венхауге. И не потому, что не искала объяснений этой игре, просто она не видела связи между этими событиями. И даже то, что одно невольно напоминало ей о другом, не навело ее на эту мысль.
Неглупая и умудренная жизненным опытом Фелисия, конечно, знала, что призраки прошлого, когда-то мучившие человека, выходят ему навстречу на темных тропинках, одетые в мечты черной радости. Но даже она поняла это слишком поздно. Всем, не только ей, такое открывается лишь много времени спустя, в другой раз, слишком поздно или никогда.







