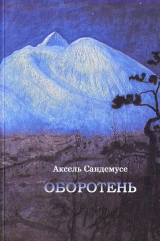
Текст книги "Оборотень"
Автор книги: Аксель Сандемусе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
Теперь ранние летние утра были уже позади. В облачную погоду вороны казались черными, как деготь. Эрлинг взял свою рюмку, но лишь для того, чтобы отставить ее подальше, и попытался убедить себя, что именно это и хотел сделать. Хотя не мог убедить себя даже в том, что ему удалось обмануть ворону.
Страсть к разрушению
Мысли о Стейнгриме и уходящем лете заставили Эрлинга вспомнить усадьбу в Телемарке, в которой, по словам Стейнгрима, Эрлингу было бы неплохо пожить какое-то время. Там Эрлинг оказался свидетелем начала одной любовной истории, но конец ее был ему неизвестен.
Он сидел в кресле и думал о своем доме: я прав, здесь обитает мой духовный мир.
Та история, случившаяся в Телемарке, напомнила ему многое, что занимало его в послевоенные годы, – изолируя других, люди прежде всего изолируют себя, но что заставляет их так поступать? Он считал, что потрясение, каковым явилась война, в конце концов открыло ему глаза на то, почему люди, пренебрегая собственными интересами, способствуют одиночеству друг друга. Эрлинг был уверен, что в вынужденной изоляции и замкнутости каждого человека кроются опасные ростки насилия, которые могут привести к войне. Он имел в виду не внешнюю, очевидную для всех причину войны – тут Стейнгрим был, безусловно, прав, – а ее глубинную причину, делающую войну возможной потому, что в человеке подавлено стремление избегать ее. Всем хотелось бы считать, что от отдельного человека не зависит, начнется или не начнется война, и потому он не несет за нее никакой ответственности. Это в корне неверно: войну начинают именно отдельные люди, которые на первом этапе поднимают свой народ, тоже состоящий из отдельных личностей. А это означает, что война была и осталась и моим и твоим делом, хотя бы потому, что мы не оказали ей должного сопротивления. Считать, будто отдельный человек не имеет никакого влияния, было бы справедливо только в том случае, если б он сразу отказался от своей воли и таким образом сделался истинной причиной войны. В военных уничтожаются последние остатки личности и воли, но благоприятную почву для этого создает школа. С первых дней рождения человека готовят к тому, что думать за него должны другие. Ему говорят: пусть думают те, кому Господь дал для этого головы. При этом умалчивается тот очевидный факт, что народ, не находящийся под иноземным господством, управляется теми, кому он сам и проложил путь к власти. Можно было бы сказать: ничего не поделаешь, такова эволюция – и возразить на это было бы трудно. Если эта слабоумная чепуха и есть самое важное, что осталось после гениального Чарльза Дарвина, можно понять людей, считающих, что, напротив, обезьяны произошли от человека, и, кто знает, может, сам Дарвин, пожав плечами, не стал бы возражать против этого.
Словом, через два года после конца войны Эрлинг жил летом в Телемарке. Он почти не общался с обитателями усадьбы – ни с хозяевами, чья фамилия была Ларсен, ни с работниками. Он приходил в усадьбу только обедать, а жил километрах в двух в маленьком домике на берегу озера. Дом был ветхий, и Эрлингу сказали, что когда-то в нем жил рыбак. Теперь рыбу в озере ловили только мальчишки, они шумно радовались, если им на крючок попадался окунь. Мальчишки устраивались по вечерам на маленьком мысочке, в ожидании клева они ели что-нибудь вкусное, принесенное из дома, и били комаров. Время от времени они вскрикивали, и по их крикам Эрлинг мог вести счет, сколько рыбок лежало у них в ведерке.
Он прожил там меньше, чем собирался, хотя, как сказал Стейнгрим, это было идеальное место для работы. Прогнал Эрлинга оттуда случай, который не имел к нему отношения и в который он не хотел вмешиваться. Однако совершенно отстраниться от жизни других людей, особенно если она проявлялась в грубой форме, он тоже не мог. Не относящаяся лично к нему жестокость тем не менее задевала его старые болевые точки, чувствительные еще с тех времен, когда отвратительные ссоры постоянно отравляли его собственную жизнь. Он не мог отмахнуться от чужих ссор только потому, что они чужие, они мучили его, как неприятный, застоявшийся запах.
Конец истории, прогнавший Эрлинга из усадьбы, никак не вязался с ее началом – любовью, вспыхнувшей между двумя молодыми людьми. При виде этих влюбленных у Эрлинга становилось тепло на душе, хотя он их совсем не знал. Подобное чувство возникает у человека ясным летним утром, иногда его вызывает полученное письмо или бутылка прохладного белого вина на летней террасе. Однако в любовь молодых людей ворвался посторонний человек со своей низменной страстью к разрушению. Эрлинг не выдержал и уехал оттуда уже через день. Фру Ларсен была поражена: «Ведь вы говорили, что вам у нас нравится?» «Да, – ответил Эрлинг, – вчера нравилось, но сегодня я вынужден от вас уехать». По ее глазам он видел, что она решает сложную задачу: он заплатил ей за две недели, но не потребует ли он назад часть этих денег?
Она вздохнула с облегчением, только когда он уехал. Больше всего фру Ларсен огорчало то, что он лишил ее возможности воспользоваться всеми аргументами, которыми она вооружилась прошлой бессонной ночью. Она не виновата, что он уезжает раньше времени. И второе, и пятое, и десятое. Фру Ларсен могла взорваться в любую минуту. Эрлинга тешило, что он доставил ей хоть эту неприятность. Конечно, он не просил ее вернуть деньги, ему дешевле было просто покинуть усадьбу, потому что покой здесь был уже нарушен. И все-таки, сидя в автобусе, он сердился на себя за то, что задается вопросом, имел ли он право потребовать назад свои деньги?
То, что случилось в усадьбе, можно назвать низменной страстью к разрушению, но Эрлинга всегда больше интересовала суть и происхождение того или иного явления, чем его правильное название. Имя человека еще ничего не говорит о нем. Нужно узнать, что у него внутри. С ранней юности Эрлинг пытался понять, что на самом деле кроется за словами, например, за бранью, которой его иногда обливали, словно горячей смолой, – эта брань больше говорила о самом смолокуре, хотя иногда приоткрывала кое-что и о том, на кого она выливалась. Эрлинг размышлял, откуда у пятидесятилетней хозяйки усадьбы такая страсть к разрушению?
В усадьбе работала девушка по имени Мари – добрейшее существо, – которую Эрлинг сначала даже не заметил. Если бы у него спросили, как она выглядит, он не мог бы сказать ничего, кроме того, что у нее есть веснушки. Потом уже он где-то вычитал, что веснушки делают девушек особенно привлекательными, но по здравом размышлении решил, что это всего лишь художественный образ, сменивший холеные плечи или персиковые щечки. Сам он не находил в веснушках ничего привлекательного, но знал, что влюбленному молодому человеку в любимой девушке привлекательным кажется решительно все, он так и слышал восторженные возгласы влюбленного, вызванные веснушками его девушки. Про одну девушку говорили даже, что она очаровательно косит, правда, пока еще не пришло время воспевать бородавки.
Он не замечал Мари и вообще никого, но вот в усадьбу приехал электрик Алм. Эрлинг был во дворе и видел, как электрик приехал на своей видавшей виды машине. Она вздрагивала, точно испуганная птица, и воняла бензином. Электрик был молодой и бодрый; насвистывая и что-то бормоча себе под нос, он сразу же начал доставать из машины провод и инструменты. На вид ему было года двадцать два, и он ни минуты не мог простоять спокойно.
Начало оказалось неудачным. Фру Ларсен вышла на крыльцо и заявила, что он приехал не вовремя: ее муж только что прилег отдохнуть после обеда. Молодой Алм сел на ступеньку крыльца и сказал, что ему это безразлично – у него почасовая оплата, которая идет с момента приезда. Фру Ларсен, онемев, уставилась на молодого человека, а потом решила, что ее мужу все-таки придется прервать свой отдых. Но щеки у нее пылали.
Пока фру Ларсен ходила за мужем, электрик увидел в кухонном окне Мари и скорчил ей рожу. Она засмеялась и загремела посудой, которую мыла, вот тогда-то Эрлинг и заметил, что она хорошенькая.
Электрик должен был жить в усадьбе, пока не закончит работу. В первый же вечер его подпрыгивающий автомобиль с Мари на переднем сиденье отравил выхлопными газами всю округу: электрик был человек действия. Днем Эрлинг видел, как он тянул провода над двором и, точно муха, ползал по стене дома, казалось, что у него много рук, но при этом они удивительно не мешали друг другу. На него было приятно смотреть, он был ловкий, как ласка. Вечером он так же решительно, как работал, посадил Мари в машину и укатил с нею, времени он не терял.
На другой день электрик, насвистывая, работал не менее энергично, чем накануне, а Мари ходила с затаенной улыбкой, означавшей, что девушка, погрузившись в себя и забыв об окружающем мире, думает об электрике. Вечером Эрлинг видел из окна своего домика, что они сидели на камне и смотрели на воду.
Однако фру Ларсен не забыла об окружающем мире. Она не могла сохранять вежливость даже по отношению к Эрлингу и швырнула перед ним прибор, словно он был ядовитой змеей. На другой день после того, как Эрлинг видел влюбленных на камне, фру Ларсен схватила мокрую грязную тряпку и хлестнула Мари по лицу. Для девушки это было полной неожиданностью. Все это было проделано молча. Мари отпрянула к стене и уставилась на фру Ларсен, которая наконец разразилась бессвязной бранью. Кроме Эрлинга и этих двух женщин, на кухне никого не было, и Эрлинг предпочел уйти оттуда. После случившегося он уже не мог там работать и решил уехать. Как потом сложились отношения Мари с электриком, он не знал.
Ужас перед страстью
Человек, охваченный страстью, ускользает из нашей власти больше, чем кто бы то ни было, кроме, может быть, шизофреников. Наше влияние на него сводится к нулю. Тогда мы пытаемся применить к нему силу. Само собой разумеется, это неудачный метод, но так как другого не существует, мы взрываемся и оправдываем свои поступки моралью. Фру Ларсен ударила Мари, защищая репутацию своего безупречного дома. Результатом стало разрушение. Ее поступок не принес радости ни ей самой, ни Мари с ее электриком. Эрлинг не заметил, чтобы фру Ларсен, если только она не действовала бессознательно, получила удовольствие от своего поступка. Ей следовало знать, что человек, который хочет извлечь пользу из морали, не должен допускать, чтобы она ударила ему в голову.
Фру Ларсен кричала о падении нравственности среди молодежи, но еще не знала, имеет ли это отношение к Мари и электрику, ибо могла только догадываться.
Странно, что человечество не погибло под тяжестью грехов, которых заметно прибавилось с тех пор, как Адам и Ева положили им начало. Каждое поколение молодежи добавляет к ним свои грехи, а потом возмущается следующим поколением, которое делает то же самое. Нет смысла писать о том, как старое поколение смотрит на молодое, достаточно привести одну цитату: «Молодежь нашего времени думает только о себе и не питает никакого уважения ни к старшим вообще, ни к своим родителям в частности. Молодые люди не считают нужным сдерживаться, из их слов ясно, что, кроме них, никто ничего ни в чем не смыслит. То, что мы считаем мудростью, молодежи кажется глупостью. Что же касается девушек, они глупы, нескромны и неженственны во всем – в словах, в поведении и в одежде».
Так звучит эта известная песня, и так она звучала всегда на протяжении вот уже почти семи веков, с тех пор как была записана в безбожном 1247 году, однако, возможно, молодежь слышала ее и раньше. С молодежью вечно было что-то не так, и бог знает когда это началось. Эрлинг часто раздумывал над тем, не следует ли людям обратить свой гнев против старшего поколения, если уж им необходимо на кого-то гневаться. А молодежь надо оставить в покое, она и так слишком долго была козлом отпущения за то, что вообще-то свойственно всем людям.
Однако ждать быстрых перемен было бы неразумно, ведь старшее поколение в свое время уже получило свою порцию осуждения. Нынешних пожилых людей следует освободить от повторного осуждения, но осуждать молодых им должно быть запрещено, эти молодые лет через двадцать подвергнутся осуждению своих потомков. Монополия на морализм и в будущем должна оставаться у молодежи, которая, безусловно, внесет в нее новую струю. Эрлинг совсем недавно прочитал докторскую диссертацию датчанина Свенда Г. Юнсена, посвященную юношам, страдающим от ожирения, и их судьбе. Там было написано следующее: «Молодые люди между двадцатью и тридцатью годами, страдающие адипозо-генитальной дистрофией, как правило, продолжают жить со своими родителями и говорят, что их это вполне устраивает. У них не наблюдается оппозиционного отношения к предыдущему поколению, и им нравится, что матери о них заботятся».
Не наблюдается оппозиционного отношения к предыдущему поколению. Ученый-медик полагает, что если молодежь не дерзит, значит, болезненных признаков не наблюдается.
Эрлинг никогда не чувствовал себя настолько старым, чтобы интересоваться моралью молодежи, он и в своей собственной был не очень уверен. Морализм, который он испытал в молодости на себе, не принес ему никакой пользы, зато внушенное им отвращение ко всему парализовало его жизненную энергию и всякое желание работать, что, по мнению Эрлинга, и было целью этого морализма. Такой морализм побуждал людей грешить как можно больше, что, безусловно, тоже входило в его цели. Наверное, именно благодаря этому Эрлинг в зрелом возрасте не возражал против того, чтобы молодежь пускалась в самостоятельное плавание, терпела кораблекрушения, сажая свои суда на мель, но испытала бы на собственном опыте, что плавание прекрасно само по себе.
Главным средством, позволяющим людям вырваться из чужого силового поля, Эрлинг считал любовь. Это положение классически подтверждается вниманием, с которым хозяйки следят за сексуальной жизнью своих служанок и горничных. В былые времена эти преследования превращались в захватывающую охоту, требовалось лишь тончайшее моральное покрывало, чтобы прикрыть им отвратительные проявления властолюбия, грубого садизма, паразитической эротики и других пороков. Если служанка, не выдержав преследований, собирает вещи и просит своего дружка отнести чемодан в такси, хозяйка остро переживает утрату, и это чувство надолго отравляет ей жизнь. Непосвященные уже очень давно объявили любовь своим главным врагом. Человек, охваченный страстью, – пленник другого заколдованного круга, он недосягаем для нас, и нам кажется, что нами пренебрегли даже в том случае, если мы ничего не лишились. Люди дошли до того, что уже не могут справиться со своим растущим страхом, ставшим как бы самостоятельным существом и вызванным тем, что кто-то счастлив независимо от них. Того, кто однажды потерял власть – а большинство, как правило, теряют ее очень рано, – охватывает оголтелая жажда власти, которую мы называем ревностью, и в будущем никакая приобретенная им власть не сможет уравновесить предыдущую потерю, даже если он будет повелевать всем миром. Мы рано оказываемся втянутыми во всевозможные завоевательные войны. Страх потерять влияние – это страх остаться в одиночестве; последней стадией страха является страх смерти. Подобный страх проявляется ежедневно в большом и малом, начиная от нашего мрачного недовольства тем, кто не поздравил нас с днем рождения или не пригласил в кафе, пригласив вместо нас какого-то Фредрика, и кончая нашим плохо скрываемым раздражением по поводу того, что Христиан, которого мы давно не видели, слишком долго переживает смерть брата. Нельзя же месяц за месяцем думать только о смерти брата, говорим мы себе, а может, и ему. Мы обижаемся на друзей, если у них есть друзья помимо нас. Мы вообще готовы запретить им встречаться с теми, кто нам не нравится. Догадка, что нам не всегда оказывают предпочтение, способна довести нас до исступления. К друзьям наших близких – мужа, жены, детей – мы относимся недоверчиво, считая их неподходящей компанией и источником всевозможных бед. Человек должен быть целомудренным и чистым, нам легче отправить его в могилу, чем узнать, что он предпочел нам кого-то другого.
Мальчик на лугу
Один человек как-то рассказал Эрлингу, какое счастье он испытал однажды в детстве, спрятавшись от всех в высокой траве. Ему казалось, что он может лежать там долго-долго, глядя на высокие облака, порхающих бабочек и прислушиваясь к играющему в траве ветру. Он открылся Эрлингу немного смущенно, но был рад, что говорит с человеком, который способен его понять и, уж конечно, не выдаст никому его тайну.
Однако это не помешало ему до смерти напугать собственного сына, которого он застал за тем же занятием. Конечно, у отца не было злого умысла, он не понимал, что делает, и в ту минуту не помнил о собственных счастливых минутах. Эрлинг видел, как напуган, пристыжен и смущен был мальчик. Как можно так замечтаться, с укором сказал ему отец.
Мальчик понял одно: его в чем-то заподозрили, но в чем именно, он не знал. Однако Эрлинг полагал, что дело в другом. Мальчик не должен был покидать очерченный круг – ведь он оказался вне надзора. Если у отца и возникли какие-то определенные мысли, то они помогли ему лишь найти рациональное объяснение своему поступку. Мальчик испытал нервное потрясение, последствия которого трудно было предугадать. Тот, кто назвал бы поступок отца вандализмом, услышал бы в ответ, что мальчик от этого не пострадал и вообще должен понять, что жизнь не всегда легка и приятна. Однако это он мог бы понять и без помощи родителей, запятнавших память о себе. Перспектива была печальная. Отец мальчика считал, что и сам согрешил однажды летом, когда лежал на лугу наедине с травой и облаками вне досягаемости чьей бы то ни было власти.
На болотах
Течение жизни обычно сравнивают с течением реки к морю. Наверное, не следует слишком часто прибегать к этому образу: нам кажется, будто он что-то объясняет, тогда как на самом деле он лишь отдаляет нас от того, чего объяснить не может.
Образ реки подходит далеко не к каждой жизни. Когда-то давно один человек хотел избежать того, что ему приготовила судьба, он был молод и понимал одно: ему следует скрыться, переместиться в другую географическую точку, – сие заблуждение, наряду со многими другими, способствовало тому, что люди начали распространяться по земному шару и уже в наше время заселили новый континент.
Много лет этот человек пытался устроить свою жизнь, исходя из этого заблуждения, но в конце концов в мрачном смятении вернулся на родину. И снова начал устраивать свою жизнь, и снова все кончилось смятением. Так повторялось много раз. К его жизни образ реки не подходит, тут следует представить себе человека, который пустился в долгое путешествие, не имея никакого транспорта. Ему пришлось идти пешком по бездорожью тысячи миль. Однажды утром в ранней юности он ушел из родительского дома, даже не простившись. У него не было ни компаса, ни карты, он определял направление по звездам и шел. Он бродил тридцать пять лет и прожил много жизней, пока достиг цели, он жил в дальних долинах и на болотах, куда не собирался приходить и где не хотел оставаться, в своем странствии он попадал туда лишь потому, что любил окольные пути и временами переставал искать дорогу, которую ему показывали звезды. Случалось и так, что однажды на рассвете он уходил, ни с кем не простившись, из тех мест, где ему хотелось бы остаться. Он встречал по дороге много людей, и они с горечью спрашивали у него, куда он идет. Он не отвечал им, потому что сам не знал этого. Через некоторое время он забывал всех, кого знал, они становились ему чужими, так было всюду, куда бы он ни пришел, и ему никогда не хотелось вернуться в то место, которое он однажды покинул. Случалось, он встречал людей из тех мест, где побывал и где ему хотелось бы остаться навсегда. Иногда они говорили: «Нет, зря мы на него рассчитывали, мы недостаточно хороши для него». Сам же он с удивлением вспоминал свои попытки осесть в том или другом месте – и что он собирался там делать?
Наконец он достиг желанной цели и ему захотелось понять, что же все это было, но он долго сопротивлялся этому желанию и думал: не все ли равно, сейчас мне не до этого.
Однажды он понял, что обманывал себя, как обманывают многие, когда говорят, что сейчас у них нет времени, ибо ими распоряжаются случай и время, а их собственные решения и желания тут почти ни при чем. И он признался себе, что жизнь заводила его в дальние долины и болота, где ему нечего было делать и где он не находил покоя, и тогда ему оставалось только повернуть обратно, найти свой старый след и ориентироваться по звездам, пока они еще светили над ним, – так случалось много раз, и вот он в последний раз вышел на дорогу и посмотрел на звезды, большие и яркие, светившие над его головой.
Он вошел в дом и долго смотрел на тлеющие в камине угли. Когда-то мной слишком долго распоряжались другие, думал он, но вот я остался один и больше никто не распоряжается мной. Раньше я не мог выдержать одиночества, потому что воля моя была подавлена, я искал дальние долины и болота, надеясь встретить там кого-нибудь, кому я буду нужен и кто захочет распоряжаться мной. В тоске по дому спускался я в дальние долины и находил мрачные болота, где царило безумие и смятение умов, и всякий раз выбирался оттуда с большими потерями, в тревоге, отвергнутый всеми и с болью вспоминающий те годы, когда я молил, чтобы кто-то захотел распоряжаться мной.
Он стоял и смотрел на рассыпавшиеся в камине угли и чувствовал, что вся вина, в том числе и его собственная, перечеркнута раз и навсегда.
Путь к душевному здоровью и равновесию замедляет война за то, чтобы дискредитировать разум. Больные мечтатели ведут ее с добрыми намерениями, а религиозные демагоги, цель которых обезвредить чужой разум, – со злыми. В обозримом будущем эту войну не выиграет никто, ибо нападающие не могут открыто нападать на разум, не доказав тем самым, что и они тоже вынуждены прибегать к его помощи. Однако, как и все войны вообще, эта война тоже распространяет свою заразу. Особенно усиливается война против разума перед очередными политическими выборами, когда люди, управляющие партийными двигателями, любыми способами пытаются достичь контакта с теми туманностями, которые обычный человек считает своим разумом. В последние дни перед выборами они сами окончательно превращаются в чернь. Другого пути к голосам избирателей не существует, и, должно быть, демагоги правы в своем презрении к избирателям, но в то же время они оставляют опасные улики, показывающие, что народное правление – это обман. То, что мы слышим, – это не голос народа, а эхо голосов демагогов. Они выдвигают и выбирают самих себя.
Эрлинг был уверен, что никто не может безнаказанно долго извращать, обманывать и попирать свой разум. Попробуйте без свидетелей обвинить такого человека в низости, и его смех докажет вам, как сильно поражен он этим недугом.
Очень давно, когда он еще жил дома, в Рьюкане, в семье бедного портняжки, терроризируемый старшим братом Густавом, ставшим впоследствии подрывником, Эрлинг верил, что взрослые знают все. Даже его несчастные родители и безрукий дедушка знали все. Они только не хотели признаться, что все знают и могут выразить это одной фразой, даже одним словом. В своем всемогуществе они не хотели сказать Эрлингу это слово. Они были великими, злыми богами, которые не позволяли ему увидеть свет этого единственного слова, объяснявшего, что такое жизнь, но главное – почему люди злы и любят уничтожать себе подобных, уничтожать взглядом, насмешкой, кулаками, разрушать и презирать все, объяснявшее, почему в мире нет добрых слов. Он уже не чаял получить ответ, что такое жизнь. На этот вопрос не было ответа. Как ни странно, многих удовлетворяло объяснение, что жизнь будет продолжаться и не прекратится даже после их смер-ти. Эрлинг был готов согласиться, что в той или иной форме жизнь не исчезнет, но ведь это еще не объясняло суть того, что не могло прекратиться. Еще до того, как он пошел в школу, Эрлинг решил, что люди либо тупы, либо таким образом скрывают ккую-то тайну. Что они хитрят, лгут или просто глупы.
Со временем ему стало казаться, что он наконец нашел ключевое слово, которым люди обозначали свои беды. Как он и думал в детстве, объяснение заключалось в одном слове, но за ним стоял печальный опыт всей жизни, слово это было – Оборотень.
Он вспомнил утро, когда ему позвонила какая-то женщина и сказала, что Стейнгрим болен… гм… очень болен…
Эрлинг понял, что звонившая начиталась всякой чепухи о том, что тяжелую новость следует сообщать осторожно, и потому спросил прямо:
– Вы хотите сказать, что Стейнгрим Хаген умер?
– Да, – безжалостно проговорила звонившая.
– От чего он умер?
Женщина опять заговорила щадящими обиняками, но на этот раз испуганно и смущенно; в конце концов Эрлинг, поискав глазами стул, прервал ее:
– Он покончил самоубийством?
Она заметно оживилась:
– Да! Должна сказать, что вы очень…
Эрлинг осторожно положил трубку и присел к столу. Его охватило безразличие, что-то медленно заполняло его голову.
В следующие дни он безостановочно ходил по комнате, милю за милей. Один раз он заснул, сидя на стуле, кто знает, сколько он проспал, один час или десять, проснувшись, он продолжал ходить. Часы остановились, наступила ночь, он ничего не замечал. Позвонила Фелисия. Услыхав по голосу, что Эрлингу уже все известно, она заплакала и положила трубку. Сейчас они не имели отношения друг к другу.
В тот день, когда кремировали Стейнгрима, Эрлинг сел писать то, что он назвал «Письмо к пеплу».
Потом, когда у него не стало сил писать дальше, он не захотел перечитывать это «Письмо к пеплу», а просто запер его в стол, – именно тогда, мучаясь сомнениями, выбирая разные обходные пути и уловки, останавливаясь, размышляя и впадая в отчаяние, он пришел к тому, к чему шел годами, не сомневаясь, что рано или поздно придет к нему, к тому единственному слову, которое, как он считал в детстве, от него утаили взрослые.







