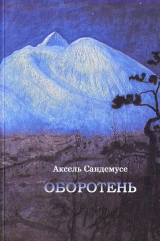
Текст книги "Оборотень"
Автор книги: Аксель Сандемусе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
Человек без угрызений совести
Бледный, с запавшими глазами, Эрлинг подошел к телефону и позвонил своему другу Эйстейну Мюре.
– Как у тебя с деньгами, Эйстейн?
– Что случилось, Эрлинг?
– Можешь дать мне взаймы две сотни?
– Что-нибудь случилось? Я же слышу по твоему голосу!
– Чего тут рассказывать.
Эйстейн грустно вздохнул:
– Понимаю. Я видел тебя в городе два раза.
– У меня был запой.
– И долго?
– А какой сегодня день?
Эйстейн присвистнул:
– Значит, ты дома? Сегодня четверг.
– Я не могу выйти из дома. Эйстейн, можешь прислать мне денег?
Эйстейн ответил не сразу:
– Извини, Эрлинг, но мне не хотелось бы посылать их тебе почтой. Сегодня в моем распоряжении машина, я могу приехать к тебе в Лиер. Устраивает?
– Еще бы! Но у меня такой беспорядок, я что-то разбил…
– Кто был с тобой?
– По-моему, я был один.
– Обещай, что никуда не уйдешь, пока я не приеду. Я буду у тебя часа через два.
– Я никуда не уйду, это исключено. Должно быть, меня привезли домой в долг или кто-то заплатил шоферу вперед. У меня все провоняло водкой. Те бутылки, что я не выпил, я, по-видимому, разбил молотком. Привези, если можешь, красного вина.
– Хорошо.
– Мне надо выйти из этого состояния.
– Я понимаю. Ложись в кровать и жди меня.
В мире Фелисии
Юлия Вик, или Юлия Венхауг, как ее называли в тех краях, держалась уединенно, но одинокой себя не чувствовала. Первые годы она рабски подражала Фелисии, и трудно сказать, какие из своих мнений и оценок она позаимствовала у Фелисии, а какие были ее собственные. Юлия приняла в себя весь внутренний мир Фелисии, однако заблуждалась, если считала, будто о Фелисии Венхауг она знает все.
Фелисия имела привычку думать вслух и высказывалась далеко не двусмысленно. Наедине с Юлией она делала это постоянно, и Юлия могла подумать, что ничего тайного у Фелисии уже не осталось. Она была уверена, что Фелисия вообще не считает нужным что-либо скрывать.
Все услышанное Юлия воспринимала как сагу. Иногда ей казалось, что это сага о ней. Ее отец был препарирован и описан так, как дочерям редко случается слышать, разве что от матерей, желающих очернить перед дочерью ненавистного супруга. Фелисия же сделала это так, что дочь еще больше полюбила отца за его ошибки. Юлия никогда не сомневалась в том, что Фелисия горячо любит Эрлинга, но ей было трудно осмыслить их отношения из-за общепринятой точки зрения на любовь и брак. Она предполагала, что со временем тоже выйдет замуж, но не желала себе такого брака, как у Фелисии.
Она просто слушала сагу. И училась, сама того не сознавая, как создается устная традиция и почти слово в слово передается следующим поколениям. Фелисия не боялась повторений, поэтому Юлия многое слышала по нескольку раз, а кое-что всплывало снова, но уже в другой связи.
Юлия еще была ослеплена открывшимся ей миром, отличавшимся от известного ей, как горящий город отличается от груды горящего хвороста. Она чувствовала гордость, и у нее появилась уверенность в себе (но она была умная девочка, и потому в ней одновременно проснулось и критическое чувство) оттого, что эта женщина, не похожая ни на одного человека из прежнего мира Юлии, доверяется ей и любит ее и ее отца. В ней все еще тлела надежда, что Фелисия – ее настоящая мать, что они с Эрлингом просто заплатили той ужасной женщине, чтобы она взяла на себя позор Фелисии, которой в ту пору было семнадцать или восемнадцать лет и у которой был очень строгий отец. Юлия смотрела на мир глазами Фелисии, но темперамент у нее был более спокойный. Внешне она была очень похожа на Эрлинга и вообще во многих отношениях напоминала его. Хотя вряд ли повторила бы его заблуждения и ошибки. Однако уверенности в этом у Фелисии не было.
Юлия любила сидеть с каким-нибудь рукодельем и повторять про себя рассказы Фелисии, как молодые люди любят читать про себя стихи, и ей казалось, будто все это случилось с нею самой.
«Мама умерла, когда мне еще не было десяти лет, и все стали считать меня как бы мамой Харалда и Бьёрна. Мне это было неприятно, потому что я всегда мечтала быть мальчиком. Мне хотелось быть одним из моих братьев, но вот которым из них, Бьёрном или Харалдом, этого я решить не могла. Харалд был на два года моложе меня и на год старше Бьёрна. На моем месте было глупо хотеть быть Бьёрном, ведь тогда я оказалась бы на год моложе Харалда, но иногда мне хотелось быть их младшей сестрой. А иногда – Харалдом – добрым старшим братом Бьёрна. Эти мечты накатывали на меня волнами, и я не освободилась от них, пока не встретила Эрлинга. После этого они забылись, как забывается старая любовь.
Харалд и Бьёрн очень дружили, когда им было соответственно восемнадцать и семнадцать лет или около того. Они дружили и раньше, но тогда они без конца дрались и вцеплялись друг другу в волосы. В юности они сблизились, и первые девушки, в которых они влюбились, были подругами. Они часто приходили к нам домой. Я, помню, очень сердилась, что они считали меня кем-то вроде взрослой тетушки. Девушку, у которой есть младшие братья, часто считают старше, чем она есть на самом деле. Чтобы чувствовать себя юной, нужен старший брат. Может быть, девушки и влюбляются в своих отцов, чтобы обрести, как им кажется, вечную юность. Говорят даже, будто девушки обязательно влюбляются в своих отцов. И значит, такое объяснение ничем не хуже и не лучше других. Теперь смешно, но я ревновала братьев к этим девушкам. У меня они ничего не отняли и были не самыми худшими, какие могли попасться моим братьям.
Я не сомневалась, что отец хотел бы видеть их своими невестками, и мне становилось грустно. Я понимала, что это глупо. Девушки были дочерьми его знакомых, людей таких же состоятельных, как и он сам, один из них был врач, а другой – загадка, так называемый деловой человек. Но через год все закончилось шумно и драматично, однако все четверо быстро утешились с другими. Отец ничего не сказал, он вообще мало говорил, однако я видела, что он чувствовал себя не в своей тарелке, когда в доме появлялись другие девушки. Говорили, что он сильно постарел после смерти мамы, но я этого не помню. Мне казалось, он всегда был одинаковый до самой своей смерти, а умер он поздней осенью 1940 года. Отец был немного сутулый, движения у него были слегка разболтанные, лицо напоминало морду добродушного волка. Сколько себя помню, я была необъяснимо и болезненно влюблена в него. Иногда мне становилось так его жаль, что я начинала плакать, если, конечно, была одна. Почему-то я верила, что отец бывал счастлив. Странно было слышать, что он состарился в тридцать четыре года, но многие так считали. Насколько мне известно, именно в этом возрасте мужчина достигает пика своей жизни, желания плоти и человечность уравновешивают в нем друг друга, он уже миновал возраст, который, если верить Кинсею[18]18
А.С. Кинсей (1894–1956) – американский зоолог, автор популярной книги «Рапорты Кинсея» (1948).
[Закрыть], отличается наивысшей половой активностью, но сердце бывает еще не созревшим. Человека надо рассматривать как единое целое. Я считаю, что мужчина между тридцатью и опасными сорока годами находится в расцвете сил. Мир принадлежит ему так, как не принадлежал прежде и не будет принадлежать в будущем, хотя он сам, может быть, надеется, что удержится на достигнутом уровне благодаря уважению, деньгам, влиянию и власти. Если у мужчины слабая голова, этот возраст для него действительно опасен. Его гороскоп известен, опытные люди уже знают, на что он годится и до чего не дотягивает. Женщины восхищаются им больше, чем раньше, считая его хорошим любовником, украшением общества, козырным тузом, которым можно похвастаться перед другими женщинами, и надеждой на будущее. Если же мужчина неправильно оценивает происходящее вокруг него и забывает, что этот возраст, как и любой другой, отмерен так же, как время светского визита, жизнь жестоко наказывает его за это. По-моему, Мартин Лейре был как громом поражен, когда обнаружил, что уже растратил все свои дары. Может, этого и не было, однако думать так очень соблазнительно.
Прошло много лет, теперь моей матери было бы шестьдесят три года, а отцу – шестьдесят четыре. Последняя фотография матери была сделана в 1926 году, за год до ее смерти, женщина, изображенная на ней, моложе, чем я сейчас, она навсегда осталась молодой. С каждым годом мне все сильней хочется встретиться с нею. Однажды я читала, что даже параллельные линии пересекаются в бесконечном пространстве. О маме ходили разные сплетни, спустя много лет они дошли и до меня. Должна сказать, что после этого она очень выросла в моих глазах. На фотографии видна возвышенность ее души и доброта. Я не могу сдержать слез, когда вижу эту земную, материальную оболочку того, что ощущаю близко и днем и ночью. Она не умерла. Не знаю, почему я помню ее только такой, других воспоминаний у меня не сохранилось, как будто я никогда ее не видела. А ведь мне было уже десять лет, когда ее не стало.
Таким же близким я ощущаю и отца, он лишился жизненного мужества, когда потерял ее. Отец не умел выражать свои чувства или полагал, что все и так уже давно сказано и прибавить больше нечего. Иногда в его карих глазах мелькало шутливое выражение, и очень редко в словах звучал суховатый юмор, особенно в тех случаях, когда ему казалось, что кто-то хватил через край. Он был сдержанным во всех отношениях. Только один раз я слышала от него нечто похожее на остроту, это было перед самой его смертью, и он знал, что умирает. Он сказал, что хочет видеть своего адвоката, и тот немедленно прикатил к нему на машине, бросив, как я понимаю, все остальные дела. Отец отчаянно боролся, чтобы не впасть в забытье. Он хотел внести дополнительные указания в свое завещание – это была его последняя судорожная борьба за благополучие своих детей, но он не сделал ни одного распоряжения, которое хоть как-то ограничило бы нашу свободу действий. Когда дела были закончены, отец в последний раз лег поудобней и сказал адвокату Хенрику Ли: Надеюсь, когда ты последуешь туда за мной, ты согласишься и там вести мои дела?
Думаю, Хенрик Ли не откажется от этого предложения, но пока он еще здесь.
Мне говорили, что я очень любила мать и что отец боялся за меня, когда она умерла; тем более странно, что уже через год я забыла, как она выглядела. Иногда я чувствую ее близость, и что-то как будто оживает, когда я смотрю на ее фотографию, – тогда я ощущаю глубокую, не мою скорбь. Мама подходит ко мне близко-близко, обнимает меня словно со всех сторон, и мне делается до боли страшно, что ее нет, что я не вижу ее лица, не помню ее красивого голоса. На фотографиях у нее большие ясные глаза и чувственный рот. Она смотрит на меня, точно хочет одновременно и упрекнуть меня, и простить за то, что я забыла ее. Ей было тридцать три года, когда она умерла. Отец умер в сорок семь. Мама умерла от воспаления легких, в то время это была очень опасная болезнь, а отец – от заболевания крови. Врачи надеялись вылечить его, однако он стал быстро слабеть и угас за две недели. С самого начала оккупации я ждала, что он умрет. У него не было сил сопротивляться. Думаю, в тот страшный апрельский день его охватила безнадежность. Ему стало все равно. Прислонившись к окну, он смотрел на идущих мимо немецких солдат. Покачал головой. Я видела такое движение у стариков, стоявших над могилой, в которую опускали опередившего их молодого человека.
Когда мне было четырнадцать, отец хотел жениться второй раз, нам об этом никто не говорил, и по отцу долго ничего не было заметно. Но четырнадцатилетнюю женщину не проведешь. Однажды вечером отец привел свою избранницу домой. Харалд и Бьёрн вежливо поздоровались и уткнулись в свои книги. Я видела, как они украдкой поглядывали на нее. Мне пришлось поддерживать беседу, и я чувствовала свою беспомощность – мне никогда не победить эту сильную, красивую женщину. Я была потрясена, словно впервые столкнулась с опасностью, и меня разрывали противоречивые чувства: мне хотелось подойти к ней, обнять за шею и заплакать, но не менее сильно хотелось закричать, бросить в нее чашкой, вазой, чем угодно. То же чувство я испытала три года спустя, когда Сесилия Скуг отняла у меня Эрлинга.
Вовек не забуду растерянных глаз Харалда, когда отец представил нам свою гостью – фру Харалдстад. Фру Сиссель Харалдстад.
Я уже тогда знала, что на всю жизнь запомню лицо этой фру Харалдстад, даже если никогда больше не увижу ее, ее лицо, а не лицо моей покойной матери.
Мне было отказано помнить лицо матери, я должна была помнить лицо Сиссель Харалдстад.
Так и случилось. Две женщины одержали надо мной верх – Сиссель Харалдстад и Сесилия Скуг, – и я до сих пор боюсь их и холодею при одной мысли о них. Они приходят ко мне во сне и смеются.
Взгляд этой женщины словно случайно скользнул по мне и по моим притихшим братьям. Один раз, когда она смотрела на меня, я поняла, что говорили мне ее глаза. Сегодня-то я знаю: из нас троих именно я интересовала ее тогда, она, опытная женщина, читала меня, как раскрытую книгу, и глаза ее говорили: Почему ты против меня, Фелисия? Ведь в доме твоего отца я не смогу потеснить тебя.
Отец проводил ее на трамвайную остановку, он сказал, что сейчас вернется. И вернулся, но один или два трамвая они пропустили. Через несколько минут после их ухода Харалд и Бьёрн поднялись и ушли к себе. После они никогда не говорили об этом и, насколько я их знаю, между собой тоже.
Пришел отец, я сидела и делала вид, что читаю газету. Он походил по комнате, сказал что-то малозначительное, а потом достал ключи и открыл шкаф, где хранились спиртные напитки. Мне нужна опора, сказал он. Выпивал отец редко. Он был очень умеренный человек, почти как Ян. Принеси мне, пожалуйста, бокал и бутылку сельтерской, Фелисия, попросил он так мягко, что у меня на глаза навернулись слезы. Я догадалась, что он расстался с этой женщиной.
Отец смешал виски с содовой, я обратила внимание, что напиток получился слишком темным. Обычно он был светлый и игристый, и я сразу поняла, чем объяснялась эта разница. Он поставил бутылку на место и запер шкаф, потому что наша экономка – ей было шестьдесят, и она поступила к нам после смерти своей прежней хозяйки, какой-то старой вдовы, – не могла справиться с искушением, если шкаф оставался незапертым. Вначале, когда она только пришла к нам – это было вскоре после смерти мамы, – она несколько раз сильно напилась. В подпитии она разыгрывала перед нами сценку, как старая цыганка переживает заново свою бурную молодость. Вообще она была тихая и очень милая женщина. Первый раз отец проявил великодушие, второй – нет и на другой день объяснил Эльвире, что это был очень дорогой коньяк. Он всегда как-то сбоку подбирался к цели, точно краб. Эльвира расплакалась, попросила разрешения сесть и с трудом проговорила сквозь икоту и слезы, что она просто бывает не в силах удержаться. Я не такая пропащая, как вы думаете, господин Ормсунд, сказала она, по щекам у нее текли слезы. Мне нужна опора, но лучше пусть ваш шкаф всегда будет заперт.
Она оказалась права, и с тех пор выпивка в нашем доме всегда называлась“ опорой”. Эльвира не забывала проверять, заперт ли папин шкаф, два раза он оставался открытым, и тогда мы имели несчастье снова увидеть Эльвиру пьяной. Она танцевала перед нами и шумно радовалась, что на сей раз виноват господин Ормсунд. И была счастлива, что на другой день ее не будет мучить совесть. Я всегда вспоминаю Эльвиру, когда Эрлинг выпивает больше, чем следует, но он не бывает таким веселым, как она.
Отец смаковал свой темный напиток и не произнес ни слова, пока не выпил почти все. Он поднял бокал с остатками виски, и по его влажным глазам я поняла, что напиток подействовал. За твое здоровье, Фелисия, сказал он и улыбнулся мне, и пусть нам четверым всегда будет хорошо вместе.
Почти всю ночь я проплакала и потом долго чувствовала себя преступницей. Да я и сейчас чувствую себя преступницей, хотя время смягчает остроту впечатлений, в том числе и впечатле-ний от своих дурных поступков. Теперь, когда мне столько же лет, сколько было тогда отцу, я лучше, чем раньше, вижу, как взрослые страдают от тирании детей и подростков. Помнит ли меня фру Харалдстад? Может, даже ненавидит? Ненавидит ту девочку, перед которой ей пришлось отступить, но которая сама не проявила к ней такого же внимания? Знает ли она что-нибудь про меня? Может, сидит где-нибудь в Осло у окна и следит за мной, когда я прохожу мимо? И думает: вон идет Фелисия Ормсунд Венхауг, она оказалась слишком эгоистичной и отказала своему отцу в праве быть мужчиной. Как, интересно, сложилась жизнь у этой жадной Фелисии?
Я многое поняла про папу и маму, когда стала взрослой. И часто думала, в какой степени наш брак с Яном повторяет их брак. Мы с братьями пошли в материнскую линию, это нам всегда говорили.
Между моим отцом и Яном нет никакого сходства. Они совершенно разные, насколько могут быть разными люди, относящиеся к одной расе. Отец проснулся бы в холодном поту, если б ему приснилось, что я выхожу замуж за человека, говорящего на ландсмоле[19]19
Второй норвежский государственный язык, составленный лингвистом-самоучкой во второй половине XIX века на основе сельских диалектов и очищенный от датского влияния.
[Закрыть]. И тем не менее, несмотря на все свое высокомерие, он бы порадовался, что уже поздно выгонять меня из дома.
Однажды зимней ночью я возвращалась из Старого Венхауга, у меня под ногами скрипел снег. Было новолуние, серпика луны видно не было, но от снега и звезд было достаточно светло. В такие морозные ночи от самых ярких звезд во все стороны расходятся лучи. Ты, наверное, видела, как в старину рисовали звезды? Мне было жарко и весело от морозного воздуха; дома, в нашей уютной гостиной, мне совсем расхотелось спать, хотя шел уже третий час. Я взяла сигареты, рюмку вина и села у камина. Я сидела так, чтобы мне были видны две большие фотографии моих братьев. Сперва я вспомнила тот день, когда в первый раз приехала в Венхауг, это было 3 ноября 1945 года. Я помню полную ожидания и, по-моему, немного испуганную улыбку Яна – он боялся, что Венхауг мне не понравится, что он окажется недостаточно хорош для меня. Не помню, о чем я думала, стоя со спящей Гудни на руках в гостиной Старого Венхауга. Но я чувствовала, что многие поколения прежних хозяев Венхауга приняли меня. Мне было так спокойно, так хорошо, словно все они собрались там в гостиной и смотрели на меня. Как ты хорошо улыбаешься, Фелисия, сказал Ян. Положи куда-нибудь ребенка. Вот так приветствовал этот негодяй свою старшую дочь, приехавшую в Венхауг, – Гудни положили в кресло, а мы легли на старую диковинную кушетку, которая не была предназначена даже для того, чтобы на ней сидели. Это было так хорошо и смешно, что невозможно забыть, хотя больше мы этой кушеткой уже не пользовались. Это был единственный раз, когда я слышала, как Ян чертыхался. Ян не Эрлинг, который постоянно чертыхается и бранится. Не в духе Яна прибегать и к крепким выражениям в самые неподходящие мгновения. А вот эротическая лирика Эрлинга не годится для детских хрестоматий.
Я пила вино и смотрела на своих братьев, взиравших на меня со стены. Подпольная кличка Харалда была Святоша, а Бьёрна, который был кузнецом, – Кузнец. Харалд сам выбрал себе эту кличку, потому что так его звала я. Не думаю, чтобы он на самом деле был святошей, но он хотел заниматься историей религии. Надо же, один сын у меня – историк по вопросам религии, а другой – кузнец, говорил отец с усталой улыбкой, но не думаю, чтобы его сильно огорчало, что никто из сыновей не продолжит его дело. То, что его могла бы продолжить я, отцу не приходило в голову, а сама я никогда бы не заикнулась об этом. Мне было бы страшно увидеть его сперва удивленную, а потом надменную улыбку. Я прекрасно знала, что мне отведена роль послушной девочки, которая, конечно, получит образование, но всего лишь для вида. Мне предстояло выйти замуж или стать со временем тетей Фелисией в семьях моих братьев. Отец считал это в порядке вещей, и противиться этому было бы бессмысленно, хотя ничего такого он никогда не говорил».
Фелисия не могла скрыть, что это было ей неприятно.
«Пока я смотрела на фотографии моих братьев и тянула вино, мне показалось, что за спиной у меня стоят Ян и Эрлинг и тоже смотрят на их фотографии. Я не оборачивалась, зная, что там их быть не может.
Меня вдруг поразило, что все, кого я знала, кроме моих братьев, были старше меня. Именно поразило, хотя я всегда знала это. Я не чувствовала себя моложе отца, моложе учителей в школе или старших товарищей. У меня были ровесники, такие, как Эрлинг и Ян, но не было более молодых друзей или знакомых.
Так-таки никого? А мои дети? А дочь Эрлинга, живущая в моем доме? Нет, отвечал во мне спокойный голос, ты не знаешь никого, кто был бы моложе этих двоих, которые умерли. Все остальные – твои ровесники.
Ну а старше меня? Но я не могла вспомнить никого, кто был бы и старше меня.
Это сидело во мне, словно давно усвоенная истина, над которой следовало поразмыслить. В моей голове шла занимательная охота – охота за ключом к моей жизни.
На втором этаже в коридоре скрипнули половицы, кто-то осторожно подошел к лестнице. Начал спускаться. Должно быть, это Гудни отправилась на поиски пищи. Она частенько посещала по ночам кладовку. Но это был Ян, растрепанный, в пижаме и домашних туфлях.
– Я не спал и понял, что ты сидишь здесь, – сказал он, запустив себе в волосы всю пятерню. Потом взглянул на фотографии и спросил: – Я помешал?
Я налила ему вина, оно помогает Яну заснуть. Мне пришлось рассказать ему о странном чувстве, возникшем у меня, пока я сидела и смотрела на фотографии братьев. Он выпил немного вина и сказал:
– Я так и думал.
Я не смела поднять глаза. Не знаю, о чем он думал раньше и о чем подумал теперь, но в его словах был какой-то тайный смысл. Я уже сталкивалась с этим – Ян знает обо мне больше, чем я сама. Как ни странно, но из-за этого я чувствую себя с ним даже более уверенной, его присутствие придает мне силы. Он знает обо мне то, что я считала своими самыми большими тайнами, и, как ни парадоксально, это заставляет меня даже плакать от радости. С Эрлингом все иначе. Если Эрлинг решит, что он до чего-то докопался – в чем часто заблуждается, – он становится навязчивым и несносным, как полицейский, который считает, что сейчас-то преступник и откроет ему всю правду. Сколько раз мне хотелось попросить его не лезть в мои дела. Поезжай домой, думала я. Кто дал тебе право мучить меня?
Однажды мне захотелось сказать Яну одну вещь, я нашла его в хлеву, где он рубил турнепс для коров, он весь вспотел от работы. Двое наших работников болели гриппом. На Яне был грязный комбинезон, на голове – носовой платок с узелками на углах.
Он сел на ящик и посмотрел на меня. Потом смахнул какую-то соринку с лица и спокойно сказал:
– Лучше не говори этого, Фелисия.
Конечно, он не знал, что именно я хотела сказать ему. Это совершенно исключалось. Я заговорила о другом, и мы пошли взглянуть на теленка, который родился ночью под моим присмотром. Теперь он был сухой, хорошенький, и ножки его немного разъезжались в стороны. Мы с Яном еще немного поболтали, обнялись на прощание, и я ушла, а потом оказалось, что он был абсолютно прав. Мне не следовало говорить то, что я хотела сказать. Ян меня не удивляет. Но мне непонятно, как я, такая самостоятельная и своевольная, с радостью подчиняюсь ему. Однажды мы с ним пришли купаться в одной заводи, я была счастлива, как никогда, он, точно ребенка, понес меня на руках в воду. Я блаженствовала и потому страшно рассердилась, когда он неожиданно бросил меня в воду, которая оказалась гораздо холодней, чем я думала…
Я смотрела на тлеющие в камине угли и не хотела ничего у него спрашивать. Когда-нибудь я пойму, что он имел в виду, думала я. Как правило, со временем я это понимала. Однако вопрос вертелся у меня на языке, и я не удержалась, но спросила совсем о другом:
– Почему ты решил, что я здесь?
Он скинул домашние туфли и внимательно разглядывал пальцы на ногах. Они у него самые обыкновенные.
– Иногда ты мог бы говорить мне немного больше, чем говоришь, Ян.
– Хорошо… Вот тебе небольшой отчет. – Он был слегка удивлен. – Мне не спалось. И я решил пойти к тебе, потому что у тебя мне иногда бывает легче заснуть… Но тебя не оказалось в твоей комнате. Я вернулся к себе и лег, но тогда я услыхал, что ты здесь, и через некоторое время спустился к тебе. Я что-нибудь упустил, Фелисия?
– Не заставляй меня плакать, негодяй!
Он встал и вышел из комнаты. Звякнуло стекло, вскоре он вернулся, захватив себе виски с содовой; оно было темно-коричневое. На Яна это не похоже. С отсутствующим видом он молча сделал несколько глотков, я видела, что алкоголь уже подействовал на него. Он не привык к крепким напиткам. Откинув голову, он вылил в рот последние капли и засмеялся надо мной. Просто засмеялся надо мной. Потом сказал обычным голосом:
– Кончай свою всенощную по братьям, Фелисия. Уже скоро четыре, и я вижу, что тебе холодно.
Я пошла за ним, словно пристыженная школьница, и там, на лестнице, остро, как никогда, вспомнила нашу с Эрлингом встречу двадцать три года назад – мы тогда тоже вместе поднимались по лестнице.
В ту ночь Ян напугал меня, это было единственный раз. Он набросился на меня, точно ландскнехт в завоеванном городе, который, бряцая оружием и скрипя кожей, бежит из комнаты в комнату в каком-нибудь доме, пока наконец в последней комнате не находит девушку…»







