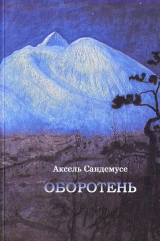
Текст книги "Оборотень"
Автор книги: Аксель Сандемусе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Мартин Лейре
«19 мая 1952 года. Последний раз я видел Мартина Лейре в ноябре 1943-го, – написал Стейнгрим. – На Кунгсгатан в Стокгольме, был густой туман и шел дождь. Серый, безнадежный, осенний день в северном городе, когда все словно сговорилось лишить людей радости. Было часов пять вечера, из освещенных витрин на мокрую улицу падал свет, и яркие лучи рассекали туман, как скальпель хирурга.
Я проходил мимо гостиницы, в это время к краю тротуара подъехал автомобиль. Дверца открылась, и показалось белое, как бумага, лицо Мартина. Он вышел из машины. С ним была молоденькая девушка, тоже очень бледная, оба были мертвецки пьяны, глаза у обоих были стеклянные, рты открыты. Мартин сразу узнал меня, и хотя он был пьян, эта встреча не доставила ему удовольствия. Девушка тоже вылезла из машины и, покачиваясь, стояла на тротуаре. Она оказалась невзрачным маленьким существом, которое выглядело бы глупым при любых обстоятельствах. С большим трудом Мартин расплатился с шофером и остановился передо мной, он нетвердо держался на ногах, из-под сбившейся набок шляпы висели влажные волосы. Преодолевая хмель, он пробормотал, что только сегодня прибыл в Стокгольм и сегодня же вечером отправляется дальше из Броммы. Это означало, что он летит в Лондон. До этого он довольно долго жил в Сконе, но ни разу не написал мне оттуда, даже о том, что собирается уехать из Швеции. Меня это немного задело, хотя у нас с ним уже давно не было никаких общих дел. После одного скандала в Мальмё он ушел в подполье, и меня удивило, что о нем вдруг вспомнили в Лондоне. С другой стороны, у него были хорошие связи, особенно до скандала. Эти люди ради собственного спокойствия помогли бы ему уехать куда-нибудь подальше. А может, он получил приказ о “депортации”, как мы это называли. Я знал подобные случаи. К этому иногда прибегали, не дожидаясь, пока шведские власти заинтересуются тем или иным человеком.
Мы стояли лицом к лицу, и нам было решительно нечего сказать друг другу. На его лице, не выражавшем и тени мысли, мелькнуло чувство стыда. Мартин изо всех сил старался держаться естественно со старым другом, пытался что-то объяснить, извиниться, испуганно переводил взгляд с девушки на меня и дальше, на швейцара, стоявшего у подъезда, но не мог справиться со своим хмелем. Я что-то буркнул и быстро ушел. Дождь заладил уже всерьез, и я зашел в кафе. Это был мой самый неприятный вечер в Стокгольме. Пьяный друг, ненастье, тревожные сообщения со всех сторон доконали меня, я чувствовал себя слабым и более одиноким, чем обычно. В полночь я добрался до своей каморки, лег и, не выдержав, заплакал. На другой день я пошел завтракать в то же кафе. Там всегда был большой выбор газет, и после тяжелой ночи мне захотелось провести там часок за чтением. В глаза мне бросился заголовок, сообщавший о самолетной аварии. Время и место аварии, а также отсутствие имен пострадавших убедили меня, что Мартин погиб. Я начал звонить разным людям и наконец напал на одного человека, который знал меня и потому ответил на мой вопрос. Да, Мартин летел этим самолетом и погиб.
По-моему, за всю войну мне не было так тяжело, все казалось бессмысленным и беспросветным. В любом событии главное – насколько оно имеет отношение лично к тебе. Мы уже давно разошлись с Мартином Лейре, и мне не пришло бы в голову искать встречи с ним, но, с другой стороны, я знал, что мы никогда окончательно не порвем друг с другом. Я сошелся с ним от одиночества, мы оба были тогда совсем юные. Меня всегда тянуло к нему, но одиночество – плохой фундамент для дружбы. Мартин разрушил во мне что-то хорошее или был виноват, что оно так никогда и не развилось. Впрочем, трудно говорить о его вине, ведь я сам всегда стремился к нему, он был такой сильный, большой, обаятельный, и неважно, что у меня не было решительно ничего общего ни с ним, ни с его непристойной болтовней. Одиночество способно любого довести до чего угодно – меня тошнило, когда я возвращался домой после очередной встречи со своим лучшим другом. Все эти годы с первого и до последнего дня мы были чужие друг другу. Я представлял для него публику, когда он, переваливший уже сорокалетний рубеж, приходил ко мне с очередной семнадцатилетней красоткой и шептал, бог знает в который раз, что никогда не падет так низко, как Эрлинг Вик, я и вообще нам подобные, что ему не нужны бабы, которым за двадцать пять или даже больше.
Девушки еще восхищались им, хотя волосы у него поредели, а глаза стали слезиться.
Я написал, что разошелся с ним и никогда больше не посетил бы его, если б он был жив, и, думаю, это правда; до прихода немцев мы с ним еще встречались, но он уже так надоел мне, что не вызывал ничего, кроме скуки. Я давно признался себе, что испытал даже облегчение, узнав о его гибели, однако мне неприятно сознавать, что на этом самолете он летел беспробудно пьяный после совокупления со своей такой же пьяной семнадцатилетней подругой. Тому, кто постоянно размышляет о справедливости последствий и о причинно-следственных связях, такая гибель кажется почти зловещей.
Пока я сидел над газетой, читать которую был не в состоянии, в кафе пришла Биргит Оррестад со своей маленькой дочкой. Девочку звали Адда. Биргит получила какую-то работу в посольстве и была очень довольна. Мы редко видели ее в кафе или ресторанах, она была заботливой матерью и никогда не пила столько, сколько мы. Такие женщины тоже бывают. Она привлекала к себе внимание тихим и безупречным образом жизни. Я заметил, что воздержанность во всех видах удовольствий, не отягощенная потребностью обращать в свою веру других, встречается, как правило, у добрых и милых женщин. Они ведут себя сдержанно на всех фронтах жизни. Умеют слушать и немного поговорить. Не моргнув глазом выслушают любую непристойную историю, но сами никогда не скажут никакой сальности. Их мало интересует мораль, но они ведут себя так, будто она им присуща. Если у них случается роман, они не кричат о нем на всех перекрестках. Люди исповедуются им в своих грехах, и они никогда не злоупотребляют тем, что узнали. Сами же про себя не рассказывают ничего.
Мы всегда называли Биргит и ее дочь Биргит и Аддой Этрусскими, не знаю, кто придумал это прозвище, но, по-моему, оно им удивительно шло. У Биргит была длинная, словно вытянутая от любопытства шея, она была похожа одновременно и на поднявшую голову прислушивающуюся лань, и на морского змея со старинной гравюры, который, высунув из воды голову, наблюдает за происходящим. Или на изображения женщин на крышках саркофагов из Пальмиры. Но больше всего Биргит, наверное, была похожа на молодую жирафу. Она была светловолосая, никогда не пользовалась косметикой и одевалась как бы немного небрежно. У нее были внимательные миндалевидные глаза и повадки мальчишки. Биргит редко говорила, если к ней не обращались, и никто не мог быть уверенным, что она ему ответит. Предугадать поступки Биргит не мог никто. Была ли она красива? Да, безусловно. Ей было, должно быть, около тридцати. Мы не знали, кто был отцом ее ребенка. Если об этом спрашивали у самой Биргит, она только долго задумчиво смотрела на спросившего и не отвечала. Одна женщина, оставшись наедине с дочерью Биргит, попробовала расспросить девочку. Как зовут твоего папу? – начала она. Девочка серьезно глянула на нее и ответила: Он изменил имя. Под выжидательным взглядом ребенка, поразительно похожего на взгляд матери, женщина начала нервно смеяться. Адда была таким точным повторением своей матери, что наводила на мысль о возможности непорочного зачатия. Она так же, как мать, нервно вскидывала голову на длинной шее. Многие терялись, оказавшись за одним столиком с матерью и дочерью. Биргит Этрусская редко разговаривала с кем-нибудь, кроме своей не по возрасту умной дочери. Глаза у обеих были широко открыты. Кажется, я никогда не видел, чтобы они моргали. Биргит Этрусская всегда напоминала какое-нибудь животное. Молодую кобылицу. Стрекозу, блестящую на солнце…
Мне было приятно видеть их обеих. Незадолго перед тем я расстался с Фелисией, которая слишком утомляла меня своим стремлением помочь мне.
Кто-то из норвежцев говорил, что Биргит не замужем. Имя Аддиного отца, как я уже сказал, она не называла. Узнать это было бы не очень сложно, однако, похоже, никто не приложил к этому никаких усилий.
Я что-то заказал для Адды, и мы просидели в кафе часа два. Туман у меня в голове немного рассеялся, и, придя домой, я принялся за чтение. Биргит мне нравилась, я охотно предложил бы ей съехаться, но меня больше не интересовала эта сторона жизни. Объяснить это сложно. Мне чуждо все, что люди называют страстью, сексуальным волнением, и тому подобное. Я как святой Павел. Но я делаю все, чего от меня ждут женщины. Для меня это ничем не отличается от обычного рукопожатья. Я могу делать это столько раз, сколько им хочется, и никогда не признаюсь, что мне это скучно. Да, все очень сложно. Женщинам я предпочитаю мужское общество, и хотел бы быть другим. Хватит с меня того, что я катастрофически ошибаюсь в женщинах».
Катастрофически, подумал Эрлинг. В устах Стейнгрима это было сильное выражение.
Солнечный луч добрался до Эрлинга. Сверкнул на бокале с виски, которое он, вопреки обычаю, налил себе в это время суток – когда-то в Стокгольме это было неплохим противоядием против бесконечной череды ненастных дней.
Вот, значит, каким Мартин Лейре представлялся своему другу Стейнгриму, который ни разу не упомянул о нем после войны. Ни словом. Это дало Эрлингу пищу для размышлений. Стейнгрим никогда не говорил оскорбительно о женщинах, даже о Виктории, с которой формально так и не был разведен, хотя она каждому новому человеку рассказывала, как Стейнгрим чернит и поносит ее. Он никогда не поносил ее. Он вообще редко упоминал о ней, разве что как-нибудь мимоходом, ни плохого, ни хорошего он о ней не говорил.
Эрлинг вспомнил, как Виктория и его пыталась втянуть в тот вихрь клеветы и злословия, который она подняла против Стейнгрима. Всякий раз она начинала с того, что он испортил ей репутацию. Молчание Эрлинга в конце концов оскорбило Викторию, и она исчезла с его горизонта. Знакомые и друзья Стейнгрима отказывались слушать ее. Однако Викторию это не излечило. Она стала вербовать союзников из всяких подозрительных личностей и рассказывала им о клеветнике Стейнгриме. Она поняла – если вообще была способна что-либо понять, – что с ней мирились, когда она была женой Стейнгрима, но не поняла, что ей следовало соблюдать меру, если она хотела сохранить его друзей в качестве своих друзей и знакомых. Тогда она, словно подчиняясь глупой привычке, начала преследовать Стейнгрима с помощью уже совершенно других людей, которые знали его только по имени и чувствовали себя польщенными, что жена такого человека изливает перед ними свою душу. Эрлинг достаточно видел, слышал и ему много рассказывали, чтобы он мог представить себе эту картину, – эти люди сидели навострив уши, а Виктория говорила, все более и более нервозно, и никак не могла остановиться. Они, словно доверчивые дядюшки и тетушки, поддерживали и подзуживали ее, им так хотелось сунуть свой нос в постель Стейнгрима. В чем они и преуспели. Виктория упивалась внимающей ей тишиной и все говорила, говорила, пока в один прекрасный день не покинула своих слушателей, чувствуя себя опозоренной, горя жаждой мести и смутно сознавая, что она не Стейнгрима, а самое себя бросила на растерзание этим псам.
Пелена молчания, которой Стейнгрим окутал Мартина Лейре, объяснялась, по-видимому, тем, что Стейнгриму было стыдно и за него, и за себя. Теперь Эрлинг все понял. Молчание Стейнгрима, когда дело касалось женщин, объяснялось теми же причинами. Хватит с меня того, что я катастрофически ошибаюсь в женщинах.
Не часто мужчину преследуют именно за то, чего он не делал. Обычно дыма без огня не бывает, но здесь не было ни того, ни другого. Просто сбитая с толку Виктория все перевернула вверх дном. Она не могла вынести, что вокруг ее имени вдруг воцарилась тишина, что Стейнгрим не говорил о ней и днем и ночью и что в своих сплетнях она лишь выдавала желаемое за действительное. Ограниченность не позволила ей увидеть личность, собственный муж был для нее только одним из многих, неким безликим мужчиной, и потому она даже не допускала мысли, что он может не клеветать на нее.
Как бы там ни было, а она стала по-своему опасна, поскольку представляла собой взбунтовавшуюся глупость, и Эрлинг никогда не сбрасывал со счетов ее злобный характер. После самоубийства Стейнгрима многие пытались понять причину его поступка, и не только Эрлинг подумал тогда о Виктории.
Эрлинг вспомнил довоенное время, свое знакомство со Стейнгримом и Мартином, которое после войны привело к дружбе со Стейнгримом. Теперь ни Стейнгрима, ни Мартина уже не было в живых, ни один из них не дожил до сорока пяти. Многих уже не было в живых. Даже очень многих. Эрлинг удивлялся, что он сам еще живет и радуется жизни, что доволен и на свой лад счастлив. Естественно, что у него не было желания меняться местами с кем-нибудь из умерших, но он не стал бы меняться и с живыми. Конечно, он чувствовал приближение осени и многие желтые листья уже облетели, но все-таки солнце еще сверкало. Для него никогда не было секретом, что со временем он состарится, он успел привыкнуть к этой мысли, и она не застала его врасплох.
Виктория Хаген
9 апреля 1946 года Стейнгрим писал: «Я получил от нее много ударов еще до женитьбы, но по-настоящему разобрался во всем, когда мы уже были женаты. В конце нашего так называемого медового месяца нас пригласили на обед к государственному советнику Нербё. Я был занят разговором с Нербё и двумя другими гостями, мы обсуждали южноамериканскую политику. Естественно, что разговор зашел именно о ней – один из гостей только что вернулся в Норвегию, прожив год в Перу. По дороге домой мы с Викторией почти все время молчали. Во всяком случае, я.
Я заметил, что способность мужчины стерпеть первую глупость своей подруги показывает, насколько крепко он к ней привязан. Наверное, это справедливо и для женщины. Если мужчина по-настоящему любит женщину, он легко стерпит любой ее промах, как бы велик он ни был. Но если не любит, он откажется от нее при первом же проявлении ее глупости. Конечно, Виктория и раньше несла чушь, иначе и быть не могло, но обычно я пропускал все мимо ушей. В тот же вечер я слышал каждое ее слово. К концу вечера я заметил неуверенность и гнев Виктории, и у меня испортилось настроение. Когда она сердится, рот у нее становится некрасивым. Весь вечер она вела себя немного вызывающе, но перед уходом стала просто невежливой.
Дома я достал газеты. Налил себе коньяку и оставил бутылку на столе. На душе у меня было хмуро, как часто бывает после таких приемов. Я собирался выпить рюмку-другую и лечь спать.
Виктория остановилась у камина и закурила сигарету.
– И это дом государственного советника! – вдруг сказала она. – Я бы не назвала его элегантным!
Я взглянул на нее поверх газеты. Признаюсь, что иногда держался с ней свысока, по крайней мере пока мы были женаты (такие слова, как “пока мы были женаты”, тогда не приходили мне в голову). У Виктории был не только очень бедный запас слов, но и те, которыми она пользовалась, она обычно употребляла не к месту. Как теперь, когда сказала, что дом государственного советника недостаточно элегантен. Вполне возможно, она имела в виду, что дома у Нербё была спартанская обстановка или что-нибудь в этом роде. Но ее вступление: И это дом государственного советника! убедило меня, что на сей раз она случайно выразила именно то, что думала. Она надеялась увидеть у государственного советника именно элегантность, хотя и не знаю, что она подразумевала под этим (наверное, что-нибудь совершенно невообразимое). Двенадцать комнат, выглядевших как магазин антикварной мебели или что-нибудь даже почище того. Она не осознала, что в этом доме просто живут.
– Зачем только я надела туда это платье! – Виктория бросила сигарету в камин, чего мне делать не разрешалось. – С таким же успехом могла пойти в чем-нибудь затрапезном.
В гостях у советника было восемь человек, все были одеты нарядно, мужчины в смокингах, но… Главное, что там не было сотни гостей, серебряных приборов, хрусталя и бог знает о чем еще пишут в романах, описывая такие приемы. Виктория представляла себе роскошный дом совсем иначе. Господи, что же будет дальше? – подумал я. Она была в бешенстве. Ей даже в голову не пришло, что настало время пересмотреть некоторые свои понятия. Но если это не приходит в голову при первом столкновении с действительностью, значит, надежды нет никакой. Не могу же я заниматься ее воспитанием, начиная с азов, особенно если понимаю, что она вульгарна, как девчонка, насмотревшаяся дешевых фильмов.
Тем не менее я хотел объяснить ей, что она была в таком доме, где людям всегда приятно бывать.
Мне было стыдно, и я не поднимал глаз от газеты. Я не смог сказать ей того, что хотел. Если она сама этого не понимает, то объяснять бесполезно. Мне вдруг показалось, что я слышу, как Астрид Нербё спрашивает у своего мужа: Юханнес, объясни, что это за женщина, на которой женился Стейнгрим?
Я мог бы прийти к ним с женщиной, которая до того, как вышла за меня замуж, работала прислугой. Дело не в этом. Астрид тоже в свое время работала в весьма скромной конторе и сама готовила себе еду в своей меблированной комнате, куда в былые дни приглашала на чашку чая Юханнеса Нербё и меня. Виктория была более благородного происхождения, уж если употреблять это идиотское выражение! Снобизм Виктории был самого дурного пошиба, и я вдруг понял нечто, заставившее меня сжаться от ужаса перед тем, что меня ожидало: Виктория была в бешенстве оттого, что не могла рассказать завтра подругам об элегантном доме государственного советника Нербё, а она так мечтала об этом! Она требовала, чтобы дом Астрид и Юханнеса Нербё был элегантным! Там должны были быть горы кружевных салфеток, серебра, хрусталя, орхидей, а уж какие блюда должны были отравить наши желудки, известно одному Господу Богу. У меня даже возникло подозрение, что ее настоящее имя не Виктория, что при крещении ей дали какое-нибудь обычное и непретенциозное имя, вроде Брит или Анны. Тогда бы оказалось, что она подделала свои документы и наш брак можно было бы считать незаконным. Господи, как меня обрадовала в ту минуту эта глупая мысль: я жил в грехе, не подозревая о том, а теперь закон и мораль позволяют мне, оставаясь порядочным человеком, собрать свои вещички и уйти восвояси.
К несчастью, ее все-таки звали Виктория. Она очень гордилась своим именем. Виктория означает “победа”, говорила она, главным образом для того, чтобы похвастаться своим знанием иностранных слов.
К тому вечеру мы были женаты уже три недели. Я встал, боясь, что не сдержусь и все закончится битьем посуды. Я проклинал себя, мне хотелось уйти, вдохнуть свежего воздуха, подвигаться. На часах еще не было одиннадцати. У государственного советника ложились рано. Я что-то буркнул и стал вспоминать, сколько я выпил: нельзя убивать ее в состоянии опьянения, надо подождать до утра.
– Государственный советник должен заботиться о своем престиже, – сердито сказала Виктория.
Я схватил шляпу и пальто, которые еще лежали на стуле, и закрыл за собой дверь, успев заметить удивление, появившееся у нее на лице. Через четыре месяца я ушел от нее навсегда.
На другой день я работал дома над какой-то статьей. Я был не в духе, рассеян, и мне казалось, что в этом мире уже ничем не стоит заниматься. Такое настроение время от времени бывает у каждого, часто оно объясняется усталостью или плохим пищеварением. Мне это было знакомо. Меня даже с натяжкой нельзя назвать интересным человеком. Как правило, все считают меня скучным, и я вынужден признать, что это правда. Я сидел и рисовал на бумаге всякие завитушки, постепенно мне стало казаться, что они напоминают лицо Виктории. Тогда я взял другой лист бумаги и попробовал нарисовать ее портрет. Рисую я плохо и никогда в жизни портретов не рисовал. То, что у меня получилось, почему-то произвело на меня тягостное впечатление. Как ни смешно, я уверил себя, что мой портрет больше похож на Викторию, чем она сама. Я имел в виду, что мне удалось показать на рисунке ее суть, скрытую красивым фасадом. По обычным меркам Виктория красивее Фелисии, но на самом деле как раз наоборот. Потом я начал писать. Я тщательно выводил каждую букву, и в этом было что-то механическое. Лицо мое даже расплылось в улыбке. Видеть эту гримасу я не мог, но, думаю, она была похожа на улыбку людей, одержимых манией величия. Я видел такую улыбку на портретах людей, страдавших прогрессивным парали-чом, – это было в лаборатории какой-то клиники, – глаза у них смотрели на кончик носа, один уголок губ был поднят, другой – опущен, и все лицо выражало безграничное презрение к человеческой глупости. Я начал писать о Виктории под ее портретом и продолжал потом на других листках. Обычно я пишу не так. Я был одержим не одним, а целым сонмом злых духов, они нашептывали мне в уши, хихикали, проникали в меня – я вдыхал их и носом и ртом. Хотелось бы мне перечитать теперь, что я написал тогда, но я писал на случайных листках, оказавшихся у меня под рукой. Помню, все казалось мне близким и знакомым и одновременно совершенно чужим. Когда я кончил писать, мне стало легче, меня охватила какая-то приподнятость, легкость. Я выпил коньяку – у меня коньяк всегда продлевает настроение, какое бы оно ни было, хорошее или плохое. Если я подавлен, коньяк усиливает эту подавленность, а если весел, мне становится еще веселее. Я услыхал, что Виктория вернулась домой, быстро сложил свои листки и сунул в лежавшую рядом книгу.
Этого делать не следовало. У меня на столе и по всей комнате всегда разбросано много книг, и не обязательно тех, что нужны мне в ту минуту. Если не считать рисунка, все остальное можно было бы и не прятать. Моя работа никогда не интересовала Викторию, она только спрашивала иногда, сколько мне за это заплатят, и, если я еще не знал, как использую написанное, она сердилась и говорила, что я неделовой человек. Вначале Виктория пыталась убедить меня, что ей все интересно. Она контролировала мою почту, и при ней я не мог отправить ни одного письма, пока она не прочтет его. Она была очень подозрительна, хотя вообще-то отнюдь не собиралась читать всю ту скукотищу, которую я писал. Политика для нее была чередой запоминающихся лиц и скучных чопорных мероприятий, что на этот раз было недалеко от истины. Почему ты не можешь писать так же интересно, как другие? – спросила она однажды. Я не решался смотреть на нее, когда она говорила что-нибудь подобное, мне было стыдно даже подумать, что ее могут услышать, – между прочим, так и случалось.
Потом я на всякий случай решил сжечь то, что тогда написал, но не помнил, в какую из книг засунул свои листки. Мне представлялось маловероятным, чтобы Виктория заглянула в мои книги, она пользовалась ими, только когда вешала занавески, но предпочитала книги потолще – романы или поваренные книги. Я долго искал свои записи, но так и не нашел. И всякий раз, когда дома случался скандал, я думал, что Виктория все-тки обнаружила их».
Эрлинг встал и прошелся по комнате. Он пытался представить себе, что мог Стейнгрим написать о своей жене, к тому же с иллюстрацией, и как бы выглядело умное, замкнутое лицо Стейнгрима, будь он парализован. Наверное, одаренные мужчины чаще ошибаются в женщинах, чем все остальные. Пытаясь найти женщину выше среднего уровня, они в молодости так запутываются, что у них возникает страх перед всеми женщинами вообще. Люди склонны к обобщениям. Если молодой человек несколько раз нарвался на дуру, ему легко сделать вывод, что все женщины – курицы. Подобный опыт может зародить в нем подозрение, что женщина вообще существо более низкого порядка, что-то вроде средства для удовольствия, которое по рецепту можно приобрести в любой аптеке, ну а без рецепта – в винной монополии. В результате мужчина смиряется с мыслью, что женщина – курица, хотя это и недостойная мысль. Он скатывается на тот уровень, на котором считается, будто женщина нужна лишь для того, чтобы по вечерам было легче заснуть, но даже если и так, это еще не вся правда. Сказал же некий мракобес от христианства, проникший туда с заднего хода уже после смерти Христа и примкнувший к апостолу, что лучше вступить в брак, нежели постоянно распаляться: брак – это публичный дом для одного мужчины.
Не исключено также, что мужчины, наделенные от природы здравым рассудком, так выворачивают все наизнанку, что опасаются, будто с умными женщинами трудно иметь дело. Из страха перед этим они превращают свою жизнь в сущий ад, и если женщина окажется покладистой, ее будут тиранить, пока она не сломается или не сбежит.
Эрлинг стоял и смотрел на заросли за домом. Бесполезная пышность сада радовала глаз. Приближалась осень. Ян прав, думал он. Нельзя бранить дождь, ветер и времена года, им надо радоваться. Бранить их – дурная привычка, от которой можно избавиться за неделю. Сам он уже давно от нее избавился. Хороша всякая погода, а тот, кто не может с этим смириться, только сам портит себе настроение.
Ян всегда защищал погоду. Какой приятный сегодня ветер, говорил он, когда яблоки градом летели на землю. Сегодня такой красивый дождь! Видел бы ты, как сквозь старую крышу сеновала летел снег, сказал он однажды почти с восхищением. Дорогу за домом арендатора совсем размыло паводком, вот это было зрелище! Какая ночью была гроза – восторг! Ян наслаждался, когда ему приходилось расчищать снег.
Эрлинг обернулся и посмотрел на свои книжные полки. После одинокого ночного праздника у него слегка кружилась голова, а похмелье следует уважать. На полке стояли книги, вернувшиеся к нему от Стейнгрима.
Конечно, не будь он с похмелья, такая мысль никогда бы не пришла ему в голову, но теперь он снял с полки первую попавшуюся книгу и пролистал ее. В ней ничего не оказалось. Он немного выпил, но желание найти рисунок Стейнгрима не отпускало его. Вряд ли Стейнгрим пролистал все книги, что были у него в доме, его записки с рисунком вполне могли лежать в одной из этих. Эрлинг снял с полки все книги и сложил их стопками. Через несколько минут записки Стейнгрима были у него в руках.
Лицо, изображенное справа в верхнем углу первого листа, было нарисовано плохо, но тот, кто знал художника и его модель, не мог бы оторвать от него глаз. Оно было худое и злое, совершенно не похожее на Викторию, однако пробуждало те странные чувства, какие великий мастер может иногда пробудить в человеке своим опасным творением. Конечно, это была Виктория! Это был портрет ее изломанной, злобной души. Колющий взгляд, который преследовал человека. Ядовитое выражение лица. Эрлинг не мог смотреть на рисунок, пока читал записки Стейнгрима, он даже сложил лист пополам, чтобы не видеть его.
Дочитав до конца, Эрлинг отодвинул от себя записки и пожал плечами. Он отказался от мысли, что Стейнгрим был пьян, когда писал эту чепуху. Почерк был обычный, разве что чуть-чуть неровный, однако, как всегда четкий и холодный. Стейнгрим покраснел бы, если б нашел написанное и перечитал. Эрлинг снова перелистал записки. Да, это был пьяный бред совершенно трезвого человека. Так может бормотать только пьяный, когда ему кажется, что он произносит что-то необыкновенно забавное. Или думает, что его слова полны острого сарказма. Четыре раза в скобках повторялось «ха-ха!», хотя в написанном не было ничего смешного. Какая-то чепуха о том, что Викторию следовало бы продать на рынке невольников. При этом надзиратель должен был бы пороть ее так, чтобы публика услыхала, как здорово она умеет кричать (ха-ха!). Потом шли какие-то бессвязные слова о новом костюме (ха-ха!).
Эрлинг встал и заходил по комнате, ему было грустно. Может, у Стейнгрима был приступ безумия, после которого он покончил с собой? И он знал об этом?
Наконец Эрлинг понял, в чем дело. Когда Стейнгрим не мог от усталости закончить начатую работу, он иногда принимал амфетамин. Картина болезни говорила о большой дозе амфетамина. Это подтверждалось и тем впечатлением, какое у самого Стейнгрима создалось от своей работы – он написал нечто выдающееся. Во всех этих записках Виктория обратила бы внимание только на свое имя. Между прочим, однажды она сказала, что, наверное, интересно быть рабыней, проданной на невольничьем рынке. Вера Арндт еще спросила тогда, почему Виктория уверена, что ее кто-нибудь купил бы.
Эрлинг вырезал рисунок, а все остальное бросил в печку. После этого он долго смотрел на нечеловеческое лицо, рожденное ненавистью Стейнгрима. Виктории удалось стать судьбой Стейнгрима, удалось даже обзавестись любовником, когда Стейнгрим ушел от нее. Но друзья? Их у нее не было никогда. Порой ей удавалось окрутить какого-нибудь слабого и любопытного мужчину, решившего, что в ней что-то есть, раз она была женой Стейнгрима, но все они очень скоро убеждались, что их обманули.
Стейнгрим оставил ее еще до того, как немцы захватили Норвегию. Вон та женщина была замужем за Стейнгримом Хагеном, говорили люди. Они прекрасно знали, что развода не было, но им было приятно думать, что этот брак расторгнут. Это был тот далеко не редкий случай, когда женщина, даже лишенная каких бы то ни было достоинств, получала хоть и сомнительное, но неоспоримое положение в обществе – еще бы, ее на сцену вывел сам Стейнгрим Хаген! Она не задумываясь отправилась в Швецию, когда узнала, что Стейнгрим бежал туда. Ей, мол, опасно оставаться в Норвегии, ведь она была замужем за Стейнгримом Хагеном!
Она так и заявила в лицо чиновнику, который допрашивал ее в Кьесетере, где норвежские власти сортировали беженцев. Адвокат Стейнгрима несколько лет объяснял ей, что безнравственно цепляться за человека, который ее на дух не переносит. Мужчина не может просто взять и уйти, возражала ему Виктория.
Эрлинг опрокинул в рот рюмку, чтобы опохмелиться, и попытался вспомнить, куда он мог засунуть письмо, полученное от Виктории много лет назад. Он был тогда неприятно поражен этим письмом. Виктория написала его в 1946 году, когда после ухода Стейнгрима прошло уже много лет и, можно сказать, только что закончился пятилетний мировой пожар. Обычно он не хранил таких писем, но это не выбросил, потому что его прислала бывшая жена Стейнгрима. Наконец он нашел письмо Виктории. Да, оно было написано одиннадцать лет назад и через девять лет после того, как Стейнгрим ушел от нее. Эрлинг пробежал письмо, читать все подряд он был не в силах.







