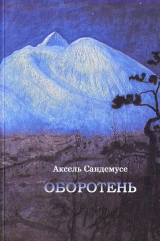
Текст книги "Оборотень"
Автор книги: Аксель Сандемусе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Суть личности
Наконец Фелисия опустила руки на колени и взглянула на Эрлинга. Она молчала. Мы плохо помним даже того, кого хорошо знаем, разве что нам врежется в память какой-нибудь один случай. Эрлинг не забыл, как Фелисия молча смотрела на него в тот воскресный полдень. Ему казалось, что она просто хочет лишний раз убедиться в его присутствии, на самом же деле Фелисия размышляла над чем-то, чего не могла понять. Она тихонько вздохнула и снова принялась за ягоды. Эрлинг хорошо знал Фелисию, но ее вид не насторожил его. Сейчас его больше занимала Юлия. Она хранила свою тайну, и он вернулся к своей, его снова охватило знакомое, тревожное чувство неуверенности – да знает ли он себя? Несколько минут он следил глазами за Яном, без передышки, хоть и медленно, ходившим по комнате.
Так же Ян любил ходить и в Старом Венхауге, так же ходил и на собраниях в Осло во время немецкой оккупации, даже если пространство позволяло ему сделать лишь несколько шагов туда и обратно. И когда Ян стоял неподвижно, Эрлингу все равно казалось, будто тот продолжает ходить. Он часто думал, что Ян пытается уйти от самого себя, от своей тайной сути. Что в это время он находится совсем в другом месте. И уголки губ у него опускаются, совсем как теперь. Эрлинг заметил, что взгляд Юлии следит за ногами Яна, в то время как пальцы продолжают перебирать ягоды.
Может, Ян идет сейчас к своему Эрлингвику?
Кто тот человек, которого я считаю своим «я»? Не знаю, и никто никогда мне этого не скажет. Во сне мне говорят, что я отправлюсь домой в Эрлингвик, и хотя это мое самое большое желание, мне становится страшно, когда я это слышу. Я уже не помню, когда впервые назвал это место Эрлингвиком, лишь смутно помню, что не мог бы попасть туда, если б оно называлось по-другому, но я не нашел дороги домой.
– О чем ты думаешь, Ян? – спросила Фелисия.
Ян неожиданно быстро всплыл на поверхность:
– Только что я подсчитал, что с тех пор, как я сделал себе первую рогатку, прошло тридцать девять лет и полгода. Это было в торцовой комнате Старого Венхауга.
Значит, он удалялся от них на тридцать девять лет и полгода. В другой раз он вернется с какой-нибудь звезды.
Когда-то Эрлинг боялся потерять свою нынешнюю суть, хотя она и не была его истинной сутью; некоторое время он думал, что потерял ее, когда был беженцем в Швеции. Теперь, пятнадцать лет спустя, глядя на все словно в перевернутый бинокль, потерять эту взятую напрокат суть было бы даже забавно. Человек, потерявший фальшивый паспорт, попадает в сложное положение. Эрлингу предстояло получить в конторе на Васагатан в Стокгольме новые продовольственные карточки, и он так стискивал паспорт в кармане куртки, что тот стал влажным от его вспотевшей руки. Очередь двигалась медленно, и Эрлинг все больше и больше боялся, что не выдержит и выдаст себя. Он стоял в очереди уже целый час, перед ним осталось всего несколько человек, но он вдруг почувствовал, что произойдет, когда он окажется у окна, – он наклонится и крикнет сидящей там девушке: это не я! Он покинул очередь и вышел на улицу, пока этого не случилось, больше ему ничего не оставалось. На другой день он переломил себя – он или не он, есть-то все-таки нужно. В тот день очереди почти не было, он не успел разволноваться, и девушка не обратила на него внимания, она даже не заметила, что он – это не он. Там, в Стокгольме, где ходила лишь его внешняя оболочка, Эрлинг чувствовал себя опытным эквилибристом, балансирующим на краю пропасти. Это бы непременно кончилось крахом, если б он уже очень давно не считался чудаком, человеком, которого, может быть, еще объявят гением, когда умрет кто-нибудь из стариков.
Эрлинг вспомнил сон, второй из тех, что приснились ему нынче утром, после которого он осмелился снова уснуть. Вообще сон состоял из двух частей, но первую Эрлинг счел своеобразной подготовкой, позволившей ему запастись храбростью перед второй. Незнакомая девушка лежала на полу, и он решительно задрал на ней юбку, однако между ног у нее он увидел сильно уменьшенную голову Молотова, глаза Молотова с удивлением смотрели на него. Эрлинг растерялся и не знал, что ему делать. Тогда девушка прикрыла Молотова ручным зеркальцем, в котором Эрлинг увидел себя, хотя и не узнал. Сон, сменивший этот, оказался еще тягостней. К нему подошел саблезубый кот. Кто-то втолкнул Эрлинга в комнату, где должен был состояться допрос. Там за маленьким столом, стоявшим на возвышении, сидел пожилой человек, чем-то напоминавший Гинденбурга. Позади стола была голая и грязная дощатая стена. Никого, кроме них двоих, в комнате не было, стражи снова заперли дверь. Эрлинг ждал, наконец судья поднял тяжелую голову и спросил, кто он.
Мое имя… Эрлинг начал заикаться, потом его вырвало. Его имя вместе с желудочным соком и желчью вытекло из него, и он, чтобы судья не заметил этого, боялся даже вытереть рот. Потом судья спросил его о приметах – рост, цвет волос и глаз и что-то еще, Эрлинг ответил то, что отвечал всегда и что было написано во всех паспортах, какие у него когда-либо были, однако он знал, что лжет, потому что, как и всегда, это была ложь. Последовали вопросы о профессии, родителях, детстве. С растущим страхом он правдиво и точно отвечал на все вопросы, и ему самому хотелось верить, что он ничего не скрыл. Но судья все-тки понял, кто он и что он лжет. Все эти ответы Эрлинг придумал заранее, но это уже не имело значения, он готов был даже кричать, лишь бы заставить судью объяснить ему, кто же он и кто тот человек, у которого он взял эти приметы и имя и который, возможно, стал теперь им самим, а возможно, и умер. Он не понимал, кто он. Подозревал двух или трех знакомых, но ни одним из них он быть не мог, они были они. Но кто же в таком случае он? Никто? Значит, тот, кто стоял тут и утверждал, что он – Эрлинг, был на самом деле лишь тонкой оболочкой, внутри которой никого и ничего не было, оболочкой, иногда говорившей то, что она думает? Но все это была ложь. А ведь он не собирался лгать. В комнате каким-то образом появилось зеркало. Посмотрите в зеркало у вас за спиной, с презрением сказал судья, посмотрите сами, соответствуете ли вы тому описанию, какое дали себе.
Но Эрлинг не посмел обернуться, потому что увидел, как судья вдруг стал меняться, как изменилось его большое, тяжелое лицо. Если он тоже не он, может, он и есть я, испуганно подумал Эрлинг. Судья опустил голову, ему хотелось скрыть происходящие с ним перемены, глаза у него сделались уже такими большими, что Эрлинг видел их несмотря на то, что голова судьи была опущена, из них что-то текло, но они продолжали расти, потом они повернулись и из-под седых волос уставились на Эрлинга. Глаза все росли, и из них капала жидкость, как слюна из пасти хищника. На щеках судьи появились складки и морщины. Нижняя челюсть отвисла, зубы выросли, теперь они сильно торчали вперед. Эрлинг хотел крикнуть и признаться, кто он, но не мог вымолвить ни слова. Он хотел обернуться, увидеть себя в зеркале и сказать, кто он, пока не случилось чего-нибудь непоправимого. Когда он пришел сюда, он не заметил никакого зеркала, но, должно быть, оно здесь было, раз так сказал судья. Ему хотелось броситься на колени и молить судью, чтобы тот сам посмотрел в зеркало и сказал ему, кто он, но у него пропал голос. Эрлинг собрал все силы, чтобы обернуться, но сумел лишь чуть-чуть шевельнуться, он не успел увидеть себя, как судья постучал по столу. Эрлинг взглянул в ту сторону. Судья исчез, а из-за стола к Эрлингу шел саблезубый кот с горящими глазами и кривыми длинными клыками. Пол скрипел и прогибался под этим тяжелым животным, хотя его мягкие лапы ступали почти беззвучно. Эрлинг взвыл от страха и проснулся. Еще в такси по дороге в Драммен его мучила досада, что он не посмотрел в зеркало у себя за спиной и не узнал разгадку. Кто-то бежал и кричал, пытаясь достичь его раньше, чем он проснется, белая рука махала ему из окна подвала и чуть не схватила его за щиколотку, и наконец издалека до него донеслось громко и отчетливо: Спасение в Эрлингвике! Познай самого себя!
Ничто на близком расстоянии
Эрлинг начал помогать Юлии и Фелисии чистить смородину, вдруг он сказал:
– Почему бы тебе не предложить нам вина?
Фелисия сорвала ягоды с веточки, которую держала в руке, и взглянула на Эрлинга, всего лишь взглянула, глаза ее не выразили ничего.
– С удовольствием, – сказала она и смахнула с пальцев приставшие чашечки цветка. Глянув на часы, она вышла и вернулась с бутылкой и четырьмя бокалами, но Юлия от вина отказалась. Фелисия снова глянула на часы. Ты не ошиблась, подумал Эрлинг, я знаю, что еще слишком рано, – их глаза встретились.
Эрлинг брился нерегулярно – если она опять заговорит о его переезде в Венхауг, он ей напомнит, что обычно не бреется, когда работает. Как-то Фелисия в шутку сказала, что, если Эрлинг появляется выбритый (все женщины знают почему, с очаровательной лукавой улыбкой сказала прославленная актриса), для нее это сигнал, что вечер уже наступил. Фелисия намекнула также, что, когда Эрлинг начинал пить днем, для нее это был совсем другой сигнал. Однажды она процитировала осторожное замечание Виктора Рюдберга[12]12
Виктор Рюдберг (1828–1895) – шведский поэт и прозаик романтического направления.
[Закрыть] по поводу того, что у Вакха не было детей. Эрлинг не знал, чем она собралась угостить их, и был почти уверен, что она принесла белое вино или домашний сидр, но это оказался херес, и он понял, что это означает: пусть будет по-твоему, можешь изменять мне с бутылкой.
Она разлила вино по бокалам, подняла свой и пригубила. Ян тоже сделал глоток и продолжал свою прогулку уже с бокалом в руке. Эрлинг выпил сперва немного, но потом быстро осушил бокал. Фелисия взяла новую пригоршню ягод и негромко прочитала детский стишок:
У меня картонный конь – Невеликий рост,
Голова из пакли,
Из соломы хвост.
– Пей, Эрлинг, – без всякого перехода сказала Фелисия и налила ему еще.
Ян время от времени ставил свой бокал в разных местах и всякий раз, проходя мимо, с удивлением обнаруживал его.
– Между прочим, приятно выпить вина днем в воскресенье, – сказал он. – Так сказать, к дневному концерту.
В комнату, как порыв ветра, ворвались Гудни и Элисабет, они притащили с собой собаку и кошку и наперебой кричали что-то бессвязное. О какой-то драке, которой они помешали, поэтому сразу никто не понял, что пришли они совсем по другой причине: они хотели напомнить Яну, что он обещал покатать их и их друзей на автомобиле. Наконец они отпустили собаку и кошку, кошка хотела спрятаться за дрова, сложенные в камине, а когда ей это не удалось, она попыталась скрыться через трубу. Фелисия вышвырнула собаку и отругала дочерей, а кошка, не принадлежавшая к обитателям Венхауга, выскочила в окно, разбив его. Эрлинга всегда поражало, что двенадцатилетняя Гудни говорит голосом Фелисии. Между этими одинаково звучавшими голосами началась перебранка.
– Прекратите этот цирк, – сердито сказал Ян, он принес щетку и совок, чтобы подмести осколки. – Ступайте, дети, я сейчас приду. И избавьте нас от общества своих собак и кошек. Какая глупость! – проворчал он, когда дочери убежали и их крики смешались вдали с голосами других детей. – Притащить сюда собаку и кошку, чтобы сообщить нам, что те не терпят друг друга. Я сегодня же вставлю стекло, Фелисия, по-моему, у меня где-то есть подходящее. Ох уж эти дети! Розги по ним плачут.
У Яна была привычка говорить, что детей следует сечь.
– Это у него от отца, – сказала Фелисия. – Тот тоже никогда никого не высек. Но всегда говорил, что это надо сделать. Ян поддерживает традицию.
Эрлинг впервые увидел Элисабет в 1950 году, когда ей было пять месяцев. Он не знал, как следует обращаться с детьми на этой стадии их жизни, но поскольку они никогда не обижали его, он их тоже не обижал. Он мог подолгу сидеть и смотреть на новорожденных, но это еще ничего не означало. Это было все равно что умиленно наблюдать за птенцами или мышатами, однако в это время он пытался понять, что именно в грудных детях заставляет женщин хором ворковать над ними и вести себя как попугаи в тропическом лесу. Вообще он мог допустить, что в грудных детях есть нечто особенное. Мог допустить также, что кто-то должен защищать их, потому что сами себя они защитить не могут. Если бы потребовалось, он все бы сделал для них. Правда, он думал больше о матери, чем о ребенке. Самое главное, чтобы с ее сокровищем ничего не случилось, а то к ней даже близко не подойдешь. Ну и, кроме того, его утешала мысль, что скоро ребенок превратится в маленького человека и тогда общение с ним станет обоюдным. А пока следовало запастись терпением. В созерцании грудного ребенка не было ничего обоюдного. Женщины, правда, думали иначе и так настаивали на своем, что им почти верили. Плод молчит. После рождения он начинает кричать. А во всем остальном между грудным ребенком и плодом нет никакой разницы. Хорошо, что плод не издает звуков, не пищит, как цыпленок в яйце. Впрочем, никого бы не удивило, если б плод начинал кричать в утробе, когда мать проявляла неуважение по отношению к нему. Нельзя принимать все известное как нечто само собой разумеющееся и даже скучное. Тем самым люди лишают себя многих радостей. Луна со своим странным поведением на небесном своде привела бы их в изумление, если б они впервые увидели ее вчера, но они видят ее уже много тысячелетий, и она их больше не удивляет. Теперь она просто луна. Разве с ней происходит что-нибудь странное? Да, с луной происходит много странного, но они этого не видят и потому не обращают на нее внимания.
В 1950 году Эрлинг относился к Гудни так же, как и до поездки на Канарские острова. Ей шел шестой год, и у нее были круглые, как у совы, глаза. Уже тогда она немного подражала голосам других людей, но совершенства в этом достигла лишь лет в девять-десять. Даже в три года Гудни порой приводила его в замешательство. Теперь же ей стукнуло двенадцать, и ее совиные глаза наблюдали за ним внимательней, чем когда бы то ни было. Поднимая глаза, Эрлинг всегда ловил на себе ее взгляд, которого она и не думала отводить. В ее взгляде не было враждебности, примерно так же она разглядывала его и в раннем детстве. Словно он знал что-то, неизвестное другим, и она хотела, чтобы он поделился с ней своим секретом.
Элисабет было уже семь, и она тоже начала ходить в школу. Она была похожа на Яна, но унаследовала от Фелисии ее беспокойство, неприкаянность, неугомонность. Точно детеныш обезьяны, она летала с ветки на ветку в то время, как взрослые обезьяны сидели на своем толстом надежном суку, щурились на солнце и хотели лишь одного – чтобы им никто не мешал счищать кожуру с бананов. Ее старшая сестра Гудни с первого дня была спокойным ребенком, обладавшим чувством собственного достоинства, присущим китайским мандаринам, однако это было напускное спокойствие. В ее внешности было много от обоих родителей, и она обладала изумительной способностью изображать их и вообще кого угодно, поражая своим искусством всех окружающих. Гудни было достаточно понаблюдать за человеком несколько минут, и она уже могла изобразить его. Некоторые отказывались говорить в ее присутствии, и тем она мстила, изображая их мимику, и в этом всегда было что-то недоброе. В школе ее боялись и ученики, и учитель. Он даже сказал Эрлингу, что стоит ему повернуться к Гудни спиной, как класс начинает корчиться от смеха; когда же он смотрит на нее, она всегда сидит с невинным и серьезным видом. Гудни мгновенно подхватывала и изображала любой диалект. Она чуть-чуть утрировала мелкие особенности речи говорившего, и от этого многим казалось, что в них вогнали раскаленную иглу. На свой лад Гудни была любящим ребенком и явно благоволила к отцу. Она и к Эрлингу питала определенную слабость, но иногда так доводила его своим передразниваньем, что он с трудом сдерживал гнев. С Фелисией она бывала безжалостна, но очень огорчалась, когда той казалось, что дочь зашла слишком далеко.
Говорят, человек плохо знает, как звучит его голос, или имеет о нем неверное представление. Это объясняется тем, что на органы слуха одновременно действуют и эхо, звучащее в черепе, и другие помехи. Поэтому обычно человек не узнает своего голоса, записанного на пленку. Эрлинга удивляло, что Гудни может изображать столько разных голосов, теоретически число их было неограниченно. Но разве воспроизведение чужого голоса не отдается в черепе эхом точно так же, как и собственный голос?
Благодаря своему искусству Гудни была всесильна. Если ей требовалось уговорить кого-нибудь, подольститься или подразнить, она, как правило, добивалась своего, заговорив с человеком его голосом. Если это не помогало, она прибегала к помощи других голосов. С Фелисией она почти всегда разговаривала мягким и спокойным голосом Яна. Иногда она кричала из соседней комнаты хриплым голосом Эрлинга: Господи, Фелисия, пусть Гудни делает что хочет, лишь бы было тихо! Ты должна отвыкнуть от этой привычки, сердито сказала ей однажды Фелисия, ведь это все равно что подделать чью-то подпись. Юлия находилась под особым покровительством Гудни. Ее невозможно передразнить, говорила Гудни, таких людей надо уважать.
– Гудни, – сказал однажды Эрлинг, – а ты уверена, что голос, которым ты говоришь обычно, это твой, а не чужой голос?
Изредка Гудни проявляла необычную мягкость. Она обняла Эрлинга за шею, и ее ответ оказался для него неожиданным:
– Как мне отвыкнуть от этой привычки, Эрлинг? Мне бы так хотелось перестать всех передразнивать!
– Так перестань, разве ты не можешь? – Его удивило, что она хочет, но не может отвыкнуть.
– Я понимаю, что веду себя глупо, но не могу удержаться. А мне хочется быть только Гудни.
Эрлинг не знал, что на это ответить. Гудни далеко не единственная на свете делает то, чего не хочет, и не в силах отказаться от этого, думал он. Она казалась такой беспомощной, когда влезала в чужую скорлупу. Мне хочется быть только Гудни. Неужели и она боится, что утратит свою суть? Утратит навсегда, если не проявит осторожность? Может, то, что мы называем личностью, сутью человека, не так прочно в нас, как принято думать? Уж не кроется ли за всем этим догадка, что человек никогда и не обладал никакой сутью, не был личностью, что он жил иллюзией, обманом? Порой Эрлинг думал, что никогда не был ничем иным, как оболочкой оболочки, так сказать, комнатой смеха, где зеркала отражали оболочку за оболочкой, неким роковым образованием, функционировавшим в пустоте – 0,000000… – он всего лишь Ничто, воспроизводящее Ничто и обреченное всегда воспроизводить только Ничто, деятельное, неутомимое, трудолюбивое Ничто. Мираж, нереальность, поддерживаемая другой нереальностью, что-то, что дает начало жизни или поглощается ею, что-то, не обладающее способностью умереть, но способное исчезать. Тогда люди начинали удивляться: куда же он делся? Может, у них даже мелькало подозрение, что его никогда и не было, а те, кто считал, что хорошо знал его, стыдливо молчали или оправдывались: Я говорил о нем в шутку, а вы поверили, надо было проверить, числится ли он в регистрах переписи населения. Не зря, стало быть, его всегда мучило чувство, что он ведет свое происхождение от чего-то близкого к нулю. Не зря его жизнь была населена людьми, встреченными им случайно на периферии своего Ничто. Он ежедневно произносил имена людей, о которых слышал от других, какого-нибудь плотника с Тересегатен или матроса из
Хортена, ему было известно только имя, но, раз возникнув, оно тревожило его, и он уже целыми днями думал об этом незнакомом ему человеке…
…или что-то, что принадлежит твоему ближнему
Фелисия и Эрлинг остались в комнате одни.
– Ты уже давно ничего не говорила мне о маленьком пороке Юлии… – сказал он.
Фелисия задумчиво кусала губы и долго молчала, потом заговорила, словно ища смягчающие вину обстоятельства:
– К счастью, пока она крадет только дома. Я бы заметила, если б это случилось где-то еще.
– Рассказывай, мне трудно об этом спрашивать.
– Понимаешь, сейчас что-то изменилось. Давно, когда это только началось, страдала от этого главным образом я, хотя, случалось, и другие тоже не находили своих вещей. Вначале она действовала почти как лунатик. Теперь вещи пропадают только у меня. У самой Юлии никогда ничего не пропадает – если предположить, что крадет не она, а кто-то другой, – но это легко объяснить. Она живет так, что у нее невозможно что-нибудь стащить, и очень следит за своими вещами. Это надо иметь в виду. У меня нет сомнений, что крадет именно она.
Фелисия помолчала.
– Мне неприятно говорить об этом, но стоит мне проявить невнимательность, как пропадает мое белье.
По ее тону было ясно: для нее это улика, говорящая о том, что вор – женщина. Эрлинг ничего не сказал, но подумал, что это вообще не улика. Это говорило только о том, что женщинклептоманка при определенных обстоятельствах может украсть и женскую одежду. Картина болезни бывает иногда очень сложной. И все-таки женщина, крадущая женскую одежду, в первую очередь наводит на мысль об обычном воровстве. Кража женского белья и украшений характерна для мужчин, страдающих фетишизмом.
– За последние полгода у меня пропало несколько украшений, и два из них были довольно ценные. Это серьги, которые ты привез мне из Лас-Пальмаса семь лет назад, и жемчужное ожерелье, подаренное мне Яном на сорокалетие. Я ему ничего не сказала об этом, но раза два мне следовало бы его надеть.
Ян, конечно, все понимает. Больше ни у кого ничего не пропадает.
Они говорили тихо, прислушиваясь к каждому шороху.
– И, кроме Юлии, никто не мог этого взять?
– Нет. Во всяком случае, трудно себе представить, чтобы кто-нибудь, кроме нее, мог взять мои серьги и жемчуг, если, конечно, это не Ян, хотя это было бы уже слишком. Но если я заявлю о пропаже, подозрение падет на Юлию.
– Очень странно, чтобы моя дочь занималась такими делами. Она уже очень давно видит по отношению к себе столько любви, что каждый мог бы ей позавидовать.
– Но когда-то она не получала того, в чем больше всего нуждалась. – Фелисия помолчала. – Должна сказать, что почти все из украденного мне подарил Ян. Из ценных вещей только серьги были подарены тобой. Ты считаешь, что для такой болезни у Юлии нет оснований, потому что здесь ее любят. Ну а если предположить, что она продолжает красть по привычке? Начала она красть, думая подсознательно, что приобретает любовь, а продолжает по старой, уже бессмысленной привычке. Кому, как не тебе, знать, как трудно отказаться от старых привычек?
Она глянула на бутылку и пожала плечами.
– Привычка у нее старая, – голос у Фелисии вдруг изменился, – но теперь она ищет другую любовь, ту, которую, по ее мнению, она получить не может. Ей кажется, что подарки, полученные мною от Яна, должны были бы принадлежать ей.
– Это искусственное построение, – заметил Эрлинг, но тут же вспомнил о пропавшем белье. Может, Фелисия проницательнее, чем он думает?
– По-моему, Эрлинг, это началось у нее, когда ей не хватало обычного тепла и любви. Теперь ей не нравится, если ты делаешь мне подарки, а уж что касается Яна, он вообще не должен ничего дарить мне. Это совсем другое. Бывает, она невинно приласкается к Яну. Но ведь ей скоро двадцать три года.
Фелисия засмеялась, ее смех звучал искренне.
– Я не слишком ученая женщина, Эрлинг, однако кое в чем я не ошибаюсь. Юлия влюблена в Яна.
– Она знает о наших отношениях, Фелисия. Может, это повернуло ее мысли в определенном направлении?
– Безусловно. Какая-то темная частица ее мозга подтолкнула эту мысль. Но в светлой его части Юлия слишком умна, чтобы прийти к такому умозаключению. Повторяемость краж – признак болезни или, в любом случае, слишком инфантильное поведение для такой умной и взрослой девушки. Я многое знаю о бодрствующей Юлии и не меньше о спящей. Ведь я для нее полумать, полусестра, а она для меня – полудочь, полусестра.
– А что Ян?
Фелисия усмехнулась:
– Тебя интересует, как к этому относится Ян? Он и Юлия – две стороны одного и того же случая, с той лишь разницей, что воровать ему кажется смешным. Прости, говорит он мне иногда, я взял твои сигареты.
– Постой, Фелисия, уж не хочешь ли ты сказать, что Ян влюблен в Юлию?
– Безусловно. Иначе он уже давно понял бы, что к чему.
– Глупости! – возмутился Эрлинг и прибавил сердито, так как Фелисия не могла сдержать смех: – По-моему, ты слишком весело к этому относишься.
– Не вижу ничего веселого в том, что Юлия страдает клептоманией. Бедной девушке придется жить с этим пороком, и он может иметь для нее самые печальные последствия. Я уверена, что Юлия ни о чем даже не подозревает. Сколько раз я говорила тебе об этом, и мне отнюдь не кажется это смешным. По-своему Юлия, конечно, знает, что делает, но это словно комната в доме, где нет света. Не знаю, как это называется по-научному, я только пытаюсь объяснить то, в чем у меня нет ни малейших сомнений. Ее состояние сродни лунатизму. О черт! Она ведь и в самом деле нередко ходит во сне, но в то же время это не совсем лунатизм, потому что большую часть вещей она украла не во сне. При этом не забывай: мы с ней всегда бываем вместе, или почти всегда. Никто не знает ее, как я. Она крадет совершенно невинно. Однажды, это было очень давно, я объяснила ей, что такое клептомания, – она наткнулась на это слово в газете. Это случилось вскоре после того, как я привезла ее в Венхауг. Как странно, сказала она и продолжала читать дальше, не проявив к клептомании ни малейшего интереса. Ты не думай, я все замечаю.
Эрлинг не сомневался, что Фелисия все замечает. Ну а если что-то все-таки осталось незамеченным? Однако… может, Юлия достаточно прозорлива в своей болезни и понимает, с кем имеет дело? При мысли, что Юлия, возможно, перехитрила Фелисию, отцовская гордость заставила Эрлинга улыбнуться. Фелисия действительно замечала все.
– Чего ты смеешься? – тут же спросила она.
– Смешно, как легко ты относишься к тому, что Юлия и Ян влюбились друг в друга.
– А как еще прикажешь к этому относиться? Или ты считаешь, что неверной жене Яна Венхауга пристало поднимать крик по этому поводу?
– Крика ты никогда не поднимала, но мне случалось пережить весьма неприятные минуты, когда ты считала, будто я…
– Это совершенно другое.
Эрлинг покачал головой. Конечно, это совершенно другое. Но поскольку он не был мужем Фелисии, он был избавлен от необходимости обсуждать с ней некоторые вопросы.
– Одно дело, когда ты бегаешь за какой-нибудь юбкой, и другое, – когда Яну нравится такая умная и красивая девушка, как Юлия. Это нельзя сравнивать. К тому же влюбленность влюбленности рознь. Ян и Юлия совершенно невинно флиртуют друг с другом, хотя и не так невинно, как им самим это кажется. Что, по-твоему, я должна делать? Стать несносной и таким образом дать им понять то, что знать им будет неприятно? К тому же тебе не на пользу…
Фелисия замолчала, Эрлинг подумал, что она вовремя спохватилась. Он-то хорошо знал эту ее улыбку, с которой она говорила о серьезных вещах:
– Иногда женщине невольно приходит в голову, что вы, мужчины, очень похожи на учеников воскресных школ – не на таких жуликов, какими они предстают перед нами в обычной жизни, а на образцовых мальчиков, о которых мы с удивлением читаем в газетах. Вы не можете заглянуть в будущее, и потому вас удивляет то, что любая неглупая женщина предвидела бы уже давно. Юлия приехала в Венхауг, когда ей было тринадцать, она прошла тяжелый курс дрессировки в детских домах или где там она еще жила. Бедная девочка. Она всегда держалась настороженно, как паршивая бездомная собачонка, была подозрительна, недоверчива, растерянна, всегда готова солгать или пригнуться в ожидании удара. Такой она приехала к нам, но я умела смотреть в будущее и понимала, что этот маленький зверек сделан из добротного материала. И я принялась за дело. С ней стало особенно трудно, когда она поняла, что никто не собирается ее бранить или наказывать. Удерживать ее на прежнем уровне было бы значительно легче. Мы миновали эту стадию, но прошло целых три года, прежде чем она успокоилась. В конце концов мы получили нашу сегодняшнюю Юлию, и скоро ей стукнет двадцать три года. Я говорила себе, что она будет обожествлять и боготворить Яна, поклоняться ему и писать о нем в своем дневнике. И поняла я это еще до того, как этот растерянный ребенок вошел в гостиную Венхауга. Иначе и быть не могло. Как было бы немыслимо и то, чтобы ее безграничная преданность не нашла отклика в том, на кого она распространялась, особенно если прибавить к этому, что девушка обладала внешностью, которую моя бабушка называла «привлекательной для мужчин», и научилась у меня, как нужно командовать родителями. Я должна была предусмотреть, что Юлия может оказаться клептоманкой, но, к сожалению, не предусмотрела. Теперь, когда многое стало известно, я сочла бы неестественным, если б она этого избежала. Начав красть любовь вообще – между прочим, я считаю комплиментом то, что Юлия нашла ее только в Венхауге, – она сосредоточила свои усилия на том, чтобы украсть моего мужа. Вот тут я потерпела поражение и намерена это исправить. Я отнюдь не собираюсь объяснять Юлии, что любви нельзя добиться с помощью угроз, что ее нельзя купить или продать. Любовь дается людям взаймы. Она не имеет цены, независимо от того, сколько вор готов заплатить за нее. Юлия и сама это понимает, но где-то в подсознании у нее живет мечтательное заблуждение, смешное детское чувство. И я сама виновата, что она вовремя не схватила за хвост этого глупого чертенка и не сломала ему шею.
Эрлинг молчал. Ему всегда было неприятно, когда Фелисия касалась той части его прошлого, которое было связано с Юлией. Оно выглядело некрасиво.
– Со временем Юлия разберется, что к чему, если еще не разобралась. Она излечится, когда однажды ей придется потратить слишком много усилий, чтобы получить то, к чему она стремится. Она – твоя дочь, Эрлинг, и потому не сможет долго оставаться клептоманкой-монахиней. Когда-нибудь она придет ко мне и скажет: вот, Фелисия, серебро и украшения, которые я собирала, чтобы купить Яна. А потом прибавит с удивлением: Господи, что за глупости я говорю тебе? Может, я сплю?







