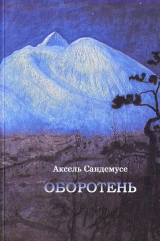
Текст книги "Оборотень"
Автор книги: Аксель Сандемусе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
«Вековое ярмо нам на плечи легло…»
Эрлинг осмотрел хорошо знакомую гостиную брата и вдруг понял, что скажет Эльфрида Густаву, когда он уйдет: Ты заметил, как он смотрел на нашу мебель?… Ее настороженный, внимательный взгляд нервно перебегал с Эрлинга на очередной предмет, привлекший его внимание. Может, в гостиной все-таки что-нибудь не в порядке? Недостаточно красиво? Наверное, у его знакомых лучше? Неужели она проглядела и на абажуре осталась пыль? Эрлинг скорее чувствовал, чем видел, как дрожащая рука Эльфриды передвинула тарелочку так, чтобы прикрыть ею почти незаметное пятнышко, без ее помощи он ни за что бы его не заметил.
Ему было жаль Эльфриду, и он с болью сознавал, что его от нее и от Густава отделяет расстояние во много поколений и в десятки тысяч миль. Если бы он вдруг погладил Эльфриду по руке, это бы окончательно привело ее в смятение, а Густава вышибло бы из равновесия так, что предсказать последствия было трудно. Часто говорят, что между тем-то и тем-то лежит пропасть, обычно это пустые слова, но в ту минуту Эрлинг увидел бездонную пропасть, отделявшую его от Густава и Эльфриды, бессмысленно было даже пытаться перекинуть через нее мост. Эта пропасть навечно разделила два мира. Эрлинг с грустью понял, сколь глупы были его попытки в молодости добиться дружбы и доверия таких людей, как Густав и Эльфрида, то есть вообще всех его близких – родителей, братьев, сестер, знакомых – всех, кого он знал до того, как ему стукнуло двадцать. Он очень старался стать одним из них, но бездна между ними существовала с его рождения. Эрлинг подумал о годах, потраченных на борьбу, которая с самого начала была обречена на неудачу. А ему всегда так хотелось чувствовать себя дома там, где он жил и рос!
Он тут же опомнился. Нет, годы были потрачены не зря. Все это гипотетические построения, а их он всегда ненавидел, и никто не знал, как сложилась бы его жизнь без той напрасной и унизительной войны, которую он вел, добиваясь признания близких, не желавших его знать. Он не хотел даже думать об этом. Должно быть, в юности он был более далек от реальности, чем все остальные, был слеп, глух и не понимал, что каждый человек, каждое дерево и каждый камень твердили ему: мы не хотим знать тебя! Ты слишком глуп, слишком уродлив, нам противен один твой вид!
Позже он предпочитал считать это своим воображением, самообманом, но понимал, что дело все-таки не в этом. Он был из тех, кто не умел приспосабливаться, – окружающие произносили эти слова так, словно речь шла о недуге, о каком-то врожденном недостатке, который можно исправить, и они пытались исправить этот его недостаток, и жертва сама тоже пыталась исправить его, ибо недостатки следует исправлять, – нужно уметь приспосабливаться и быть как все. Отклонения считались ненормальностью. У моих близких никогда не было и тени сомнения в том, что я ненормален и должен лечиться. Никто не сомневался в этом, ни один человек, пока я не попал в другое окружение, где моя ненормальность оказалась нормой и где Густав с Эльфридой просто погибли бы, потому что там не могли бы принять их тип людей.
Эльфрида листала газету. Не следует заглядывать в газету, если у вас сидит гость. Но она не могла удержаться. Эрлинг видел, как ее глаза, словно осторожные зверьки, бегают по страницам и колонкам, наконец они достигли цели: объявления о смерти. Она раскрыла газету словно невзначай и, чтобы подчеркнуть это, смотрела в другую сторону. Потом взгляд ее упал на объявления, и она тут же забыла о существовании Густава и Эрлинга.
– Господи! – вдруг воскликнула она. – Здесь есть объявление о смерти человека по фамилии Капарбус. Каких только имен и фамилий не встретишь в этих объявлениях!
– Это лишь объявление о смерти, а ведь люди жили с этими именами и фамилиями, – заметил Эрлинг.
Он тут же пожалел о своих словах, но было уже поздно, Густав не мог пропустить такой случай:
– А Эрлингу лишь бы противоречить!
Густав был прав. Эрлинг всегда противоречил им. И уже давно мог бы понять, что противоречить им бессмысленно. Разве он недостаточно насмотрелся и наслушался их еще в двадцать лет, чтобы понять, как глупо им противоречить? И Эльфрида тоже права, в объявлениях о смерти встречаются самые невероятные имена и фамилии. Словно носившие их люди хранились где-то на чердаке, прежде чем попали в газету. Эльфрида права. Фамилию Капарбус можно встретить только в объявлениях о смерти.
Размышляя о терпимости, Эрлинг захотел сделать им одно признание, но он колебался. Вдруг Густаву придет в голову, что он потешается над Эльфридой? Густав был очень подозрителен. Кто знает, как он отреагирует на признание своего испорченного брата? Эрлинг решил промолчать. За последние пятнадцать минут он понял, что никогда больше не увидит ни Густава, ни Эльфриду. Он наконец-то освободился от них. Сейчас ему было трудно все объяснить, но он знал, что последний раз пришел к своим родственникам, и потому смотрел на них добрыми глазами. Ему захотелось поговорить о дяде Оддваре и его семье, ведь скоро он навсегда уйдет отсюда:
– Скажи, Густав, ты не знаешь, что сталось с детьми дяди Оддвара?
– Ничего хорошего. Нильс уже несколько лет как умер, но ты ведь всегда занят, у тебя нет времени, чтобы интересоваться родственниками. Его убил жердью какой-то пьяница, приняв за другого, тоже, конечно, пьяницу. Нильс дважды приезжал в Опстад, где его убили, его как раз собирались изгнать оттуда за ккую-то кражу со взломом, но теперь он, можно сказать, все-тки остался в Опстаде навсегда. Девчонки начали промышлять на улице еще до того, как стали взрослыми. Попали под надзор полиции нравов, и их посадили. Разумеется, не вместе. Сочли, что лучше их разлучить друг с другом. Когда их выпустили, они поступили работать на какую-то фабрику. Чтобы реабилитировать себя, как они выразились. Если девушка работает, считается, что с нравственностью у нее все в порядке, и это не лишено оснований. Они обе тоже любили выпить. Потом я слышал, что они вышли замуж, но где они живут, я не знаю. Сейчас им уже за пятьдесят или около того, но, может, они тоже уже давно спились и умерли. – Густав продолжал без всякого перехода: – Ты ведь был у дяди Оддвара в тот день, когда умерла тетя Ингфрид?
В воздухе витал невысказанный упрек: а на ее похороны не пришел. Эрлинг промолчал, ему не хотелось объяснять, что как раз тогда он готовился бежать в Швецию. Он в последний раз сидел в гостях у Густава, и ему не хотелось выслушивать, что в Швеции во время войны было лучше с продовольствием, но что, наверное, тому, кого там не знали, все равно приходилось работать, чтобы заработать на кусок хлеба. Эрлинг снова подумал о признании, которое хотел сделать Густаву и которого Густав теперь уже не услышит. Оно бы звучало примерно так: Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь, Густав. Не зря у нас с тобой столько общих воспоминаний о том времени, когда мы оба еще жили дома. В глубине души я тебя понимаю, понимаю и то, что ты говоришь о работе, и то, что ты под этим подразумеваешь. Несколько лет я делал вид, будто имею постоянную работу, а пишу только по ночам и по воскресеньям. Так я лгал года четыре. Главным образом потому, что еще имел дело с людьми твоего склада или с такими, которые думали так же, как ты. У них считалось неприличным, чтобы человек просто сидел и писал. Это я сразу сообразил. Они мучили мою жену, мучили меня, они всячески донимали нас из-за того, что их совершенно не касалось. Один из них даже приложил немало усилий к тому, чтобы меня уволили из газетки, где я работал, – не смей задирать нос и думать, будто можно жить… да, будто можно жить только на то, что мараешь бумагу. Все эти люди не имели к нам никакого отношения (и ты в том числе), это были соседи, случайные знакомые, кто угодно. Не забывай, я был тогда молод, неуверен в себе и робок. И никто ни разу не помог мне хотя бы пятеркой, потому что я якобы важничал и не хотел работать. У тебя никогда не было такого длинного рабочего дня, как у меня, – но ведь я только сидел за столом и писал.
Это одна сторона медали. Другая заключается в том, что я тоже продукт того убожества, в котором мы жили в Рьюкане. Это было наше общее убожество, твое, мое, наших несчастных родителей и безрукого старика, за которым нам с тобой приходилось ухаживать. Мы научились работать. Работать в том смысле, в каком ты понимаешь это и теперь. То есть что-то делать руками и зарабатывать хлеб свой в поте лица своего. Меня это тоже не миновало. Почти до последнего времени я втайне стыдился, что не спешу каждое утро на фабрику или на строительство дороги, не получаю за это положенную мне заработную плату и тем самым отягощаю свою совесть.
Мы с тобой всегда были рабочими парнями. Вряд ли мы еще встретимся друг с другом. У нас на все разная точка зрения. Ты вбил себе в голову, что я, как младший, должен во всем подражать тебе. Это глупо. Однако наше понимание того, что пристало порядочному человеку, а что нет, имеет общие корни – сердцем я согласен с тобой, но разум мой уже давно сказал «нет!». И тем не менее я уважаю тебя даже больше, чем ты со своей головой, забитой камнем, требуешь от меня по праву старшего. Но ты сделал все, чтобы я не смог выразить тебе это. И прежде чем я уйду от тебя, я хочу объяснить тебе, как я на это смотрю теперь. Мы с тобой много лет состязались в упрямстве, от этого наши сознания, столкнувшись друг с другом, дали осечку и замкнулись каждое на своем. Это было глупо. Я представляю себе, как бы ты рассердился, если б узнал, что не без моих усилий ты прославился как подрывник. Ты всегда стремился к тому, чтобы поддерживать свою репутацию, и мне приятно, что ты ни разу не дал младшему брату повода стыдиться тебя. Но ты этого никогда не узнаешь. Я позаботился и об этом. Я не настолько ненавижу тебя, чтобы позволить тебе захлебнуться собственной желчью. К тому же я действительно горд, что мой старший брат – подрывник. Твой отблеск падает и на меня – младшего ленивого брата.
К шестидесятилетию следует присылать телеграммы на праздничных бланках
Эрлинг видел по Эльфриде, что ей хочется поговорить о молитвенных собраниях. Они всегда интересовали ее. В газете столько интересных объявлений о разных собраниях, говорила она иногда. Глядя на эту шестидесятилетнюю женщину, он вспомнил свою молодость и одиночество. Объявления – это суррогат суррогата. Но ведь Густав туда не пойдет, говорила она, ощущая в себе слабый протест, который даже не достигал ее сознания, ей оставалось довольствоваться Ложей трезвенников. Это тоже было не так уж плохо. Эльфрида намекала, что в глубине души Густав верит в Бога, но…
В таком случае, это действительно спрятано очень глубоко, думал Эрлинг. Густав раз и навсегда заявил, что Бога придумали пасторы, чтобы им было на что жить. Пасторы, учителя и всякие другие, сидящие в чистеньких кабинетах, или такие, как Эрлинг, думающие только о том, как бы им прожить, не работая.
Густав великолепно помнил все, что когда-либо говорил, и никогда не отказывался от своих слов. Пасторов и им подобных следует гнать на работу палками, чтобы они на своей шкуре поняли, что такое жизнь. При существующем социальном устройстве Господь остался без дома и в конце концов исчез вовсе, но Густав никогда и не нуждался в нем. Люди должны работать и платить за себя. Все остальное – чепуха, которую кто-то придумал, чтобы облегчить собственную жизнь, чтобы иметь возможность читать, писать и бить баклуши. Однако это не исключало того, что он препирался с Богом примерно так же, как препирался с архитекторами и подрядчиками, открыто высказывая им свое мнение о них. В этих случаях он тоже не прибегал к лести.
Разговаривать с Густавом и Эльфридой было все равно что играть в игру, в которой существует много запретов, но все направлено на достижение определенной цели. Они часто делали бессмысленные ходы, но таковы были правила их игры. Выигрыш состоял в том, что случайно им удавалось узнать что-нибудь интересное. Прямые вопросы правилами игры не допускались. Сделав удачный ход, они переглядывались, как они полагали, с невинным видом. Это был горький опыт столетий, обогащенный горьким опытом собственного детства, – не выдать себя и не задавать вопросов, если не хочешь получить в нос. Пусть никто ничего не знает, и берегись, как бы кто-нибудь хитростью не выведал у тебя твою тайну, все только и ждут подходящего случая, чтобы наброситься на тебя. А главное, никогда ни о чем не спрашивай!
Эрлинг снова оглядел гостиную. За все эти годы она пропахла кислым табаком. Часть мебели могла заставить любого покрыться холодным потом, но она нравилась тем, кому принадлежала. Буфет – этот полированный динозавр – доставал почти до потолка. Он был единственным другом Эльфриды, пока Густав взрывал свои горы. Вот если б ему пришло когда-нибудь в голову заложить в буфет динамитную шашку, тогда бы к Эрлингу вернулась вера в людей. Эрлинг вспомнил оскорбление, нанесенное буфету тридцать лет назад, – ему пришлось сделать вид, что он сейчас чихнет, и он закрыл лицо платком, чтобы они не увидели его улыбку. Однажды дяде Оддвару негде было ночевать, и Густав разрешил ему лечь на диване в гостиной только потому, что дядя Оддвар был трезвый. Но едва Густав и Эльфрида удалились на покой, дядя Оддвар вытащил бутылку и принялся наверстывать упущенное. Наутро Эльфрида обнаружила на буфете мокрое пятно, и дядя Оддвар не мог вразумительно объяснить, откуда на буфете взялась вода. Эльфрида сердилась, Густав сердился, но дядя Оддвар не сердился никогда, с совершенно серьезным видом он сказал, что, должно быть, накануне на буфет вылилась вода из чашки или что-то в этом роде. Эльфрида окончательно вышла из себя: не хватало, чтобы она сама плеснула водой на свой полированный буфет, да еще так, что облила и зеркало! Из опрокинутой чашки вода никак не могла бы попасть на зеркало! И бедный дядя Оддвар был изгнан из дома. Он был удручен, рассказывая Эрлингу эту историю. Я никогда не мочусь где попало, сказал он, но понимаешь, мне приснился такой странный сон: мы соревновались в Колсосе, кто пустит самую высокую струю, и я получил первый приз.
В третий или четвертый раз Эльфрида принялась рассказывать, как торжественно они отметили шестидесятилетие Густава. Густав молча слушал ее. Эрлинг видел: брат гордится, что из них двоих он первым достиг этой цели. Словно и он тоже получил первый приз, хотя на сей раз высота струи уже не имела значения. В честь Густава произнесли три замечательные речи, а посланцы от Ложи трезвенников подарили ему цветы и серебряную кружку. Эрлинг с восхищением разглядывал кружку, но промолчал, обнаружив, что это не серебро, он не хотел, чтобы его брат на старости лет сделался пьяницей.
– Да, мы получили… твое письмо, – сказала Эльфрида, отвернувшись от него.
Эрлинга вдруг охватило искреннее раскаяние. То, что он не пришел, по его мнению, не могло их обидеть, он не был приглашен, хотя не мог не знать, что они будут до последней минуты надеяться, что он все-таки придет. Как-никак, а брату исполнилось шестьдесят! Они предоставили ему самому решить, оскорбит ли он их своим отсутствием, впрочем, приди он, Густав все равно был бы недоволен. Эрлинг и думал прийти, но его отпугнуло большое количество трезвенников, неизбежное внимание к его особе и поджатые губы. Было ясно, что этот пресловутый брат, который вечно смеялся над людьми и безбожно пил, только испортил бы праздник своим присутствием. Они бы мимоходом принюхивались, не пахнет ли от него спиртным, и потом сошлись бы на том, что, к счастью, он был не очень пьян, хотя немного все-таки выпил, иначе почему он так странно держался?
Но главный его промах состоял в том, что он прислал письмо, а не поздравительную телеграмму на красивом бланке. Полученные поздравительные телеграммы лежали стопкой на верхней полке буфета, точно обвинительная речь прокурора. Как же велико было расстояние между братьями! Эрлинг весь взмок, сочиняя письмо на целую страницу и стараясь, чтобы оно было особенно торжественным, – он просто забыл, что к шестидесятилетию следует присылать телеграммы на стандартных праздничных бланках. Не исключено, что забыть об этом ему помогло нежелание чувствовать себя дураком, заказывая и оплачивая эту расцвеченную глупость, которую он должен был подписать своим именем. Хорошо еще, что он послал письмо, а не обычную телеграмму, что было бы воспринято как намеренное оскорбление. Письмо на целую страницу – это еще не самое худшее.
Густав пыхтел трубкой и, не обращая внимания на присутствие Эрлинга, бросил, словно для того, чтобы утешить Эль-фриду:
– Ну-ну, мы ведь уже говорили об этом. Наши гости и не ждали, чтобы мой брат вел себя как воспитанный человек.
Часы
Эрлинг не переставал удивляться. В это воскресенье он мысленно уже расстался с братом, и сейчас испытывал к нему добрые чувства, хотя и остерегался показать их. Он смотрел на красивые настенные часы, которые Густав очень давно приобрел на каком-то аукционе. У него мелькнула мысль, что надо бы эти часы отсюда забрать. Чтобы больше ничто не нарушало тишины этого склада.
– Почему ты так смотришь на наши часы? – спросила Эльфрида. – Они тебе кажутся некрасивыми? Мы с Густавом уже присматриваем себе новые.
Эрлинг равнодушно спросил, что они собираются сделать со старыми.
– Тридцать лет назад я отдал за них двадцать пять крон, – сказал Густав, – но теперь вряд ли получу за них эти деньги.
– Мне в Лиере нужны такие часы, – сказал Эрлинг. – Сколько вы за них хотите? Но только тогда я заберу их прямо сейчас, а то дело не будет стоить хлопот.
Вот черт, подумал он, теперь они десять лет будут мучиться, что продешевили.
Часы запротестовали. Во всяком случае, в глубокой тишине их бой прозвучал слишком громко. Эрлинг понял, что Густаву с Эльфридой надо поговорить наедине, и вышел в уборную. Вернувшись, он больше не заговаривал о часах. Болтал о том о сем, наконец минут через десять Эльфрида сама вернулась к этому вопросу:
– Неужели там, где ты живешь, нет никаких часов?
– Нет, я обхожусь будильником.
– А тебе не очень скучно… жить совсем одному?
Вот ее цель! Заговорив о часах, попутно выпытать что-нибудь про него самого.
– Нисколько. Мне нравится.
– Тебе кто-нибудь помогает по хозяйству?
– Нет, слава богу, от этого я избавлен.
Он понимал, что ей хочется выведать что-нибудь о его жене и детях. А может, и не только о них, но выведать что-нибудь у Эрлинга было не так-то просто.
– И тебя никто никогда не навещает? – Голос у нее немного дрожал.
– Нет, никогда.
Эльфрида зашла в тупик, и в дело вмешался Густав:
– Значит, ты хочешь купить наши часы? И сколько же ты за них предлагаешь?
– Я вообще ничего не предлагаю. Если хочешь их продать, сам и назначь цену. Часы твои, и ты знаешь, что они собой представляют.
Густав кашлянул и сдержанно похвалил часы. Они в порядке, никакого дефекта в них нет.
– Ну, мне пора. У меня в центре свидание через полчаса, – сказал Эрлинг.
Ему показалось, что Густав с Эльфридой как-то подозрительно затихли, и он сообразил, что сделал неверный ход: он сбил их с толку. Они притихли и насторожились, как животные, и Эрлинг знал, что их мысли заняты уже не часами, а только его предстоящим свиданием. Они надеялись, что сейчас он скажет, с кем и где должен встретиться.
Густав и Эльфрида украдкой переглянулись.
– Значит, у тебя свидание? – спросил Густав, обращаясь к печке.
Эрлинг сделал вид, что не слышал вопроса. Почти всю жизнь он вращался вне их круга, они мало что про него знали, но теперь разговаривали с ним так, словно расстались вчера. Что руководило ими, старое желание контролировать его жизнь, опасение быть замешанными во что-то или, наоборот, оказаться в стороне? Может, когда он уйдет, в них вспыхнет ккая-нибудь давняя обида?
Эрлинг вышел в прихожую и надел пальто.
– Ну, мне пора, – снова сказал он.
– По-моему, ты сам должен назвать свою цену. – Густав кивнул на часы.
Эрлинг покачал головой.
– Тогда, скажем, двадцать пять крон, и с покупкой тебя!
– Ладно, не думай больше про это, – сказал Эрлинг и подошел к телефону. Он вызвал такси и оставил рядом с телефоном деньги за разговор.
Сначала он хотел сразу выложить за часы двадцать пять крон, но он хорошо знал своего брата. Густав не поймет сарказма, он спрячет деньги в карман и подумает, что Эрлинг как был дураком, так им и остался. Но все могло обернуться и по-другому. Очень скоро, если не через минуту, Густав решил бы, что Эрлинг, выложив без раздумий двадцать пять крон, просто схитрил. Должно быть, часы стоят гораздо дороже и Эрлинг провел его. И ноша грехов Эрлинга стала бы еще более тяжкой. Эрлинг отказался платить за часы двадцать пять крон только из жалости к Густаву.
– Зачем тебе такси, ведь у нас ходит трамвай, – заметила Эльфрида, ее огорчили и эти двадцать пять эре, которые Эрлинг оставил возле телефона и которые она была не в силах вернуть ему, и дорогое такси, и часы, и дешевый трамвай.
– Тогда давай двадцать, – выдавил с трудом Густав. Пусть такси подождет, трудно даже представить себе, сколько это будет Эрлингу стоить. Почему он не может просто отдать за часы двадцать пять крон и поехать на трамвае?
Эрлинг положил на стол двадцать крон и попросил бумаги, чтобы завернуть часы. Он принес из кухни табуретку и влез на нее. Едва он прикоснулся к часам, как Эльфрида заплакала. Он опустил руки и удивленно посмотрел на нее.
– Эти часы столько лет висели у нас!
Эрлинг перевел взгляд на Густава, тот прикусил трубку и вцепился обеими руками в подлокотники кресла. Взглянув на криво висевшие теперь часы, а потом на Эльфриду, он побледнел как мертвец. Из-за чего, интересно, из-за часов или из-за Эльфриды?
Эрлинг спрыгнул с табуретки и убрал деньги.
– Я не возьму твои часы, Эльфрида, но хочу дать тебе добрый совет. Не думаю, что это очень дорогие часы, но таких у тебя уже никогда не будет. К тому же это самая красивая вещь в вашем доме.
– Ты правда так думаешь, Эрлинг?
– Да, не стоит продавать такую вещь. Я редко встречал более красивые часы. И конечно, я тут же вернул бы их тебе, если б ты пожалела, что рассталась с ними.
В дверях он попрощался и вдруг увидел лицо Густава. Наверное, на Густава так сильно подействовала и продажа часов, и слезы Эльфриды. Эрлинг никогда не думал, что Густав способен на такие чувства, он предпочел сделать вид, что ничего не заметил, и сбежал по лестнице. Шел густой снег. Он наклонился к шоферу:
– Мне надо в «Континенталь».
Обернувшись, он смотрел на старый дом, пока тот не скрылся за снежными вихрями.







