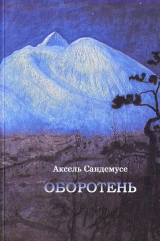
Текст книги "Оборотень"
Автор книги: Аксель Сандемусе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
«Почему мне всегда стыдно? – писала Виктория. – Вы все всегда заставляли меня испытывать чувство стыда. Но чего мне стыдиться? Я все делаю лучше других. Хорошо справляюсь с работой, слежу за своей внешностью. Я никому ничего не должна. И тем не менее, стоит мне что-то сказать, вы все сразу странно смотрите на меня. Биргит, та вообще мне не отвечает. У этой ведьмы Фелисии начинают подрагивать уголки губ. Стейнгрим ненавидит меня, но нельзя же просто взять и уйти, как сделал он. Он сказал, будто я извращенка, но я читала, что в определенных рамках это допустимо. Что мужчинам это даже нравится. Вы не имели права отнимать у меня мужа! Если он порядочный человек, он должен немедленно вернуться ко мне. Должен помогать мне материально. Конечно, я и сама неплохо зарабатываю, но он должен понять, что ему лучше жить со мной, чем платить мне. Я не могу допустить, чтобы он тратил эти деньги на других женщин. Вы считаете, что ему не придется платить мне, если он передаст это дело в суд, но ведь он не передает. А это значит, у него нет уверенности, что он хочет развестись со мной. В доме так некрасиво без его книг. Почему бы ему не читать их здесь, раз он мой муж? Не знаю, что обо всем этом думают люди. Я при встрече вежливо со всеми здороваюсь. А они отворачиваются. Я веду себя безупречно, но вы все против меня. Я понимаю, эти девицы боятся меня, потому что я красивее их. Мужчины сами говорили мне об этом. Но они только задирают носы. Вспомни, как ты сам однажды ушел от Эллен. А потом как миленький вернулся обратно, потому что она не отпустила тебя. Вы разошлись по-настоящему, когда этого захотела сама Эллен. Я тоже охотно вернула бы свободу Стейнгриму, если б нашла себе другого мужа. Но он не смеет требовать от меня, чтобы я согласилась быть брошенной женой. Никому из нас от этого лучше не станет. Моя мать говорит, что это возмутительно, и она совершенно согласна со мной. Пусть ваши бабы не очень важничают, я переспала со всеми их мужьями, им тоже нечем похвастаться. Я все обо всех знаю. Эйстейн Мюре смотрит на меня словно с высокого облака, а он не такой уж сильный мужчина, как кажется некоторым. Стоило ему выпить, как он отключился, а утром исчез, не оставив даже записки. Ему нечего стыдиться, я читала, что с мужчинами такое бывает, зря он теперь пускается в бегство всякий раз, как завидит меня, я могла бы его успокоить и сказать, что все понимаю. Неправда, будто я имела какое-то отношение к национал-социалистам, хотя и между ними встречались приятные люди. Между прочим, я совершенно согласна, что интересы общества должны стоять выше интересов личности, да и все с этим согласны, просто наши нацисты ошиблись, избрав своим предводителем Квислинга. Вчера я встретила Яспера Арндта, это оказалось последней каплей, неважно, что он сказал, только на месте Веры я бы не верила, что он постоянно задерживается на деловых встречах, есть люди, которым кое-что известно…»
Эрлинг отложил письмо и задумался о феномене Виктории.
Был у него такой порок – неутолимый интерес к глупым людям, к их носорожьей силе, неуязвимости, к тому, что глупых не останавливает даже стыд и что у них не ноет сердце, если кому-нибудь становится за них стыдно. У них мозги из веревок, а сердца из каучука, они могут ходить по воде, потому что не знают, что можно утонуть, у них толстая кожа, а душа как гнездо, свитое из чертополоха.
Белая горячка
Эрлинг снова побывал в Венхауге, и Фелисия отвезла его на машине в Конгсберг. Она проводила его до билетной кассы и стояла рядом, пока он покупал билет до Лиера. Потом она долго смотрела вслед поезду. Может, позвонить вечером в Лиер? Нет, не стоит. У нее нет подходящего предлога. Попросить Юлию позвонить отцу тоже нельзя. Кто бы ни позвонил из Венхауга, Эрлинг одинаково отнесется к этому звонку. Он может сказать: я не люблю, когда мне звонят, чтобы проверить, дома ли я. Если только он окажется дома. Но, скорей всего, его дома не будет. И что тогда? Если же ей повезет и она застанет его дома, у него в голосе появятся ледяные нотки, и потом он даст знать о себе лишь через месяц, а то и через два. Хватит и того, что она дошла с ним до кассы, это было глупо. Она же видела, что он понял, почему она это сделала, и, конечно, взял билет до Лиера.
На этот раз запой начался неожиданно. Обычно Фелисия угадывала его приближение дня за два, за три, иногда ей удавалось даже предотвратить его. В противном случае оставалось только позволить ему уехать. Она не все могла бы стерпеть в Венхауге, тем более что в один прекрасный день Эрлинг все равно бы исчез.
Нынче утром Эрлинг рано пришел в Новый Венхауг, он как неприкаянный бродил по дому и часто поглядывал на часы. Пришел Ян, он мельком взглянул на Эрлинга и прошел на кухню к Фелисии.
– Где Юлия? – спросил он.
– Наверное, в своей комнате.
– Я так и думал. – Несколько минут Ян стоял, засунув руки в карманы, и смотрел в окно.
Наконец он кашлянул и сказал:
– Я все заметил, как только вошел. Ты, конечно, волнуешься…
– Да, – не оглядываясь, ответила она.
В Драммене Эрлинг не пересел на местный поезд, он вообще не вышел из вагона и купил у кондуктора билет до Осло. В Лиер он вернулся только через две недели. Тяжело поднялся по склону к своему дому. Чемодан был нелегкий. Внутри у Эрлинга все заледенело, и он с тупым удивлением увидел, что погода еще почти летняя. Поспешно, насколько ему позволяла владевшая им вялость, он разжег камин.
Стоя у огня, Эрлинг впитывал в себя тепло, ожидая, когда на плите закипит вода. Он сам себе казался призраком. Из зеркала на него смотрело посеревшее лицо, покрытое глубокими складками. Оно было жестким, Эрлинг все знал о демонах, с которыми ему предстояло встретиться. Хорошо, что он уже дома.
Это не было похоже на болезнь. Просто он был пуст. Зубы словно железные, желудок наполнен песком. Следовало бы поесть, но даже мысль о еде претила ему. Он бы выпил кофе, хотя знал, что у кофе будет противный привкус. Спать, спать! Эрлинг медленно подошел к кровати, взял одеяло и повесил его поближе к теплу. Потом так же медленно прошел в угол и открыл тайник. Вернулся к камину с бутылкой виски. Внутренний голос напомнил ему, чтобы он выключил плиту, не дожидаясь, пока закипит вода…
Выключив плиту, Эрлинг сел у камина. Он весь сжался и чувствовал себя мертвым. После большого бокала виски у него началась изжога, и он потащился к аптечке за содой. Пожар сразу погас, и Эрлинг налил себе второй бокал. Виски прошло в желудок, но не подействовало. Нервы были напряжены, словно его подстерегала опасность. Он знал, что алкоголь грозит ему кровоизлиянием в мозг, и испытывал странное удовольствие от необходимости обмануть его. Ему предстояло пройти по канату с шестом для равновесия. Пробалансировать мимо демонов. Что там происходит в углу возле его тайника? Или это в шкафу? Он взглянул туда и обомлел: в углу стояла табуретка. Раньше он ее там не видел. Кажется, ее там не было, когда он доставал бутылку? У него вообще не было такой табуретки. Конечно, это самая обычная табуретка, но откуда она там взялась?…
Он весь покрылся испариной и вдруг догадался, что эту табуретку ему привезла Фелисия, когда проезжала мимо. Напрасный труд. Не нужна ему никакая табуретка. В голове у него что-то кольнуло. Он медленно шел по улице, зная, что нельзя делать резких движений и поворачивать голову. Надо идти медленно и глядеть прямо перед собой. Впереди что-то возникло и повисло в воздухе, расстояние между ним и этим предметом все время оставалось одним и тем же, предмет был похож на старинный барометр. Эрлинг отчетливо видел черные деления. Сто черных делений. Он не мог бы описать тяжесть, которую ощущал во всем теле, словно его заполнили чем-то тяжелым, что тут же застыло. Боли ему это не причиняло, и он не сказал бы, что это было неприятное ощущение. Напротив, оно давало чувство удовлетворения, вроде того, какое испытывает человек, несущий на плече бревно и знающий, что это должно произвести на всех впечатление. Перед ним маячили деления барометра. Красный столбик медленно поднимался, приближаясь к сотне. Осталось всего несколько делений. Эрлинг внимательно следил за красным столбиком, без всякого страха он прочитал, что над верхним делением написано: Удар на почве алкоголя. Лучше идти еще медленней.
Столбик дрожал на самом верху. Quo vadis? – прошептал Эрлинг, не посмев задать этот вопрос по-норвежски. И вдруг столбик немного опустился, совсем незначительно, но все-таки он опустился до девяноста девяти. Сердце Эрлинга начало думать независимо от головы и прошептало ему, что ноша, пожалуй, слишком тяжела. Голова тоже была тяжелая, но она гордо балансировала на плечах. Даже как-то хвастливо – прекрасная чугунная голова. Он осторожно пересек тротуар и остановился у витрины – пусть люди думают, будто его интересуют выставленные в ней блестящие трубы, краны, зеленые ванны и четыре фаянсовых унитаза фирмы «Ниагара». Но смотрел он только на красный столбик. Эрлинг ничего не боялся, ему было любопытно и приятно, что он может на чем-то сосредоточить свое внимание. Как, интересно, называется этот прибор? Может, это и есть спиртомер? Сейчас он твердо показывал чуть меньше девяноста девяти.
Эрлинг медленно перешел к следующей витрине, тут были выставлены всевозможные ремни, хлысты для верховой езды, обувь ручной работы. Спиртомер неподвижно висел в воздухе над каким-то непонятным инструментом из кожи с двумя круглыми отверстиями, в которые было вставлено стекло. Может, это были очки для какого-нибудь очень большого животного, например, для буйвола? Теперь столбик снизился уже до девяноста семи. Он понижался, но очень медленно. В третьей витрине были выставлены лопаты, вилы, шланг для поливки с разбрызгивателем и прочие предметы, необходимые для ухода за цветами и овощами. Эрлинг обратил внимание на садовые ножницы с красными, как сурик, ручками. Столбик подбирался к девяноста четырем. Эрлинг подумал, что столбик должен опуститься до единицы или до нуля, чтобы состояние человека не вызывало ни у кого недовольства. Он пошел дальше и осторожно пересек улицу, направляясь к погребку, на котором было написано «Вино», открыл дверь, вошел внутрь и вдруг закричал, он все кричал и кричал, отказываясь видеть то, что открылось его глазам. Ноги его тут же увязли в какой-то глинистой массе, это бы еще ничего, но ему стало холодно. Вокруг валялись газеты, он прочитал: «Международный совет по делам церкви просит Билли Грэма посетить Женеву в середине июля, чтобы встреча глав правительств великих держав проходила на духовной основе. Билли Грэм выразил согласие принять на себя такую миссию».
Эрлинг сидел, вцепившись в стул, – нужно поспать, поспать, он выпил еще бокал, на лице у него застыло удивленное выражение. Это был коньяк. Неужели он?…
Перед ним стояла бутылка с коньяком, он вздохнул с облегчением, значит, он просто пьян, спиртное все-таки подействовало. Кажется, если бутылка вместе с ее содержимым вдруг превращается в другую бутылку с другим содержимым, это называется нетипичным опьянением? Патологическое опьянение. А как назвал бы это Густав – злоупотреблением алкоголем? Слоновьей болезнью? Холерой?
Эрлинг встряхнул бутылку, чтобы посмотреть, не изменится ли она. Бутылка не изменилась. Это был коньяк. Какая-то незнакомая марка. Эрлинг впервые видел такую этикетку. Очевидно, в коньяк была подмешана синильная кислота, это, конечно, дело рук Фелисии, надо бы позвонить в Венхауг и сказать, что все идет в соответствии с ее планом, а то она будет тревожиться. Очень мило с ее стороны, что она тревожится о нем. К тому же Юлия…
С трудом, но он все-таки позвонил в Венхауг. Поговорили о новом мотоцикле Яна. Потом он опять пил, понимая, что никуда не звонил.
Что-то звякнуло и послышался голос Фелисии, таким низким он был, только если она очень волновалась: Ты дома, Эрлинг?
Кто-то сзади схватил его. Он быстро обернулся, и серая тень скрылась под полом. Эрлинг задрожал.
Он недоверчиво оглядел комнату и ответил: Да, если тебя это интересует. Мне кажется, что я дома. Помоги мне найти себя, Фелисия. Я затопил камин, здесь было так холодно.
Он подумал и прибавил в пространство: И странно.
На табуретке сидел лысый карлик с длинными зубами и узким лицом. Глядя с презрением на Эрлинга, карлик многозначительно произнес: Педер П. Авгрюннсдал родился в Сёндре-Ланде 30 октября 1796 года и прожил всего несколько минут, потому что повивальная бабка перед тем выпила бутылку сливовой настойки. Его мать была бедная вдова.
Эрлинг пошевелил губами, но ничего не сказал. Карлик оглядел комнату и с важной улыбкой поднял глаза к потолку: Уле Грёттерюд из Рьюкана 27 марта 1931 года выпрыгнул из окна тюрьмы в Хёнефоссе и разбился насмерть. Вскрытие показало, что он потерял сознание, не долетев до земли.
Эрлинг понимал, что это великий норвежский историк Снорри Стурлусон пытается рассказать ему историю Норвегии. По лицу Эрлинга тек холодный пот, противно пахнувший чем-то тухлым. Снорри продолжал говорить, он не двигался, только губы слегка шевелились над длинными зубами, похожими на ножи и вилки: Ты пророчествовал от имени своего брата. Вы с ним поменялись местами, однако не бойся, Густав не хочет меняться с тобой обратно.
Эрлинг закричал, и маленький человечек исчез.
Вот кто рылся в моем шкафу, подумал Эрлинг. Он смял старую газету и вытер ею лицо, не думая, что от типографской краски станет похож на черта (именно на это и рассчитывал один из демонов, потому что через полчаса Эрлинг, увидев себя, с диким криком упал на колени перед зеркалом, подаренным ему Фелисией, тоже, конечно, не без злого умысла). Мысли прояснились. Никакой табуретки в углу больше не было. Он посмотрел на газету, там, где текст еще можно было разобрать, было написано о Билле Грэме как раз то, что он прочитал. Сегодня бог алкоголя был не горазд на выдумки, он ограничился тем, что напугал Эрлинга вполне обыденными образами.
Дверь открылась, но не в ту сторону, в какую она открывалась обычно, Эрлинг закричал. Это были ворота в ад, и они находились в его доме в Лиере…
Вот так открытие, подумал он, и подозрительно огляделся по сторонам, что-то возникло у него за спиной, он снова закричал, ему захотелось уйти отсюда, но идти было некуда, других мест больше не существовало. Ветер распахнул дверь, на этот раз она открылась, как нужно, и шестеро похоронщиков внесли гроб. Они обвязали Эрлинга веревкой и положили в гроб. Под голову ему подсунули что-то скользкое, холодное и живое, он закричал, но, оказывается, похоронщики просто хотели, чтобы он лежал повыше и мог наблюдать за ними. Они уселись за стол и начали есть принесенную с собою еду. Потом по очереди подкрепились из бутылки. Один завыл по-собачьи, и у него изо рта выпал кусок хлеба, но что-то в этом хлебе было подозрительное…
Неожиданно лица у похоронщиков стали как будто железные, и они хором завыли, это было почище сирены, возвещавшей воздушную тревогу. Кто-то отравил их, и теперь они выли от смертельного страха. Похоронщики не успели перед смертью развязать Эрлинга, они на четвереньках выползли за дверь, забыв о гробе. Кусок хлеба, выпавший изо рта у одного из них, вдруг зашевелился. Он подкатился к краю стола и упал на пол, это было что-то серое, и оно медленно поползло к гробу.
Эрлинг сидел на стуле. Его охватил панический ужас. Что из всего случившегося ему пригрезилось и что было на самом деле? Неужели теперь так будет всегда и он уже никогда не узнает, что бред, а что явь? Кусок хлеба дополз до того места, где раньше сидел карлик, это был сырой, липкий, грязный хлеб, пропитанный злобой и ненавистью, он с трудом подполз к старому секретеру, которого прежде в комнате не было, и распластался в лепешку, чтобы подползти под него, теперь из-под секретера на Эрлинга смотрел горящий глаз. Когда Эрлинг возвращался в явь или в то, что он, дрожа, принимал за явь в ожидании новых кошмаров, он думал, подчиняясь своей привычке внимательно наблюдать за любым явлением: я все вижу именно тогда, когда это происходит, также бывает и во сне. Сознание не принимает в этом участия, иначе оно могло бы все остановить. Нет, сейчас сознание – лишь зритель, который просто молчит, оно не может заявить о себе и сказать: Отойди от меня, Сатана. По лицу Эрлинга текли слезы, что-то желтое с шипением поднималось из щелей пола. Неужели никто не поможет мне? Я этого не выдержу…
Но в светлые мгновения, являвшиеся словно разрывы между тучами, он бранился и, точно эпилептик, скрежетал зубами. Он не желал никакой помощи, будь что будет, даже мысль о том, что он может сдаться, была ему ненавистна – лучше уж умереть, и Эрлинг снова начинал кричать.
По-настоящему я боялся в жизни только сумасшедших, думал Эрлинг, проводя рукой по липкому от пота лбу. Однажды ко мне пришел человек, он оказался сумасшедшим, это всем было известно, он хотел, чтобы я впустил его, стучал в дверь и смотрел на меня через стекло, человек из плоти и крови, знакомый, как все люди, он имел имя и жилище. Никогда больше я не испытывал столь безотчетного страха. Я боюсь сумасшедших, только их, и ничего больше.
Мечась, словно стрелка компаса, его мысли искали чего-нибудь утешительного, чем он мог бы заглушить страх перед возможным несчастьем, перед тем, что его мозг может вдруг заскользить и потерять управление, как автомобиль на скользкой дороге. Некоторое время Эрлинг цеплялся за воспоминание об одной ночи в Стокгольме, проведенной с молодой Верой Поулсен, теперь ее фамилия была Арндт, но доступ туда был запрещен, и он нашел другое светлое воспоминание. Была ранняя весна, наверное, середина апреля, он в сумерках сидел на берегу Гломмы, недалеко от Орнеса. Вечер был мягкий и светлый, от земли шел густой запах. Он ел принесенные с собой бутерброды и пил из термоса горячий кофе. У кофе был слабый металлический привкус. Потом он выпил немного виски и стал наслаждаться прекрасным вечером…
Но земля открыла пасть, он провалился в нее и оказался в какой-то стране, где светило обжигающе горячее солнце. Сейчас я умру, подумал Эрлинг. Однако у него в голове лишь что-то надломилось, и он потерял сознание, а может, заснул. Это все сон, прошептал он, вам не обмануть меня, скоро я приду в себя, просто я все это вижу во сне. Он чуть не заплакал от благодарности, чувствуя, что его замученный мозг получил передышку. Сохраняя присутствие духа, он начал командовать своими людьми, надеясь, что они не заметят, что он не совсем нормальный. Его люди никак не могли найти подходящих веревок, чтобы связать полдюжины девушек, которых он собирался продать на невольничьем рынке. У него была одна крепкая длинная веревка, но резать ее было жалко. Ведь следовало по возможности снижать расходы. Последняя партия девушек оказалась неудачной, чистый обман, он этого так не оставит. Какая наглость – присылать опытному торговцу такой товар! Он сразу увидел, что этим красивым созданиям недостает главного. Они были как мертвые, в них не было огонька, ни спереди, ни сзади. Ладно, свяжите их всех одной веревкой, сердито сказал он.
Девушки зароптали, и он хлестнул их кнутом, они умолкли, хотя веревка, которой они были связаны, тоже причиняла им боль.
На рынке он немного растерялся, несмотря на то что был опытным работорговцем. Поставьте их на помост всех вместе, приказал он, может, они произведут впечатление своим количеством. Они будут выглядеть более внушительно, особенно если попадется близорукий покупатель. Полюбуйтесь на этих дурашек! Повернитесь к публике задницами! – гремел он.
Он внимательно посмотрел на одну из девушек. Достаточно увидеть одну морковку из шести, чтобы понять, что все они одинаковы. Как тебя зовут?
Она засмеялась и сказала, что ее зовут Виктория.
Как будто это тебе поможет, проворчал он. Поворачивайся!
Она была недурна, впрочем, как и все остальные. Это было сложное произведение. Безупречный контур, но без изюминки. Он пожал плечами и, раздраженно пощелкивая кнутом, начал перечислять достоинства своего товара: неплохие груди и ляжки, пышные плечи и бедра, сзади все в норме. Спина прямая. С какой стороны ни глянь, одинаково скучно. Руки и ноги гладкие, соответствуют дешевому стандарту. Лица, которым они пытаются придать приятное выражение, обрамлены светлыми, ничем не примечательными волосами, бездарно зачесанными наверх. Эти дурочки считают, будто прическа может спасти их. Да-а, подумал он рассеянно, нет смысла продавать их на откорм (как раз недавно он сбыл партию молочных поросят), они хороши и так и предназначены совсем для другого, едва ли мне дадут за них намного больше, если они прибавят в весе. А тут еще налоги и другие расходы…
Он сел на пустой ящик и мрачно оглядел свою коллекцию. Если бы можно было продать их, так и не повернув лицом к покупателю! Но ведь покупатель всегда норовит потрогать и повертеть вещь, чтобы проверить, нет ли у нее изъянов. От него ничего не укроется, а в таком деле нельзя повесить табличку «Руками не трогать!».
Он снова сосредоточил свое внимание на морковке, стоявшей с правого края, той, у которой был псевдоним Виктория. Вот и работай с таким товаром! Конечно, можно дать ей другое имя, но что толку – они сами выбирают себе имена; у них есть единственное право – самим выбирать себе имена – и слишком мало ума, чтобы этим правом не пользоваться. Он с грустью вспомнил, как однажды в молодости один старый торговец уверил его, будто ночью все кошки серы. Но он быстро сообразил, что это заблуждение, и освободился от него.
Не считая некоторых мелочей, эти шестеро были очень похожи друг на друга, а для таких девушек это всегда важно. Он опять принялся придирчиво разглядывать Викторию. Да, оболочка была хороша, но ведь в ней ничего не содержалось, и забывать об этом не следовало, в этом мешке вообще не было никакого кота. Почему никто не изобрел средства, которое придавало бы немного блеска подпорченному товару, некую ауру, движение. Фу, кажется, от стыда он впал в лирику, словно начитался Корана. Девушка пыталась смотреть на него так же, как все остальные. Он не понимал современной моды, следуя которой все девушки выглядели на одно лицо, такая рационализация их портила. В дни его молодости было иначе. Теперь девушки все, как одна, обзавелись запасными деталями из высохшего ребра Адама, однако они были лишены дивного аромата райских плодов. Это были, так сказать, девушки без топселя (в молодости он был знатным мореходом) и даже без намека на приятный вечерний бриз.
Подходили люди и внимательно осматривали товар. Они не могли указать на какой-нибудь конкретный изъян, но все равно поворачивались и уходили, ничего не купив. После полудня Эрлинг поднялся на помост к девушкам и отвязал ярлыки с ценой, свисавшие с их талий на длинных шнурках. Надо придумать что-то другое. Покупатели часто поднимались на помост и поднимали ярлыки, чтобы убедиться, что под ними не скрываются родимые пятна. Он скинул цену наполовину и повесил объявление о распродаже. Потом опять уселся на пустой ящик с бутылкой пива в руке. Торговля все равно шла вяло, ему пришлось еще раз сбавить цену, кормить этих девушек ему было нечем, а морить их голодом он не мог – глаза у них становились грустными, и даже розги не могли заставить их выглядеть веселее. В конце концов он сбыл по дешевке пять девушек каким-то конторщикам, и у него осталась только Виктория. Дрожа от сознания собственной неполноценности, она покрылась гусиной кожей. Наступил вечер. Торговцы по соседству закрывали свои лавочки на ночь, и люди расходились по домам, чтобы устроить взбучку своим женам, вот тогда-то на площади появился Стейнгрим Хаген и по бросовой цене приобрел Викторию с веревкой в придачу. Он думал, что ей может взбрести в голову убежать от него.
Эрлинг поднял руку, чтобы пригладить бороду, но бороды у него не оказалось, в стене приоткрылся отдушник, и оттуда высунулась рука с длинными худыми пальцами. Она пошарила по стене и, ничего не найдя, снова скрылась. По телефону позвонил Навуходоносор. Вошел какой-то испанец, присел на корточки возле лежавшего на полу камня и начал точить об него нож, не отрывая взгляда от Эрлинга. Такие же глаза были у Фелисии, когда она беззвучно приближалась к нему в своих туфлях без каблуков. Эрлинг опять закричал. На кровати из-под одеяла высунулась чья-то голая нога. Эрлингу захотелось спрятаться за тем одеялом, что висело на спинке стула, но он не мог пошевелиться и только кричал…
Он плакал от беспомощности, глядя, как Стейнгрим влезает в окно в Новом Венхауге. Сам он стоял во дворе и был совершенно бессилен. Стейнгрим держал в зубах нож, но Фелисия в доме только смеялась. Потом он увидел, что на столе стоит бутылка виски, и попытался сообразить, успеет ли он добежать до кровати прежде, чем случится что-нибудь еще. Он взял бутылку, лег и, словно ночной всадник, пустился в путь, который длился трое долгих, кровоточащих, отмеренных ему суток.







