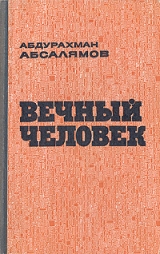
Текст книги "Вечный человек"
Автор книги: Абдурахман Абсалямов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
«Не передумал?»
Багрово-красное солнце медленно скатывалось за гору Эттерсберг. Его кровавые лучи разливались по всему лагерю, создавая гнетущее, тоскливо-безвыходное настроение. Особенно зловеще выглядел дуб Гёте, от матушки до самых корней залитый красным светом. Казалось, он исходил кровавыми слезами, тлел, точно громадный уголь в печи.
– У немецкого народа, доброго немецкого народа есть пророческая легенда, связанная с этим дубом, – задумчиво говорил учитель Ганс, обращаясь к сидевшему рядом Назимову. Ганс еще раз окинул взглядом древнее дерево, его могучий, в четыре обхвата ствол. – Это очень давняя легенда. Ей не меньше шестисот лет. Говорят, пока живет дуб Гете, будет существовать и немецкое государство. Если же дерево рухнет, не от старости, а по какой-нибудь другой причине, то и Германское государство долго не протянет… – Ганс, склонив голову на грудь, задумался. Его острый костлявый подбородок дрожал, едва не касаясь красного треугольника на груди. – Вы меня простите, Борис, – глухо продолжал он, – глядя на этот дуб, я невольно думаю о своей любимой Германии. Да, не удивляйтесь, у меня есть своя Германия. Честная, добрая. О, проклятые нацисты! Они дошли до самой позорной низости: расстреливали у этого священного для нас дуба узников разных национальностей. Можно потерять рассудок и в сумасшествии сделаться человеконенавистником, но так опозорить свой народ перед всем человечеством, заклеймить его таким несмываемым пятном… Нет, это невозможно постигнуть! И такое падение не прощается! – Ганс уткнулся лицом в ладони. – Ужасные преступления – дело рук нацистов, ублюдков, но не настоящих сынов немецкого народа! И знаете, чего я боюсь?.. Вдруг нас, настоящих немцев, могут спутать с этой сворой… Вон, – он показал исхудавшей рукой на дуб, – старое дерево не вынесло позора и уже начало засыхать. Его ствол изрешечен окровавленными пулями, я видел эти раны своими глазами, ощупывал их. Ведь это, Борис, если хотите знать, изранено многострадальное тело самой Германии… Я понимаю, вы должны ненавидеть нас. И вы правы в своей ненависти. Но мы, подлинные сыны Германии… мы не хотим… не хотим… чтобы ваши проклятия падали и на наши головы. Понимаете это?
– Успокойтесь, Ганс! – Назимов обнял его за плечи. – Мы хорошо понимаем, что существует две Германии. И мы никогда не смешаем нацистов с немецким народом. Ненавидя нацистов, мы желаем немецкому народу подлинной свободы и счастья!
– Как я благодарен вам за эти слова! – Из глаз учителя брызнули слезы. – Будущее Германии – в дружбе с советским народом. Если я выйду из этого ада живым, то всю оставшуюся жизнь посвящу благородному укреплению этой дружбы.
– Вы и здесь можете заниматься этим делом, – тихо сказал Назимов. – Здесь особенно нужна правда людям.
– Я это делаю по мере своих сил. Мимо них прошел, низко согнувшись, какой-то заключенный. Остановившись неподалеку, он прикуривал огрызок сигареты, в то же время прислушивался к разговору друзей. На груди у него – зеленый винкель уголовника.
– «Муха», – предостерег Назимов.
– Да, здесь много «мух», – понял Ганс. – На чем я остановился? А-а, так вот… Моего брата начали изводить головные боли. Обращался к врачам, те говорят, что все в порядке. «Что понимают терапевты, пойду-ка я к хирургу», решил брат. Хирург исследовал его голову и заявил, что требуется операция. Брат согласился. Через три дня он вернулся домой. От болей и следа не осталось… – Ганс краем глаза взглянул на уголовника и, убедившись, что тот прошел дальше, замолчал.
– Продолжайте, – попросил Назимов.
– Так ведь это же анекдот. Я не люблю анекдотов… Так, на всякий случай запомнил парочку, – объяснил Ганс.
– Мне ведь они тоже могут пригодиться. Рассказывайте, чем кончилось.
– Да разве вы никогда не слышали? Немецкие политзаключенные часто рассказывают эту побасенку. Конец таков: бывший больной живет припеваючи, чувствует себя превосходно, голова больше не болит. Но однажды его встречает на улице хирург, делавший операцию. «Прошу прощения, – говорит он. – Я должен сообщить вам об очень неприятном и прискорбном случае. Из-за спешки при оперировании мы позабыли вложить в ваш череп мозги. Если бы вы зашли завтра, мы бы исправили эту ошибку». – «Благодарю вас, – отвечает брат, – для меня мозги теперь лишняя обуза…» – Ганс оглянулся и, прикрыв рукой рот, засмеялся: – «Я уже вступил в национал-социалистскую партию», – сказал мой брат.
– Злой анекдотик! – расхохотался Назимов.
– Да, да! Вот такие безмозглые твари и привели Германию к катастрофе. О, проклятые!
На огромной площади, залитой красным светом уходящего солнца, перед воротами комендатуры несколько узников понуро толкали из конца в конец тяжелый железный каток. Они день за днем утюжат каменную мостовую, и без того ровно обшарканную десятками тысяч деревянных башмаков, в которые обуты заключенные. Бессмысленная, бесконечная работа. Но если узник хоть на минуту оставит это постылое занятие, он нарушит орднунг – лагерный порядок – и рискует получить пулю от шарфюрера. Очень часто так и случается: утром каток начинают толкать семь-восемь узников, а к вечеру в живых остаются трое или четверо. Они все равно должны толкать каток до конца смены, а утром начинать все снова.
Назимов, не в силах больше смотреть на несчастных каторжников, сказал в раздумье:
– Скоро кончится карантин. Куда-то нас пошлют?
Карантинников с каждым днем все больше интересовали и тревожили одни и те же вопросы: в какую команду каждого зачислят, что заставят делать: пошлют ли на каменоломню, или на земляные работы, на завод, или – выращивать овощи? Может, запрягут в фурколонну, а то заставят толкать каток? И в группах и один на один заключенные только и говорили об этом.
Советских людей отправляли на самые тяжелые работы. Назимов совсем не надеялся, что ему достанется работа полегче, тем более – он флюгпункт.
Однако сейчас, разговаривая с Гансом, Назимов интересовался не работой. Он уже знал, что хотя Ганс и не коммунист, он – видный антифапжст. От Баки не ускользнуло, с каким большим уважением относятся к учителю немецкие политзаключенные – они приходили к нему и из Большого лагеря. Баки надеялся, что в будущем ему удастся через Ганса связаться с немецкими подпольщиками.
– Я хочу, чтобы меня скорее перевели в Большой лагерь, – продолжал Ганс. – Там люди трудятся. Я очень стосковался по труду, Борис. Вы, наверное, понимаете, как тяжело жить, ничего не делая. Это ужасно! Без дела можно сойти с ума… Когда я сидел в карцере, я был близок к этому. Целыми днями и неделями занимаешься одним и тем же: пять шагов вперед, пять шагов назад… Это бесконечно мучительно!
– Вон – толкают каток… это тоже работа считается, – заметил Назимов с усмешкой и, смягчив тон, добавил: – Вы еще очень слабы.
– Я надеюсь получить работу по силе.
– А разве это возможно? – быстро спросил Назимов.
На истощенном лице немца не шевельнулся ни один мускул.
– Надеяться никому не запрещено, – бесстрастно сказал он.
Боясь рассердить учителя, Назимов не стал надоедать новыми вопросами.
Солнце скатилось за гору Эттерсберг. Сразу потемнело, стало холодно.
Ганс зябко поежился.
– Кости быстро застывают, – сказал он после небольшой паузы. – Пойду-ка я в барак, Борис.
Он ушел медленной своей походкой, одной рукой держась за поясницу. А Назимов еще долго сидел один и думал, думал. Почему до сих пор не дают знать о себе те люди, о которых говорил Йозеф? Кто они? Где они?
В стороне гулко громыхнул выстрел. Должно быть, пристрелили еще одного из тех, кто толкал каток. Утром Йозеф приказал Назимову подмести пол в бараке. Взяв ведро, тряпку, метлу, Назимов принялся за работу. Штубендинст наблюдал за ним несколько минут, покрикивая:
– Не спи на ходу!" Быстрее пошевеливайся! Подмети хорошенько у меня в штубе!
Назимов молча дошел за шкаф, принялся мокрой тряпкой стирать пыль со стола, с койки. Вошел Йозеф.
– Ты что-то очень вяло работаешь, – заметил он Назимову, но уже другим, спокойным голосом. – Может, нездоров?
– В ревир ложиться не собираюсь, – ответил Баки и метнул взгляд на штубендинст а.
Йозеф же, словно не замечая этого взгляда, спросил:
– Борис, ты помнишь тот наш разговор? Назимов молча кивнул, давая понять, что помнит.
– А не раздумал? – настойчиво спросил Йозеф.
– Не имею, привычки передумывать, – самолюбиво ответил Назимов.
Ему хотелось что-то сказать еще, но старик приложил палец к губам. Все, что требовалось сказать на языке подпольщиков, уже было сказано. Сейчас подробности не нужны.
«Мы посоветовались…»
Баки еще многого не знал и не понимал. Он не представлял по-настоящему, насколько сложен и ответствен ввод нового человека в сеть глубоко законспирированной лагерной подпольной организации и чем рискует эта организация в случае проникновения в ее ряды слабовольного, неустойчивого человека, не говоря уже о предателе. Ведь каждую минуту, каждый час над головой подпольщика витает мучительная смерть, и если в ту минуту, когда требуется железная воля и исключительная выдержка, подпольщик дрогнет, смалодушничает хоть на мгновенье, тогда – все погибло!
Назимов уже был знаком с нравами гестаповской тюрьмы, но если бы он увидел, что творится в каменных бункерах Бухенвальда по ночам – эсэсовцы уже не первые сутки остервенело искали организацию, хватали и допрашивали подозреваемых лагерников, – он, пожалуй, поседел бы за один час. А организации известны были все происки, ухищрения и зверства лагерного начальства, поэтому она вовлекала в свои ряды только тех, кто не только на глазах товарищей, но и наедине, подвергнутый невероятным пыткам, готов был молчать до последнего вздоха. На это способен не каждый человек.
Назимов с группой узников убирал вокруг лагеря, а сам все старался понять, что означал вопрос Йозефа. Ведь после согласия Баки штубендинст сказал, что, когда понадобится, Назимова позовут и прикажут. И вдруг – опять спрашивает: не передумал ли? Да что он, Баки – Вечный человек, трус, что ли, какой-нибудь, чтобы отступать от своих слов.
Из-за угла другого барака вышел узник с консервной банкой и, испуганно озираясь по сторонам, побрел к помойной яме.
Назимов содрогнулся. Вот до чего доводит голод людей. Ему хотелось кричать, топать в бессильной ярости ногами, но вместо этого он с силой вышвырнул из тачки лопату песку.
Он вернулся в блок усталый, раздраженный. Тяжело опустился на скамью, вытер ладонью потный лоб. Во всем теле была слабость; голову ломило, в висках стучало, как от угара, глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Хотелось только одного – повалиться и заснуть.
Его охватила апатия, безразличие ко всему. В бараке много всяких бед: кого-то до полусметри избили эсэсовцы, кого-то травили собаками. Пострадавшие валяются на полу, стонут от боли и страха. Но сейчас ничто не трогало Назимова. Будто все это происходило не здесь, а где-то далеко, и не наяву, а во сне.
Тупыми, бессмысленными глазами посмотрел он на свои высохшие руки в царапинах и ссадинах. Перевел взгляд на ноги. Они пока не распухли, как у других. Но по ночам так ноют, что нет никакого терпения. Когда боль становится невыносимой, он встает и ходит.
Он забылся в дремоте и не заметил торопливо подошедшего Задонова.
– Борис! – тормошил Задонов товарища. – Борис, ты чего дрыхнешь? Весь блок гудит, как при по жаре…
– Ну и пусть гудит, – бормотал Назимов, не открывая глаз.
Николай в недоумении замолчал, потом начал трясти за плечо еще сильнее:
– Проснись, говорю!
Назимов открыл мутные, потухшие, точно остекленевшие глаза.
– Ты что, опять заболел? – встревожился Задонов.
– Нет, просто устал. Тачка была очень тяжелая, – ответил Назимов. Широко зевнув, он отвернулся к стене и опять закрыл глаза.
Николай взял его руки. Ладони были холодные и влажные. Пульс едва прощупывался.
Только спустя полчаса Назимов немного отдышался и открыл глаза. Теперь его взгляд был более осмысленным.
– Фу, совсем было раскис… – он виновато улыбнулся. – Что ты мне говорил?
– Наконец-то очухался! – облегченно вздохнул Николай. – Перепугал насмерть… Зачем ты так надрывался с тачкой? Здесь не отцу родному помогаем, можно не стараться. Потихоньку да помаленьку, вернее будет.
Лозунг «помаленьку», брошенный первыми русскими военнопленными, давно стал неписаным законом для всех работавших узников Бухенвальда. Чехи и поляки, французы и итальянцы – заключенные всех национальностей частенько употребляли в разговоре это «помаленьку». Среди вновь прибывших крылатое словцо тоже было в ходу.
– Русские словечки, Николай, я не забыл, – слабо улыбнулся Назимов. Он уже окончательно пришел в себя. – Надрываться не собираюсь… Ты вот сказал тут: «Гудят, как на пожаре». Кто гудит?
– Вон послушай, – кивнул Задонов.
В глубине барака, собравшись группами, о чем-то возбужденно разговаривали, спорили французы, чехи, поляки, югославы – каждая группа на своем языке.
– Ничего не понимаю, – покачал головой Назимов.
– Чего тут не понимать! – рассердился Задонов. – Комендант готовит транспортные команды. Часть людей куда-то отправляют. Может, на погибель… Одни предлагают: во что бы то ни стало выбираться отсюда. Другие говорят – бесполезно: везде смерть. Может, посоветуемся с Йозефом?..
Они так и не пришли ни к какому решению.
В сумерки, пока в бараке еще не зажигался огонь, появился Владимир – он снова стал захаживать сюда. Поставил перед Назимовым котелок мутной баланды, которую принес с собой. За последнее время в Малом лагере, у карантинников, опять урезали и без того скудный паек. Должно быть, кто-то распорядился, чтобы Владимир поддерживал еще не совсем окрепшего Назимова.
– Больше нечем угощать, не обессудьте, – говорил Владимир, поблескивая в полутьме глазами.
Дождавшись, когда котелок был опорожнен, он предложил Задонову:
– Может, споем, Николай Иванович? Чего унывать. У меня инструмент есть, – он достал из кармана губную гармошку.
– Оставь! – отмахнулся Задонов. – Разве это гармонь? Свистулька, а не гармошка.
Но стоило Владимиру наиграть «Широка страна моя…», сумрачное лицо Задонова просветлело – это была любимая его песня. Николай восхищенно оттопырил губы, пробормотал:
– Смотри, что делает, чертов сын! Изо всех углов барака на музыку потянулись люди».
– Если кто хочет поиграть, прошу, – Владимир протянул гармошку.
– А можно? – несмело спросил низенький, до последней степени исхудавший лагерник, запавшие глаза его вспыхнули радостным огнем.
– Пожалуйста, играйте.
Заключенный с блаженной улыбкой вертел в руках нехитрый инструмент, словно не веря своим глазам, потом медленно поднес к губам и заиграл. Он был мастер своего дела. Многих прошибла слеза. А музыкант уже забыл об окружающей суровой обстановке – играл, закрыв глаза, весь отдавшись во власть звуков. Будто очнувшись от сладкого сна, оторвал гармошку от губ, протянул хозяину.
– А что, если спеть? – предложил Владимир, не торопясь брать гармошку. – Кто-нибудь слышал марш бухенвальдцев? И мотив и слова сложили сами узники. Попробуем?..
Товарищ, мой друг, заключенный в неволю, Поверь, наши дни впереди!.. – начал Владимир грудным мягким голосом. Гармонист, быстро уловив мотив, подладился к нему.
Большинство недавно прибывших заключенных впервые слышали эту песню. Все сидели молча, затаив дыхание. Каждый слышал в песне самые дорогие для себя слова – о родине, дружбе, верности долгу…
…Сумеем же наши сердца молодые. Сквозь голод и смерть пронести!
В голосе Владимира было много чувства. Некоторые начали подпевать. Присоединялись всё новые голоса. Кто не знал русского языка, без слов подпевал хору.
Когда песня кончилась, узники пожимали руку Владимиру:
– Спасибо, друг! На сердце легче стало! Перед уходом Владимир дал знак Назимову. Они вышли в коридор.
– Мы посоветовались относительно вас и Задонова, – шептал Владимир. – Вас и еще несколько человек русских переведут в сорок второй блок. До сих пор там не было ни одного русского – только немецкие политзаключенные. И сейчас там большинство немцев. Но есть и французы, чехи, югославы, поляки, бельгийцы… Короче говоря, сорок второй – это интернациональный блок. Старостой там – немец Отто. Вы, наверное, видели его, он заглядывает сюда…
– Долговязый такой, худущий?
– Да, да, он самый. Его не нужно опасаться. Свой человек.
Владимир пожал Назимову руку и бесшумно, словно тень, растаял в темноте.
Сорок второй блок
Когда настала минута прощания, Назимову захотелось от всей души поблагодарить Йозефа, сказать, что он никогда не забудет его; захотелось обнять и расцеловать этого человека. Однако глаза Йозефа смотрели холодно. Он стоял, заложив руки за спину, всем своим видом показывая, что не допустит никаких проявлений чувств.
Сорок второй блок находился в центре Большого лагеря. Это было двухэтажное, довольно солидное каменное здание. На первом этаже слева от входа в блок находился сектор «А», справа сектор «Б». На втором этаже размещались секторы «С» и «Д». В каждом секторе – два помещения: в передней части – столовая, в задней – спальня, заполненная трехъярусными нарами. В спальню можно было заходить только вечером, предварительно сняв верхнюю одежду и обувь.
Староста Отто поместил Назимова и Задонова внизу, в секторе «А», остальных переселенных узников повел наверх. Вскоре он вернулся и познакомил новичков с начальством сектора: штубендинстами и лейзеконтролем, иначе говоря – с санитаром-уборщиком. Отто внушал, что начальников нужно уважать, не противоречить, выполнять все их приказания.
– В этом секторе нет русских, кроме вас. Наверху есть несколько ваших соотечественников. Но я решил, что здесь вам будет все же удобнее.
Назимов и Задонов, слушая, кивали в знак того, что понимают и благодарят.
– За обедом ваши места вот здесь, – Отто показал на два стула в разных концах длинного стола. – Чужие стулья занимать не разрешается. Вечером, перед сном аккуратно сложите свои вещи на эти стулья номерками вверх. В спальне тоже нужно ложиться только на свои места.
Отто говорил обо всем так, словно на свете не было ничего важнее. Вся его долговязая, сухая, как жердь, фигура, строгое, испитое лицо с тонким носом и выпуклым лбом как будто подчеркивали то же самое. Только глаза, серые и мягкие, говорили, что душа у этого человека не такая уж каменная, как могло показаться при первом впечатлении.
– Волосы?.. – Отто попросил их снять береты. – О-о, оба острижены наголо? Это отлично. Чистота – это здоровье.
Отто резко повернулся и с бесстрастным видом, прямой походкой направился к двери. За ним последовали один из штубендинстов и санитар. А другой штубендинст продолжал наставлять новичков:
– До возвращения людей с работы приберите территорию блока. У нас нельзя бездельничать. Если появится блокфюрер, снимите головные уборы и доложите, чем заняты. Но… эти ваши… – он показал на круглые знаки флюгпункта у обоих новичков и покачал головой. – Ладно… занимайтесь делом.
Он говорил по-русски с сильным немецким акцентом, но понять его можно было.
Взяв метлы, Назимов и Задонов вышли из здания.
– Ну, что скажешь? – спросил Николай. – Что за гусь этот штубендинст? И где он научился балакать по-русски.
– Поживем – узнаем.
– Среди своих было бы лучше. Здесь, пожалуй, не с кем будет словом перемолвиться. Тебе-то хорошо, ты немецкий знаешь, а я – с пятого на десятое.
– Ничего. Если в мыслях будет единство, плохое знание языка не помеха. Отто не зря сказал, что нам здесь будет лучше, – напомнил Назимов. – Значит, у него есть свои соображения. Ведь Отто – надежный человек. Да и Ганс тоже с нами оказался.
Огромный лагерь был в этот утренний час пустынным. Лишь изредка на дорожках между бараками появлялись фигуры в полосатых пижамах или черных куртках. Остальные заключенные были на работе.
День выдался солнечным. Осенний холод не сильно давал себя знать. Назимову стало даже жарко. Стоило ему помахать метлой, разметая дорожки перед бараком, как все тело покрылось испариной. Слабость была необычайная. Это тревожило Баки: «Что буду делать, если завтра же пошлют на каменоломню или на другую тяжелую работу? Я, пожалуй, недолго протяну…»
Назимов помрачнел, присел на тачку, нагруженную мусором. На секунду прикрыл глаза ладонью. С безоблачного синего неба доносилось курлыканье журавлей. Баки засмотрелся на птиц, вздохнул: – Вот бы нам такие крылья!.. В восемь вечера уже стемнело. Возвращались с работы заключенные. Это было потрясающее зрелище. От центральных ворот, через огромную площадь, точно сонмище призраков, едва волоча ноги, бессильно уронив головы, плелись тысяча людей, растекаясь по улочкам и переулкам между бараками. На лицах играли красные отблески пламени крематория и света прожекторов. Казалось, открылись ворота подземного царства, и призраки умерших давным-давно людей, встав из могил, возвращались в мир, еще не успев приобрести подлинный человеческий облик. Лица – изможденные, серые или желтоватые, взгляды недобрые. Деревянные башмаки шаркают по камням, отчего возникает какой-то странный шуршащий звук, холодящий сердце.
Над этой угрюмой толпой висит черное небо. Луны и звезд не видно, они попрятались за облака, словно страшась этой горестной картины.
Сначала никто в блоке не обратил внимания на нескольких новичков. Среди трех-четырех сотен людей кому какое дело до незнакомцев в таком же, как у всех, шутовском полосатом одеянии. Немцы, французы, голландцы, бельгийцы, чехи переговаривались между собой, шли мимо них, разбредались по своим углам.
Назимов с Задоновым даже растерялись, оказавшись среди этой равнодушной, незнакомой толпы. Все была чужими., далекими, говорили на непонятных языках. Но вот около них остановился смуглолицый парень. Засунув руки в карманы брюк и насвистывая какую-то удивительно знакомую Задонову мелодию, он принялся разглядывать их с ног до головы. Многозначительно приподнял правую бровь и еще задорнее стал свистать. «Эге, да ведь этот чертенок высвистывает арию герцога из «Риголетто», – сообразил Николаши.
Он сосредоточенно вслушался, потом и сам стал насвистывать.
– О-л-я.! – оживленно вскрикнул парень и что-то затараторил, кажется, по-французски.
Назимов и Задонов ничего не поняли. Они только пожимали плечами. Француз улыбнулся, пошел, не переставая; свистать и оглядываться через плечо.
Вскоре он вернулся с каким-то стариком, зябко кутавшимся в старенькое одеяло.
– Русские… флюгпункты, – забормотал старик по-немецки, разглядывая из-под ладони проклятые метки на куртках новичков. – Ай-яй-яй! – покачал он головой. Неожиданно протянул руку, сказал по-русски: – Здравствуйте!
Должно быть, все его познания в русском языке тем и ограничивались. Дальше он перешел на немецкий. Назимов не замедлил отозваться.
– О-о, вы знаете немецкий! – обрадовался старик и еще раз пожал руку Назимову. – Будем знакомы. Я Пьер де Мюрвиль. А этого парня зовут Жаком. Хороший малый. Рыбак. А вас как звать?.. Ага, Борис и Николай? Хорошие имена. Вы коммунисты, конечно? Русские – все коммунисты. Не так ли? Я ведь капиталист. Во Франции я владел авторемонтными мастерскими. Но я не хотел, чтобы мои мастерские работали на нацистов. Я патриот Франции. Я приказал разрушить все станки. Из-за этого получил удовольствие находиться в Бухенвальде. Мне семьдесят лет… Я многое повидал. Мне нравятся русские, хотя они и коммунисты. Они не продают свою родину. Я очень рад познакомиться с вами, – говорил он.
Незаметно для себя они оказались в плотном кольце слушателей. Обитатели барака с интересом, а некоторые и с откровенным восхищением разглядывали Назимова и Задонова. Перед ними стояли неустрашимые, свободолюбивые ребята – флюгпункты.
Но вот выкликнули номер Назимова. Это звал староста блока. Отто один сидел в своей каморке. При появлении Назимова он поднял голову, медленно заговорил:
– Борис, вас необходимо определить на работу. Вы флюгпункт и потому должны использоваться в каменоломнях, на повозке камней, на дорожном строительстве. Я не имею права посылать вас на другие, более легкие работы. – Он опять свесил голову, помолчал. – Все же я решил направить вас в сапожную мастерскую… сапожником. Неважно, что вы никогда не занимались этим ремеслом. Научитесь. Но не забудьте следующее: если нацисты узнают, что вы, флюгпункт, попали в сапожную, – капут. В случае появления нацистов в мастерской немедля прячьтесь куда попало – в уборную, в подвал… и не высовывайте оттуда носа, пока не минует опасность. Вы поняли меня?
– Да, понял!
– Я уже говорил с фюрарбайтером мастерской, – продолжал Отто. – Он предупрежден о вас… Его фамилия Бруно. Он поляк. Это верный человек. У него есть специальные наблюдатели. Они заранее предупредят вас в случае опасности. Но и сами не зевайте. Ведь может случиться всякое. Недаром… – Отто поднял руку и многозначительно взглянул на небо, – недаром господь бог сказал: «Я берегу того, кто сам бережет себя». Еще раз спрашиваю: вы все поняли? Лучше переспросить лишний раз, чем погубить себя.
В эти последние минуты Назимов успел мысленно оглянуться на тот путь, который уже прошел в лагере за недолгое пребывание в нем. Вспомнился и писарь в лагерной канцелярии, и штубендинст чех Йозеф, и Черкасов, который появился и исчез точно призрак, и Владимир… А сейчас вот перед ним сидит Отто, где-то находится пока еще не знакомый Бруно… Жить можно. Жить надо. И он бодрым голосом повторил:
– Все понял!








