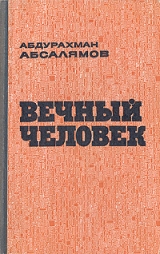
Текст книги "Вечный человек"
Автор книги: Абдурахман Абсалямов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
«Каждому – свое»
Бронзовая надпись на решетчатых железных воротах Бухенвальда гласила по-немецки: «Каждому – свое». Назимов усмехнулся: «Не могли придумать ничего глупее и подлее. Кара! А за что? За какую тяжкую вину каждому из нас уготованы мучения? За то, что мы любим свою родину? За то, что не хотим изменить ей, превратиться в рабов фашизма? Так ведь за это не карают, а прославляют».
Смутные надежды в душе его опять сменились тревогой. Чтобы отвлечься от тягостного настроения и забыть о времени, которое для истомленных узников тянулось слишком медленно, он оглядывался вокруг, стараясь ни о чем не думать, только смотреть. По обе стороны от ворот вытянулись два одноэтажных здания. Вернее, это было одно длинное здание, посредине которого оставлен проезд, замкнутый воротами. Над ними, вместо арки, возвышалась двухэтажная надстройка с башенкой и балконом. На башенке – электрические часы. По правую сторону от ворот разместилась канцелярия СС, по левую – бункеры, каменные карцеры-одиночки. В них неделями и месяцами обреченные люди ожидали смерти.
За всю свою сознательную жизнь Назимов привык сам распоряжаться своей судьбой, действовать только по велению своего разума и сердца. Ему было невыносимо тяжело и оскорбительно подчиняться слепому року, смиренно, как животное на скотобойне, ждать смерти. И все же нужно терпеть! Терпеть ради завтрашнего дня. А завтра?.. Завтра могут повеять новые ветры!
Лагерные ворота все еще не открывались. В канцелярии тянулась нескончаемая волокита: пересылочные списки не сходились с наличием узников, номера людей перепутались, иногда трудно было определить, какой номер принадлежал живому, какой мертвому.
Назимов не знал о причинах проволочки, но ждать ему надоело и он продолжал скучно водить глазами из стороны в сторону.
В лагерные ворота вделано небольшое караульное помещение. На мостках ближайшей вышки ходил часовой, изредка бросая на вновь прибывших косой взгляд. На мощных бетонных столбах проволочного забора ясно выделялись белые изоляторы. «По проволоке пущен ток», – безошибочно заключил Назимов.
Неподалеку от ворот, на пересечении дорог, стоят столбы с дощатыми стрелками. На одной написано: «Штайнбрух» (Каменоломня); на другой: «Густлов-верке» (Завод); на третьей – какое-то непонятное: «ДАВ».
«Нас, конечно, на каменоломню пошлют», – решил Назимов, и перед его глазами возникли огромные каменные глыбы, которые он видел у обочин дороги, когда ехали сюда.
Наконец из канцелярии вышли эсэсовцы, заключенных пересчитали, старший охранник отдал рапорт о подсчете.
Двое сопровождающих стали по обеим сторонам ворот и, снова пересчитывая узников, начали впускать их по одному на территорию лагеря. «Не забудь этот день, – сказал себе Назимов. – 10 октября 1943 года в двенадцать часов ты вступил за ворота лагеря Бухенвальд, чтобы получить «свое», как написано на воротах».
Первое, что увидел Баки, – это широкая площадь, апельплац. Дальше по некрутому склону вытянулись параллельно пять улиц с деревянными и каменными бараками. Почти в самом центре лагеря высилось могучее дерево, листья которого уже начали осыпаться.
– Это и есть знаменитый дуб Гёте, – дрожащим шепотом проговорил Ганс, кланяясь дереву. – Под этим дубом великий Гёте создавал свои творения. А теперь… О, проклятье, проклятье!
Пропустив узников, стража снова заперла ворота. Теперь колонну сопровождали только четверо конвоиров: один шел спереди, двое – по сторонам, четвертый – сзади.
У бараков стояли люди в полосатой униформе. Глубоко запавшими глазами они молча наблюдали за новичками. Старожилы – словно на одно лицо: плотно сжатые губы, на щеках резкие морщины, следы перенесенных страданий.
Посреди площади, заложив руки за спину и раскорячив ноги, стояли несколько эсэсовцев. Вдруг они принялись дико хохотать, указывая пальцами на колонну. В хвосте колонны несколько совершенно обессиленных заключенных, потеряв человеческий облик, тащились на четвереньках, а перед ними, делая невероятные прыжки, то плача, то истерически смеясь, бесновался сумасшедший Зигмунд. Это и развеселило эсэсовцев.
Узников загнали в двухэтажное здание. Это была баня. Теперь уже – настоящая баня. Приказали раздеться, сложить одежду на лавках, у кого есть ценности – часы, золотые кольца, портсигары, – сдать в эффектен-камеру.
Оказывается, были и такие среди узников, кому до сих пор как-то удавалось сохранить свои ценные вещи. Впрочем, гитлеровцы и сейчас не поверили, что все ценности сданы, – специально перерыли лохмотья заключенных, проверяя, не укрыто ли что-нибудь.
Все лагерники были донельзя грязны и с нетерпением ждали той минуты, когда можно будет хотя бы ополоснуться горячей водой. Но их ввели в нетопленное помещение с холодным цементным полом. Здесь воды не было и в помине. За несколько минут люди посинели, начали дрожать. Теперь каждому уже хотелось поскорее закутаться в свои лохмотья. Не тут-то было. Несчастных больше часа продержали в этом холодильнике. Потом, все еще голых, погнали в соседнее помещение, где находилась парикмахерская. «Мастера» сидели на табуретках, а «клиенты» должны были приседать перед ними, подставляя голову. Шарфюреры приказали снимать волосяной покров не только с головы, но и со всего тела. Не обошлось без издевок: тем, у кого была особенно пышная шевелюра, оставляли от лба до затылка узкую, пальца в два гриву. Тем же, у кого волосы были короткими, выстригали только полоску по темени.
«Обработанным» узникам приказали прыгать в бассейн, расположенный посередине парикмахерской. Назимов и Задонов прыгнули одновременно и тут же, как ошпаренные, вынырнули из воды. Тела их горели огнем, будто натертые красным перцем. Оказывается, вода в бассейне была насыщена крепким дезинфицирующим веществом и обжигала, как кислота. Поднялся невероятный крик. Особенно страдали те, у кого на теле были открытые раны. Зигмунд даже катался по цементному полу.
– Вот так баня! – приговаривал Николай, потирая обеими ладонями лицо и тело. – Теперь можно и исповедоваться. Кажись, смыли все грехи!
Только после этого нового издевательства заключенных впустили наконец в душевую. Шарфюреры и тут не преминули поглумиться: пустили только горячую воду. Однако для окоченевших людей почти кипятковый душ был наслаждением. Ежась, подпрыгивая, крякая под обжигающими струями, они яростно скребли изнывавшее тело, сдирали многодневную грязь и запекшуюся кровь.
После душа всех загнали голыми в холодный каменный подвал. Охранники заперли двери, а сами куда-то ушли. Люди прозябли сильнее прежнего.
Только через два часа окоченевших, застывших узников впустили в более теплое помещение и начали раздавать лагерную одежду – полосатые штаны и куртки, деревянные башмаки. Тут же шарфюреры каждому вручили личные номерки и матерчатые треугольники различных цветов, с буквами. Литеры обозначали национальность лагерника, а цвет тряпицы показывал, за какое «преступление» он отбывает наказание. Красный треугольник являлся отличительным для политических заключенных, зеленый – для уголовников.
Тряпицы следовало пришить к куртке, на левой стороне груди, а чуть пониже пришивался личный номер.
Назимову, Задонову и еще некоторым помимо треугольников выдали также вырезанные из материи круги, разрисованные наподобие мишени. Это был отличительный знак флюгпунктов, то есть беглецов. Знак тоже пришивался к одежде. Действительно, отличная получилась мишень.
Полностью облачившись в лагерную форму, Задонов дурашливо крикнул:
– фертиг! В полном парадном обмундировании! – По привычке он поднял руку, чтобы закрутить ус. Увы! Рука коснулась оголенной верхней губы. Теперь Николай Задонов ничем не отличался от других полосатых существ.
Назимов долго смотрел на свой «порядковый номер» и шептал: «Двадцать три тысячи пятьсот двадцать третий… Я больше не Баки Назимов, а заключенный двадцать три тысячи пятьсот двадцать третий!»
«Плохо твое дело, парень»
Среди ночи Назимов внезапно проснулся, будто кто уколол его. Темно. Единственная электрическая лампочка светит тусклым красноватым светом. На полу, тесно сбившись в кучу, точно овцы, лежат сотни людей. Окна в бараке открыты. Всюду гуляет холодный ветер.
Барак, словно глухой дремучий лес, наполнен тревожными ночными звуками, будившими в душе самые мрачные мысли. Со всех сторон доносился сдавленный храп, стоны, прерывистые хриплые вздохи, кашель. Многие тяжело бредили, всхлипывали, звали детей, жену. Другие проклинали свою судьбу или взывали ко всевышнему. Многоязычное бормотание и выкрики сливались в странный, жуткий гул, похожий на завывание ветра в осеннем ночном бору. Гул этот оглушал, надрывал сердце; на глазах у тех, кто не мог заснуть, закипали слезы жалости к себе, ко всем этим безвинным страдальцам.
Назимов лежал у самой стены, уставив неподвижный взгляд в грязный потолок. Мысли его то уносились далеко отсюда, то возвращались к тяжелой действительности и неизменно останавливались на одном и том же, о чем уже было думано и передумано: «Во время войны никто не имеет права оставаться в стороне от борьбы. Если у тебя выбили оружие, найди другое; не найдешь – грызи врага зубами… В лагере должны найтись люди одинаковых со мной мыслей, обязательно должны! Ведь нашелся же Задонов. Хорошо бы узнать, где теперь Александр. Жив ли он?»
Но тут же Баки вспомнил, какой кошмар бушевал в бараке вовремя раздачи пищи. Многие дрались за каждый черпак отвратительной баланды, сваренной из репы, вырывали друг у друга миски, консервные банки. Жидкость больше лилась на пол, чем попадала в горло человека. Дрались за удобные места, которых вообще не было в этом ободранном бараке, оскорбляли друг друга самыми грязными словами. Кругом была такая давка, стоял такой многоязычный галдеж, что в ушах гудело и жужжало, как в огромном улье. Утихомирить разбушевавшуюся, обезумевшую толпу, установить какой-либо порядок, казалось, было выше человеческих сил. Невероятная усталость в конце концов подкосила всех, и наступила относительная тишина.
Можно ли надеяться, что эти люди все еще способны на подвиг, на самопожертвование, на спайку? Назимов хорошо понимал, что если большинство лагерников и теряют человеческий облик, то это происходит из-за голода, на почве ужасных страданий, из-за расшатанных нервов, еще и потому, что более слабые забиты, запуганы зверским обращением. Но ведь это и впредь будет постоянным спутником лагерной жизни. Удастся ли пробудить в людях волю, разум, стремление к свободе? А без этого разве можно бороться?..
Утомленный тяжелыми раздумьями, Назимов начал было засыпать. Глаза застлало туманом, мысли перепутались. Но через какие-то минуты он вздрогнул, очнулся от полузабытья.
От долгого неподвижного лежания на каменном полу у Назимова онемел левый бок. Он хотел повернуться, но это было невозможно: люди сдвинулись слишком тесно, обогревая друг друга. Между спавшими, как говорится, нельзя было протащить и волосок.
С вечера Назимова сильно знобило, по всему телу пробегала крупная дрожь, а теперь ему стало жарко. Он приложил ладони к щекам, сунул под мышки: «Уж не температура ли?»
Ему становилось все жарче, губы пересохли. В затухающем сознании пронеслось: «Заболеть здесь – равносильно гибели. Палачи прикончат».
Дальше Баки ничего не помнил. Начался бред. Он то проваливался в темную бездонную пропасть, то погружался в ледяную воду, то на него вдруг кто-то наваливался, душил. Чьи-то руки вырвали у него консервную банку с баландой. Вот на него плеснула горячим супом.
Нет, все это – бред… Он уже на Волховском фронте, ведет свой полк в атаку. Вот это – настоящее. Да нет же… Он – в тюрьме, стоит связанный перед эсэсовским офицером. Сладко улыбаясь, Рем-мер предлагает ему служить Гитлеру. Потом угрожает: «Если не согласишься, в ад брошу!» – «Я вырвусь из ада! Вырвусь, поганая ты душа, собака!» – кричит Назимов и хочет размахнуться, ударить эту ухмыляющуюся образину. Но не может: руки связаны. Вот его уже волокут в крематорий, чтобы сжечь живым. Его бросают в огонь. «Горю! Умираю!.. А-а-а!»
Назимов громко застонал и снова затих. Нет, его никто не бросает в печь. Он – на берегах прохладной Дёмы. В кустах самозабвенно выводят трели соловьи. Кто-то, сидя на крутом берегу, наигрывает на свирели. Над рекой плывет песня, с детства любимая:
Эх, до чего красивы Дёмы берега,
Как скучаю по ним в дальней стороне…
Вдруг откуда-то появилась маленькая Римма с цветами в руках. «Папочка, зачем ты плачешь? Кто тебя обидел? Не плачь, возьми цветочки…» – «Спасибо, дочка! Ты надела бы шапочку, а то очень жарко, как бы солнце не напекло тебе головку…» В ту же секунду солнце превратилось в страшный огненный шар. Шар стремительно приближается к Назимову, опаляя окрестности. Все вокруг горит, обугливается. «Воды! Каплю воды! Пить, пить!» – стонет Назимов. И вдруг – видит себя уже во Владивостоке, на берегу моря. Под руку с ним идет Кадрия. У пирса стоит океанский теплоход. «Баки, милый, – беспокоится Кадрия, – в море страшно. Ты не утонешь?» – «Нет!» – громко отвечает он. И в ту же минуту погружается на дно. Кругом зеленая вода, рыбы. Мимо проплывают морские коты, акулы. Одна из них широко раскрывает огромную пасть и несется прямо на него. Сейчас проглотит! «А-а-а!»
Вдруг среди стайки рыб появляется Кадрия. Она укоризненно смотрит на него. И уже не рыбы вокруг Кадрии. Это – другие, незнакомые женщины. Их много, тысячи.
«Так-то ты защищаешь нас? – гневно говорит Кадрия. – Где твоя клятва разгромить врага? Эх, ты! – Кадрия ударила его по щеке. – Вот тебе, трус! – пощечины сыплются одна за другой. – Я верила в тебя, а ты…».
Назимов от боли и обиды закричал изо всех сил: «Кадрия, за что? Перестань! Я ни в чем не виноват перед тобой!»
Николай Задонов, лежавший рядом, тряс Баки за плечо:
– Борис, чего ты кричишь? Бредишь, что ли? Проснись, Борис!
Назимов, не открывая глаз, продолжал стонать. Ганс тоже проснулся. Он ощупал лоб Назимова.
– У парня дела плохи. Заболел.
Задонов сел, огляделся по сторонам. В полумраке отовсюду доносились стоны, выкрики заключенных, метавшихся в бреду.
– Этак полбарака завтра не встанет, – сокрушался Николай. В бессильной ярости он сжал кулаки. – Палачи, гады! За что губите людей?..
На медицинскую помощь нечего было рассчитывать. «Нет ли врача среди заключенных? – мелькнуло в голове Задонова. Но он тут же отогнал эту мысль. – Что может сделать врач без лекарств, без инструментов?»
– Воды, воды! – стонал Назимов.
Достав из-под изголовья консервную банку, с которой не расставался, Задонов, с трудом ступая между спящих вповалку людей, кое-как добрался до бака. Но в нем не было ни капли воды. Тогда Николай направился в умывальную, нацедил воды из крана.
Он смочил больному губы, лоб. Теперь Баки стонал тише. Николай знал: в прошлом приятель его никогда не болел тяжело. Значит, организм у него крепкий. «Может быть, завтра полегчает», – успокаивал себя Задонов. Надо лечь, иначе и сам обессилеешь. Место его уже было занято. Он насилу втиснулся между спящими.
На рассвете температура у Назимова немного спала, дыхание стало ровнее. Баки очнулся. В голове туман, все же он отчетливо сознавал, где находится. Положение его почти безнадежно. Когда температура опять начала подниматься, он с ужасом подумал: «Кажется, всё».
Впервые за вес время страданий в плену у него навернулись слезы.
– Николай, – позвал он друга. – Если сумеешь вернуться на родину, передай моим… Скажи Кадри и всем… ты знаешь, я не был предателем!
Наутро Назимов уже никого не узнавал, даже Задонова и Ганса, часто склонявшихся над ним. К счастью, в этот день заключенных еще не погнали на работу.
За ночь что-то произошло с пленниками. При раздаче завтрака хотя и возобновился галдеж, но он уже не был таким возбужденным и озлобленным, как вчера. Людям будто совестно стало друг перед другом. Здоровые с участием смотрели на больных, метавшихся в бреду.
– Я пойду разузнаю, нет ли среди заключенных врача, – вызвался Ганс.
Вернулся он опечаленный.
– Заболело больше половины барака, – говорил он упавшим голосом, – Врача нигде не нашел.
Именно в эту минуту к ним пробрался мужчина, невысокий, лет пятидесяти, кареглазый, с густыми, уже седеющими бровями. Красный треугольник с буквой «Ч», пришитый к груди его куртки, свидетельствовал, что это был чешский политзаключенный.
– Друг? – спросил он у Задонова на чистом русском языке, указав на Баки.
– Да, – подтвердил Николай. – Заболел вот. Лекарство бы…
Чех отрицательно покачал головой и тихо, медленно, как бы взвешивая каждое слово, заговорил:
– Если ваш друг сам не выздоровеет, ему не поможет никакое лекарство. Поняли меня?.. Ведь в Бухенвальде нет больных. Есть лишь живые и мертвые. Так сказал штандартфюрер СС Кох.
Открытое ив то же время строгое лицо чеха было мужественным и спокойным. Он предпочитал говорить только правду, хотя и суровую. Не зная, что ответить, Николай в замешательстве взглянул на Ганса. Тот по-немецки стал о чем-то просить чеха.
– Я думаю, вы поняли меня? – не слушая Ганса, опять обратился чех к Николаю. – Состояние больного тяжелое, но, мне кажется, его организм выдержит. Пусть лежит. Не беспокойте его. – И он направился к другим больным.
Это был штубендинст – староста – флигеля «Б» семнадцатого карантинного блока Йозеф. Кем он был до того, как попал в лагерь, за что фашисты посадили его – этого Задонов пока не знал. Однако значок политического заключенного не позволял думать о чехе плохо. Правда, в лагере нельзя с первого взгляда верить человеку. Одежду стой или иной нашивкой может надеть любой заключенный. К тому же ни для кого не было секретом, что гитлеровцы назначали старостами блоков и флигелей верных им людей. Кроме того, известно было, что лагерное начальство широко использовало в своих интересах «зеленых»! то есть уголовников, бандитов. Людей с зелеными треугольниками на груди было вполне достаточно в лагере.
В обед Задонову не удалось раздобыть даже полчерпака супа. Теперь он сидел, горестно прислушиваясь, как дневальные гремели пустыми суповыми бачками. Ему было вдвойне тяжело оттого, что он ничего не может дать больному товарищу. Николай видел, как многие заключенные, тоже оставшиеся без обеда, поодиночке тянулись к помойным ямам. Ради себя он никогда бы не пошел туда. Но для товарища…
Он уже хотел было подняться с места, вдруг снова появился староста барака Йозеф.
– Вот, дадите больному… – он протянул Задонову кусочек хлеба, намазанный маргарином.
– Что это? – недоуменно посмотрел на него. Николай, не веря своим глазам.
– Лекарство, – сухо ответил штубендинст и ушел.
На следующий день, вечерей, когда наступила темнота, Йозеф принес целый котелок баланды.
– Ему надо окрепнуть, – кивнул он на лежавшего Назимова. – Пища – единственное лекарство для него.
– Вы что, отдаете свой паек? – Николай взглянул прямо в глаза чеху. Ему хотелось как можно глубже посмотреть в душу этого человека, разгадать подлинные его мысли.
– Это неважно, чей паек, – сказал Йозеф, нахмурив брови.
Задонов сжимал обеими ладонями теплый котелок. Лицо его странно вытянулось, челюсти сами собой лихорадочно двигались. Правда, сегодня Николай сумел получить свою порцию супа, но больше половины котелка скормил Назимову, поэтому чувствовал сейчас зверский голод. Задумавшись, он не замечал, как за спиной у него десятки людей следили жадно поблескивающими, голодными глазами: отдаст он суп больному или не удержится, начнет хлебать сам. В последнем случае у него могли выхватить котелок более сильные заключенные. Заглушив адскую боль в желудке, Задонов глубоко вздохнул и, поддерживая голову Назимова, поднес к его губам котелок. Лагерники, наблюдавшие за ним, медленно побрели к своим углам, глотая на ходу слюну.
Выздоровление
Кто возьмет на себя смелость судить, какое из человеческих чувств наиболее сильное и острое? Не вернее ли будет сказать, что попеременно верх берет то одно, то другое, то третье чувство, в зависимости от места, времени и душевного состояния человека.
Сегодня все существо Баки пронизывало радостное ощущение выздоровления. Это ощущение было таким огромным и наполняющим, что Баки, казалось, совершенно забыл о том, где он находится. Еще бы! Разве это не настоящее чудо и счастье, что он выздоравливает именно здесь, в Бухенвальде, где все делается для того, чтобы истребить как можно больше людей?! У этих несчастных людей зачастую не остается даже искры надежды, ибо над ними витают тысячи смертей.
Две недели Баки боролся со смертью, не понимая, где он находится, что творится с ним. В бреду он валялся на голом и холодном полу. Все его лекарство – сырая вода в консервной банке да баланда, которую приносили товарищи. Он не знал счета времени: иногда минута казалась ему вечностью, а порой целая неделя незаметно проваливалась в какую-то пропасть. Ему казалось еще, что он лежит здесь очень-очень давно, и будет лежать бесконечно… И вдруг – выздоровление! Он по-детски ликовал, ощущая, что крепнет день ото дня. Баки почти не думал о том, что впереди его ожидает множество испытаний еще более жестоких, что полную чашу горя ему предстоит испить до дна. Это не смущало Баки, хотя он знал, что Бухенвальд не больница, откуда можно выписаться после выздоровления. Желание выжить в этом аду, вера в свою «вечность», еще более окрепшая в нем после болезни, – были настолько сильны, что никакие бедствия не страшили.
В окно барака заглядывает солнце. На пол падает тень от проволочной изгороди. Тень колючей проволоки должна бы напомнить Назимову о фашистском концлагере, о том, что он бессрочный узник. Но Баки словно не замечает эту зловещую тень, как не видит он и больных, валяющихся на голом полу, как не слышит их стонов, проклятий, рыданий. Он видит лишь яркий свет солнца и чувствует, как этот свет согревает его грудь, наполняет ее живительным теплом.
Назимов сознавал, что выздоровлением своим обязан прежде всего друзьям, что он неоплатный должник перед ними.
Взгляд его рассеянно бродил по бараку. Народу заметно убавилось. Баки не спрашивал, куда девались люди, ибо сам видел, как по утрам дежурные выносили десятки трупов. Живые продолжали двигаться как тени – одни высохли, другие неузнаваемо опухли. Задонов и Ганс тоже сильно сдали.
«И эти люди помогали мне», – подумал Назимов. Исхудавшей рукой он обнял за плечи только что подсевшего к нему Задонова.
– Спасибо, друг – сдавленным голосом проговорил Баки, в горле у него встал комок.
Задонов, не ожидавший такого проявления чувства, даже растерялся. Он по привычке сложил губы трубочкой, но из-за того, что усы у него сбриты, в лице не стало прежней выразительности. Должно быть, он и сам почувствовал это, скороговоркой пробормотал:
– Вот черт! Если так пойдет дальше, ты скоро целоваться полезешь, словно баба. Не люблю я такие сентиментальные арии.
Назимов тоже устыдился своей слабости. Опустив голову, молча уставился на пол. Задонов тронул его за плечо:
– Сумеешь выйти из барака? Тебе надо подышать свежим воздухом. Хватит, достаточно валяться…
Он помог Баки выбраться наружу. Они уселись неподалеку от дверей барака. У Назимова мелко дрожали колени, чуть кружилась голова. При дневном свете Баки лучше рассмотрел, как сильно похудел и постарел его друг. Под глазами у Задонова багровые пятна; уши как-то сморщились, стали походить на жухлый лист; безусое лицо было жалким.
Несколько минут они сидели молча, глядя на мрачное здание крематория. Во дворе его, под навесом, штабелями сложены трупы: жертв в лагере было столько, что мертвецов не успевали сжигать.
– Пока ты болел, в нашем бараке умерло около ста человек, – задумчиво проговорил Задонов. – В остальных бараках еще больше.
Назимов невольно вздрогнул. Ведь вполне могло случиться, что и он сейчас лежал бы там, в той страшной поленнице, приготовленной для сожжения. И снова его захлестнула волна благодарности к другу, глаза повлажнели.
Николай сурово одернул его: – Ну тебя! Не разводи сырости, и без того муторно на душе…
Затрещало в репродукторе на столбе. Чей-то голос властно прохрипел:
– Лагерный староста, быстро к воротам! Потом уже другой голос приказал какому-то оберштурмфюреру немедленно явиться к коменданту лагеря. Через несколько минут – новый приказ:
– Двое носильщиков, за трупом! К воротам, бегом!
– Здорово командуют, – зло усмехнулся Назимов.
– Это еще что… А вот как выкликнут твой но-» мер да прикажут: «Ан шильд драй», тогда… – Задонов сделал губы трубочкой, – фьють… Капут, одним словом.
– Не понял, – ответил Назимов.
– То-то, не понял. Пока ты болел, мы тут во всем разобрались. Когда нас гнали сюда, видел недалеко от проходной эсэсовскую канцелярию? В ней – пять окон. Над каждым – щит с огромной цифрой… Так вот, к первому и второму окну вызывают тех, кого надо послать на работу, к четвертому – кого отправляют в этап, к пятому подходят больные, чтобы получить направление в ревир – в лазарет… Ну, а к третьему вызывают тех, кого решили стукнуть. Понял?.. – И Задонов смачно сплюнул.
– Да? А я-то думал, что-нибудь приятное скажешь, – стараясь быть спокойным, ответил Назимов. И вдруг спросил – А сводки с фронта передают здесь?
– Бывает, что треплются, – нехотя проговорил Задонов. – Как всегда, хвастаются победами. А я, дружище, сердцем чую… – Задонов снизил голос до шепота. – Скоро они заиграют похоронный марш и объявят траур покрепче, чем в конце прошлого года, после поражения на Волге… Знаешь, есть слух, будто наши взяли Мелитополь, Днепропетровск… ну и Днепродзержинск. Если это верно – значит, наши и Днепр форсировали…
– Кто сказал? От кого слышал? – Назимов вцепился в плечо Николая, пораженный тем, что в лагерь могут проникать такие слухи.
– Говорят… – уклончиво ответил Задонов. – Народ говорит. Кто-нибудь скажет, а ветер разносит. У слуха, друг, не спросишь фамилию.
Они надолго замолчали. В громкоговорителе то и дело щелкало и хрипело: передавалось то одно приказание, то другое.
Вдруг за углом барака послышалось какое-то дикое улюлюканье, хлопанье бича и громыхание колес. Все это порой перекрывалось нестройным пением. – Что это? – удивился Назимов. – Фурколонна идет, – объяснил Николай. – Запрягут в телегу лагерников и погоняют, словно лошадей. Да еще петь заставляют. Русские прозвали эту пряжку бурлацкой командой. А лагерное начальство… – Николай зло выругался сквозь зубы. – Эти придумали название прямо-таки поэтическое: «Зингенде пферде» – поющие лошади, – кажется, так будет, если перевести.
Из-за угла показалась группа лагерников, человек двадцать. Они катили длинную телегу, груженную леском и камнями; кто тянул за лямки, кто подталкивал сзади. Все пытались петь на ходу какую-то песню. «Кучер»-эсэсовец, взгромоздившись на козлы, щелкал над их головами бичом.
Назимов молча смотрел, прикусив губу и сжав кулаки. Когда фурколонна прошла, тихо спросил:
– Александра не видел?
Этот же вопрос он неоднократно задавал и вовремя болезни, даже в бреду. Тогда Задонов отмалчивался, а теперь не было смысла больше скрывать.
– Сашу… расстреляли, – глухо произнес он, глядя под ноги – В первый же день…
У Назимова на этот раз ничто не дрогнуло в лице, он словно был подготовлен к печальному известию. Баки долго и молча смотрел куда-то вдаль, поверх колючего забора. Лицо его оставалось каменным. Но если бы кто из гитлеровцев нечаянно посмотрел в эти впалые глаза, в страхе отшатнулся бы. Море гнева бушевало во взгляде Баки.
– Должно быть, нас еще с месяц продержат на карантине, не будут посылать на работы, – переменил разговор Задонов после молчания. – Потом или примутся еще более жестоко измываться здесь, или переправят куда-нибудь. Оказывается, Бухенвальд разветвляется на филиалы. Но и там и здесь – мы все та же даровая рабочая сила… Неплохо бы попасть в так называемый Большой лагерь. Там, говорят, полегче. – Задонов осмотрелся по сторонам и опять зашептал: – Думается мне, что и здесь не одни только звери. Есть и порядочные люди. Я про Йозефа говорю, нашего штубендинста. Хороший старик. Если хочешь кого поблагодарить за свое выздоровление, так в первую очередь ему должен сказать спасибо. Ну, и Гансу, конечно… – Задонов ни словом не обмолвился о том, что сам сделал для друга – Йозеф до войны, кажется, побывал в Советском Союзе. Он иногда намекает на это и вообще – порой интересно высказывается…
– А мне один писарь в канцелярии понравился, – вспомнил Назимов. – Я вроде бы говорил о нем в тот, первый день…
– Да, да, рассказывал, – подтвердил Задонов.
Грохот телеги и нескладное пение «бурлаков» доносились теперь откуда-то издалека. Вдруг раздался сухой треск выстрела.
– Боже, помилуй нас, – пробормотал проходивший мимо них сутулый узник.
– Кто это? – кивнул вслед ему Назимов.
– Немецкий пастор. Гитлеровцы и пасторов не щадят.
Задонов опять оглянулся, тихо сообщил:
– К нам в барак по вечерам зачастил один русский паренек… Чернявый такой, на цыгана похож.
– Откуда он?
– Из Большого лагеря.
– Разве можно ходить из одного лагеря в другой?
– В темноте, да поосторожнее – оно и можно.
– Чего он повадился? О чем говорит? – допытывался Назимов.
– Разное говорит. – Задонов выждал, пока на вышке, напоминающей водокачку, сменятся посты, и продолжил – Больше сам старается расспрашивать: кто да откуда родом, есть ли родные дома, когда попал в плен и как очутился в Бухенвальде?.. В общем – то да се…
– Может, подослан?
– Возможно.
– Ты сегодня же покажи его мне, – оживился Назимов, – Тут надо рискнуть, иначе – век просидишь в этой яме.
– Не торопись, – предупредил Задонов. – Осмотреться надо. Здесь – как в темном лесу.
Назимов слабо усмехнулся:
– Чего нам бояться?
– Бояться, конечно, нечего. Страшнее не будет. Но жизнь, дружище, того… Надо поберечь, пригодится, – Он сжал кулаки. – Еще как пригодиться может! Осмотреться, говорю, не мешает тебе.
– А сам осмотрелся? – хитро ввернул Назимов.
– Успеется. Не сегодня, так завтра осмотримся. Торопиться нам некуда, времени хватит… А вот сидеть у дверей, пожалуй, хватит. Для первого раза тебе достаточно. Пойдем в барак, – Задонов взял Баки под руку.
– Подожди, я сам… – Назимов сделал несколько шагов, вдруг зашатался и чуть не упал. – Уф!.. – вздохнул он, вытирая тыльной стороной ладони холодный пот со лба. – Силенок-то, оказывается, того…
Николай помог ему войти в барак.
Силы Назимова сразу иссякли.
– Хватит, отдохнем, – слабо прошептал он.
Они присели тут же у порога, едва вошли в барак.
Около них остановился долговязый лагерник, незнакомый Назимову. Одет он был в черную куртку. Нашитый на рукаве красный треугольник без инициала, показывающего национальность, свидетельствовал о том, что незнакомец принадлежит к немецким политическим заключенным.








