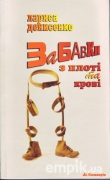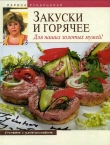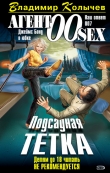Текст книги "Лариса Мондрус"
Автор книги: Савченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
С января 1956 года на республиканском радио образовался Рижский эстрадный секстет в составе: Раймонд Паулс (фортепиано), Гунар Кушкис (кларнет), Эдуард Абелскалнс (виброфон), Георг Славетскис (гитара), Геральдс Брандо (ударник), Эгил Шварц (контрабас). Ансамбль играл негромкую, без доминирования барабанов, но интонационно очень чистую музыку со всеми присущими джазу структурами: синкопированным ритмом и диссонирующими гармониями. По своему звучанию он приближался к миллеровскому кристалл-хорусу.
В аранжировках знаменитого тромбониста и бэнд-лидера Глена Миллера (1904-1944) наиболее характерными являлись мелодические эпизоды саксофонной группы в высоком регистре, в узком расположении одной октавы, с партией трубы "вверху" и тенор-саксофоном "вниз". Однажды у Миллера заболел ведущий трубач, и один из саксофонистов взялся вести мелодию на кларнете. В результате родилось новое звучание, отличавшееся от всего, что было до того на слуху, и вошедшее в историю под названием кристалл-хоруса.
Слушая радио и увлекаясь Гленом Миллером, Кушкис разработал на кларнете мелодический, экспрессивно напряженный звук с широкой скрипичной вибрацией.
Шварц вспоминал:
– С приемника Кушкис по слуху записал подлинные партитуры всех главных произведений Глена Миллера, которые в период 1957-1961 годов стали фундаментом репертуара Рижского эстрадного оркестра. Нигде в Союзе я тогда не слышал кларнетиста с таким звуком, и ни один из советских оркестров, кроме рижского (РЭО), не исполнял подлинных аранжировок американских биг-бэндов. Конечно, по своим возможностям оркестр Людвиковского в Москве или танцевальный биг-бэнд Вайнштейна в Ленинграде значительно превосходили нас, но сравнимого кристалл-хоруса не было и у них. Скорее всего эти коллективы относились к другому направлению.
Однако наш рассказ пока не о РЭО, а о Рижском эстрадном секстете. Его руководителем назначили Э. Шварца, но душой ансамбля был Р. Паулс как неподражаемый пианист-виртуоз. На этой почве у двух талантливых музыкантов возникло некое взаимоохлаждение, может быть, обострилось чувство профессиональной ревности друг к другу. Вероятно, Паулс предполагал, что функции руководителя, доставшиеся Шварцу, мог без труда реализовать он сам. Беда заключалась лишь в том, что и Кушкис, и Абелскалнс, и Славетскис, и сам Паулс хронически болели известной болезнью – проще выражаясь, много поддавали. На репетициях, проводившихся днем, и работе на радио это особенно не отражалось – тогда все приходили трезвые, полные энтузиазма, что называется, "держались". Но когда наступал вечер, ни за что ручаться было нельзя. Рижский эстрадный секстет на свою голову приобрел в городе большую популярность, к концу недели ребята шли нарасхват в любом ДК. Музыканты резко взвинтили свою цену, но отбоя от заказов не наблюдалось. Веселое музицирование на танцах перемежалось в перерывах с выпивкой, так что к концу работы почти весь состав секстета приходил в изрядное умственное помутнение. Хорошо набравшись, Паулс, ничего не объясняя, буром шел на Шварца. До драки дело ни разу не доходило – ребята сдерживали ретивого пианиста, но озлобление он демонстрировал великое. На следующий день Паулс, разумеется, ничего не помнил, вел себя внешне дружелюбно. В крайнем случае, заметив вопросительный взгляд Шварца, отшучивался: "Ах, вчера я там слишком поддал..." Тем не менее подспудная фрейдовская напряженность в отношениях между приятелями не исчезала.
В 1956 году Прибалтику еще не опутала сеть передатчиков-глушителей, и можно было регулярно ловить "Голос Америки" и другие вражеские голоса. Так, в октябре рижане узнали о происшедшем в Венгрии восстании, безжалостно подавленном советскими танками. Когда музыканты секстета собрались на репетицию, Паулс, хотя и с бодуна, но совершенно серьезно произнес: "Если бы у нас случилось нечто подобное, будь у меня "калашников", я бы их всех смел с лица земли". Имелись в виду "русские завоеватели", как их называли латыши.
Рижский эстрадный секстет работал на радио сдельно – получали монету в зависимости от того, сколько делали фондовых записей. Шварцу, Кушкису и Паулсу оплачивали еще и оркестровки. Для студентов 3-4-го курсов получался неплохой заработок. Паулс все больше увлекался сочинением легких песенок, и эта работа ему тоже засчитывалась.
Некоторые перемены в репертуарной политике произошли и в Латвийской филармонии, хотя ее возглавлял кондовый большевик Филипс Осипович Швейник. Это был латышский еврей, любивший постоянно напоминать окружающим, что "самые настоящие коммунисты – это евреи". С ним никто и не спорил. Его кабинет был всегда полон лизоблюдов, перед которыми он с удовольствием разыгрывал роль этакого честного, неподкупного хозяина – оплота справедливости. Ему звонили из ЦК республики, просили билеты на какое-то представление, а он отвечал в трубку: "Ишь чего захотели – на эстраду! А вот вы пожалуйте на Когана, на симфонический концерт..." Он бравировал своей якобы независимостью. Но перед Москвой, конечно, прогибался. Из Рижской филармонии он сделал показушную организацию, так что Фурцева его выделяла, а один из замов министра культуры, Кухарский, каждое лето отдыхал на взморье.
Чуткое ухо Филиппа Осиповича, неустанно пекшегося и о финансовом благополучии, уловило новые веяния из Москвы. В начале 1957 года в филармонии приняли решение о создании Рижского эстрадного оркестра (РЭО). Важный исторический момент в культурной жизни Латвии. Худруком и дирижером пригласили Рингольдса Оре – того самого, что возглавлял ранее студенческий биг-бэнд, а после окончания консерватории работал звукооператором на радио и помогал секстету Шварца делать фондовые записи. На место пианиста позвали Раймонда Паулса. Тот поставил условие: "В оркестр пойду только со всем секстетом". Швейник не возражал. Зачем нужна головная боль с поиском хороших оркестрантов, когда налицо ансамбль первоклассных артистов? Музыканты оговорили себе еще ряд условий. Две композиции в программе РЭО секстет будет исполнять отдельно (солисты впереди), за что полагалась дополнительная прибавка к зарплате. Эта льгота сохранялась за секстетом несколько лет. По существу, узаконивалось существование оркестра в оркестре. Особой привилегией на первых порах считалось то, что музыканты секстета даже не являлись на обязательные репетиции РЭО. Рингольдс Оре зарекомендовал себя неплохим музыкантом, но в руководители ансамбля абсолютно не годился: был пассивен, вял, страдал алкогольным синдромом. Принес для порядка две оркестровки, которые ребята тут же выучили, и больше профессионального рвения не проявлял. Оркестр же нуждался в доукомплектации, не хватала трубача, других музыкантов. Не было полного репертуара, антуража, солистов-вокалистов.
Почти целый год музыканты РЭО получали зарплату практически ни за что. Секстет Шварца между тем продолжал записывать свою музыку на радио и активно участвовал в разных халтурах. Четверке из секстета (без гитары и виброфона) музыкальная редакция предложила делать раз в неделю передачу "Полчаса в ритме джаза", где ребята играли "живьем", и вообще впервые на Латвийском радио было произнесено запретное слово "джаз".
В конце концов в филармонии очнулись от летаргического сна и серьезно взялись за Рижский эстрадный оркестр. Директором ансамбля назначили опытного администратора и хозяйственника Якова Штукмейстера. Ему удалось сделать многое, если не все: укомплектовать полностью состав, изготовить на всех музыкантов костюмы, пригласить приличных вокалистов – Айно Балыню, Эдгара Звее, Валентину Бутане.
Создание Рижского эстрадного оркестра отражало, по идее, давно назревшие перемены и совпало по времени с периодом, когда в Латвии, по примеру соседней Эстонии, вся идеология строилась на усилении роли национального самопроявления. Хотя позже эта тенденция всячески притушевывалась, нивелировалась.
Весной 1958 года в Москве открывался III Всесоюзный конкурс артистов эстрады. На заседании худсовета Рижского эстрадного оркестра министр культуры республики Калниньш предложил, чтобы квартет из состава РЭО (Э. Шварц, Р. Паулс, Г. Коршка, Г. Брандо, все с консерваторским образованием, профессионально подкованные) и певица А. Балыня приняли в нем участие и тем самым внесли посильную лепту и продемонстрировали московской публике (да и властям) эту самую национальную индивидуальность Латвии. Разумеется, этих слов министр вслух не произнес, но именно так его и поняли.
Программу ансамбля составили таким образом, что из четырех композиций, предназначенных для показа, три представляли собой произведения латышских композиторов (Р. Паулс, Д. Жилинскис), а последняя – "Мунлайт серенейд" Глена Миллера – планировалась как "бисовка", на случай обвального успеха. Но и латышские вещи были гармонизированы тоже по-джазовому.
Айно Балыня для выступления в номинации "солисты-вокалисты" подготовила программы из трех песен: латышской, эстонской и советско-русской, а на десерт – тоже американскую вещь, из репертуара Эллы Фицджеральд.
В Москве, после проведенного в 1957 году Всемирного фестиваля молодежи и студентов, когда идеологический климат по-весеннему потеплел, тоже пытались возродить джаз. Надо было пустить пыль в глаза всему миру и показать, что у нас имеются не только лагеря, но и есть современная музыка, присутствует европейский шарм. Одним из энтузиастов нового "старого" направления в музыке выступил Юрий Саульский, собравший коллектив, который стал потом ядром оркестра В. Людвиковского при Всесоюзном радио. Но тогда ансамбль Саульского долго на плаву не продержался, его обвинили в "стиляжничестве" и явном подражании Западу. Да и на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады эти музыканты не выступали. Так что соперников у рижского квартета вроде не предвиделось, азиатские же ансамбли с их доморощенными мелодиями пустынь и арыков в потенциальных конкурентах вообще не значились.
Конкурс проводился в старом здании Театра эстрады, рядом с гостиницей и рестораном "Пекин". Выступление рижского квартета проходило в переполненном зале, под восторженные аплодисменты слушателей. А когда Айно Балыня исполнила на английском языке песню от Эллы Фицджеральд, музыкантам показалась, что у публики "крыша поехала" – такой поднялся шум и гвалт. Скандировка не прекращалась минут десять. Однако энтузиазм квартета мгновенно угас, когда после выступления к рижанам за кулисами подошли Л. Утесов и Н. Минх.
– Да, ребята, играете вы технически грамотно. Настоящие профессионалы. Нам импонирует ваша квалификация. Но вы попали немножко не по адресу. Здесь серьезный творческий конкурс, а такую музыку, какую вы показали, у нас играют в ресторане "Националь".
Вот уж высказались наши мэтры эстрады – хоть стой, хоть падай. Хотелось дать рижанам "отлуп", а получился почти комплимент. Ведь в "Национале" тогда, если мне не изменяет память, играли Г. Гаранян и К. Бахолдин. Сравнение с ними лестно для любого нестоличного музыканта.
Эгилу Шварцу удалось беспрецедентное – уговорить жюри послушать их еще раз, уже с другим репертуаром. В качестве запасного варианта в программе квартета припасалась композиция на сугубо национальные мотивы. Но предложенное "попурри" выглядело порядком разжиженным, его исполнение не имело той технической сноровки и темперамента, которыми так заряжена была предыдущая премьера с западным уклоном. В принципе это уже ничего не меняло. Жюри явно лоббировало представителей среднеазиатских республик. А в вокальном жанре, словно в пику Латвии, предпочтение было отдано Литве (Н. Лившицайте) и Эстонии (Х. Ляятс, К. Тенносаару).
Крепко тогда обиделись на Москву Эгил Шварц со товарищи. Достаточно того, что в течение нескольких лет Рижский эстрадный оркестр, объезжая с гастролями города и веси необъятной страны (включая Ленинград), никогда не выступал в столице СССР – так глубоко сидела заноза, полученная на III Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Хотя московская публика в провале рижан была как раз и не виновата.
Первая большая поездка РЭО состоялась осенью 1958 года. Маршрут пролегал по Украине, Грузии, Армении, Азербайджану, городам Поволжья.
В Закавказье музыканты нисколько не стеснялись своих пристрастий и, "потеряв всякий стыд", выдавали джазовую продукцию по полной программе. В Тбилиси Айно Балыню, исполнявшую исключительно репертуар Эллы Фицджеральд, стонущая толпа просто не отпускала со сцены. Своей реакцией публика словно подчеркивала кому-то, что здесь просвещенная Грузия, а не вообще Советский Союз. В Ереване после соло Раймонда Паулса на рояле, когда он сыграл авторскую, может быть, не совсем аутентичную джазовую, но виртуозную композицию, молодежь вынесла его из зала филармонии на высоко поднятых руках.
Грандиозный успех сопровождался традиционными кавказскими пиршествами. Музыканты РЭО, что называется, дорвались и "не просыхали" по целым дням. На последнем концерте в Ростове-на-Дону добрая половина ведущих оркестрантов находилась на сцене в невменяемом состоянии. Дело кончилось большим скандалом: Р. Паулс, Г. Кушкис и еще несколько солистов за два дня до окончания трехмесячного турне были уволены из оркестра и отправлены в Ригу.
Еще в Москве Паулс как бы между прочим открыл Шварцу, занимавшемуся на конкурсе всей организаторской работой квартета, маленький секрет:
– Ты знаешь... я слышал... вообще они собираются тебя назначить дирижером оркестра... вместо Оре...
За время осенних гастролей этот слух обретал все более реальные черты, музыканты нередко сами просили Шварца провести очередную репетицию. Наконец коллектив вернулся домой, Шварца вызвали в филармонию и объявили, что он назначен художественным руководителем Рижского эстрадного оркестра. Безвольного Р. Оре перевели на должность директора фабрики звукозаписи.
Доверяя неопытному Шварцу ответственный пост, Швейник рассчитывал, что у него под рукой появится покладистый, исполнительный парнишка, который будет ловить каждое слово своего босса. Швейник обожал подхалимаж, беспрекословное подчинение и любил власть не вообще, а в ее конкретных, персональных проявлениях.
– Вот, Эгил, смотри. Мы с тобой должны делать все согласованно,поучал он нового худрука РЭО.– А то у нас тут были такие, как Думиньш. Так я его выгнал, чтоб другим неповадно было.
Ян Думиньш, главный дирижер Государственного латвийского хора, в силу своей вредной самостоятельности "не сработался" с директором филармонии и был вынужден уехать на несколько лет в Грузию.
Но Эгил Шварц и не думал как-то перечить начальству или заниматься какими-то интригами. Главное – открылась возможность для большой творческой работы.
Идиллическое настроение новоиспеченного лидера РЭО нарушил однажды нежданный телефонный звонок. Голос на другом конце связи представился неким Иваном Васильевичем.
– А кто вы, откуда?
После секундной паузы голос ответил мягко:
– Ну, скажем, из "органов". Надеюсь, вы не боитесь этого слова?
– Понятно...– Слова-то Эгил не боялся, но почему-то сразу заныло под ложечкой.
– Не могли бы мы с вами встретиться завтра, часа в два допустим, на углу Верманского парка? Знаете, где остановка?...
"Какие вежливые,– подумал Шварц,– могли, не могли... Разницы нет. Уж если чего надумали, то найдут возможность "достать".
– Хорошо, я буду.
В назначенный час в центре города к нему подошли два человека, внешность которых Шварцу так и не запомнилась. Участливо поинтересовались делами, отношениями с музыкантами. Потом перешли к делу:
– Вот вы сейчас, несмотря на молодость, назначены на важную руководящую должность. У вас будут происходить разные любопытные встречи, в том числе и с иностранными артистами... Нам было бы небезразлично ваше мнение по поводу...
Шварц без труда догадался, что интересует "товарищей". Новая республиканская верхушка во главе с Пельше активно заигрывала с латышской эмиграцией, осевшей по другую сторону Балтийского моря. Особенно большая колония образовалась в Швеции. Налаживались культурные связи, приглашались гастролеры. В столицу Латвии уже приехал известный шлягерный исполнитель Альфреде Винтере. Он дал десять концертов, потом еще полтора месяца находился в Риге, выступая в программе Рижского эстрадного оркестра, чему музыканты откровенно радовались, ведь отменялись гастрольные поездки. Винтере появлялся на сцене во втором отделении и пел пару-тройку душещипательных латышских песен. Шварц не раз сидел с ним в ресторане, много общался. Разговоры касались в основном одной темы – жизни на Западе. Видимо, этот аспект и заинтриговал товарищей из "органов". "Стучать" на кого-либо не собирался, но оперативность людей в мышиных пальто смутила его и сбила с толку. Он попытался состроить недоумение.
– Не представляю, что я могу сказать. Об этом все знают, да вам, наверное, известно больше, чем мне.
– Вы все-таки подумайте. И недельки через две позвоните. Вот вам телефон.
Шварц не стал звонить, сделав вид, что случайно забыл о разговоре, не придал ему значения.
Через месяц кагэбэшники сами напомнили о себе.
– Что же вы, Эгил Яковлевич... Мы же с вами условились, а от вас ничего не слышно...
– Работы много, замотался.
– Надо встретиться. Как насчет завтра? Мы будем ждать вас в гостинице "Рига" в 32-м номере. Устроит?
– Попробую,– вяло уступил он.
– Тогда ладушки. Часика в два приходите.
"Вот впились, кровососы,– с досадой подумал Эгил,– уже колени трясутся, так и лезут без мыла в..." Ругаться Эгил не любил даже мысленно. Впрочем, поведение новоявленных "друзей" не удивляло, прагматичность их действий была очевидна и не требовала особого напряжения ума: к чему вербовать какого-то четвертого тромбониста, когда можно получать нужные сведения от самого худрука?
Вторая встреча не добавила оптимизма латышским чекистам. Шварцу так удалась роль тупоумного чудака, упорно не желающего понять, что от него требуется, что его благодетели пришли к выводу: их подопечный органически не способен к "сотрудничеству".
– Больше они не давали о себе знать,– сказал мне потом Эгил.– Но если бы я позвонил им тогда, то никакой Швейник не выгнал бы меня из филармонии.
Это уж точно, но от себя добавлю: мне не очень-то верится в деликатность прорабов из Комитета глубокого бурения: мол, раз не договорились, то все, забудем! Ничего никогда они не забывали. И, как правило, через месяц, полгода, год, через пять лет как ни в чем не бывало могли возобновить попытки влезть в душу своей жертве. Если Шварца действительно не беспокоили в течение всей его карьеры в СССР, то можно сказать, что ему здорово повезло, совершилось великое чудо.
С приходом Шварца популярность РЭО в городе возросла, но в составе оркестра произошли некоторые изменения. Г. Кушкиса заменил Арнольд Попе, а место за роялем занял Эрмин Балыньш, муж Айно Балыни. В свое время он учился в музыкальной школе имени Дарзиня, а потом резко сменил дирекцию жизни: вместо консерватории пошел в архитектурный институт. Он умел играть на рояле и, поскольку вознамерился быть сторожем при собственной жене, уговорил Эгила взять его вместо Паулса.
Балыньш продержался недолго, его способности оставляли желать лучшего, и в конце концов будущий архитектор уступил рояль профессиональному пианисту Александру Кублинскому, которого Шварц знал еще со школьной скамьи. Кублинский занимался и сочинением эстрадных песенок, одна из них, "Ноктюрн", обрела в исполнении квартета "Аккорд" поистине всесоюзную известность:
Ночью, в узких улочках Риги,
Слышу поступь гулких столетий...
На гастролях во Львове Кублинский предложил Шварцу:
– Я тут знаю одного трубача, зовут Володей. Он хочет к нам в оркестр. Пойдем послушаем.
Пришли к нему домой, и когда высокий, похожий на гоголевского Остапа, 22-летний Володя Чижик взял трубу и заиграл, Шварц искренне изумился: музыкант экстра-класса, настоящий Гарри Джеймс.
Несмотря на известные в таком деле трудности, Эгил в случае с Чижиком проявил себя как умелый администратор. С помощью Яши Штукмейстера он выбил у Швейника дополнительную ставку, прописал музыканта в Риге, нашел жилье. И в один прекрасный день понял, что совершил стратегическую ошибку – этот трубач в состав РЭО никак не вписывался. Оркестр славен слаженностью, корректной игрой, а Чижик своим напором так свинговал и фразировал, что петухом выделялся из ансамбля. Он чувствовал себя звездой, а надо было подчиняться коллективу, умерять свой пыл.
Чижик сыграл в Рижском эстрадном оркестре только один концерт, в Дзинтари. Выпендривался, как хотел. При этом мысли об его увольнении у Эгила еще не возникало. Возможно, Чижик ощущал свою исключительность, идущую вразрез с интересами РЭО, рвался куда-то выше. Однажды на репетиции в филармонии Шварц вдруг заметил сидящего в конце зала Гараняна. Гость из Москвы? К чему бы это? Гадать долго не пришлось. В перерыве к Эгиду подошел Чижик и тоном, не терпящим возражений, заявил:
– Я ухожу к Лундстрему.
Сюрприз не из приятных. Сделан он в разгар выступлений РЭО. И все это после того, что он, Шварц, сделал для этого музыканта, после долгих уговоров Швейника, после с трудом добытой прописки. Все коту под хвост. Духовая группа оркестра в самый неподходящий момент оголялась. Шварцу оставалось только развести руками Да, он понимал, Лундстрем – это другие условия, другой престиж. Но все-таки поступок Чижика смахивал на грубую подножку. Тем не менее они расстались по-доброму, и несколько лет спустя, когда Володя блистал уже в оркестре Людвиковского, он принимал Шварца как старинного приятеля. Даже советовал ему, кого из музыкантов Людвиковского пригласить для записи на радио: "Гараняна возьми, Гареткина на ударные и обязательно всю группу тромбонистов – они там засаживают такие вещи, закачаешься".
В РЭО появились новые классные музыканты: саксофонист и аранжировщик Виктор Долгов, тенор-сакс Александр Пищиков (впоследствии они прославились и на московской эстраде). Учитывая, что Г. Кушкис прошел курс лечения от алкоголизма, Шварц с трудом упросил Швейника взять того снова в оркестр. Поначалу первый саксофонист РЭО держался в порядке, приходил на репетиции трезвый как стеклышко. Потом история стала повторяться чаще и чаще, и с Кушкисом в очередной раз пришлось расстаться. Тысячный, а может, и миллионный по счету бездарно загубленный талант Советского Союза
Все эти пертурбации с мало– и многопьющими музыкантами только злили Швейника, он уже стал коситься и на Шварца: а того ли человека он приблизил к себе? При каждом удобном случае Филипп Осипович напоминал худруку, что тот не следит за моральным климатом в РЭО, а это кладет пятно и на филармонию в целом.
Шварца раздражали бесконечные придирки начальства. Основной конфликт разгорелся в мае 1961 года, когда Швейник обвинил художественного руководителя в "развале работы и создании нездоровой атмосферы в коллективе".
– У вас, уважаемый Эгил Язепович,– желчно выдавил он, подчеркивая даже истинное отчество Шварца вместо привычного "Яковлевич",– Кублинский является систематически пьяный на репетиции, а вы делаете вид, что не замечаете это. Одним словом, хватит с ним цацкаться. Пусть он сегодня же напишет заявление. Я не собираюсь держать в филармонии алкоголиков.
– Если вы уволите Кублинского,– психанул Шварц, заступаясь за приятеля (может, не стояло этого делать?),– я сам подам заявление об уходе.
Швейнику будто того и надо было:
– И подавайте! Немедленно!
Шварц, хлопнув дверью, вышел из кабинета. Скандал в филармонии закончился трагикомически. На место худрука Швейник назначил не кого-нибудь, а... самого виновника конфликта, первого пьяницу в РЭО Александра Кублинского. И бывший друг-приятель, автор "Тихих улочек Риги", на первой же репетиции объявил опешившим музыкантам:
– Все, ребята. Времена Шварца закончились. Начинается новая эпоха Рижского эстрадного оркестра.
Как там в Евангелии сказано: прости их, Господи, ибо они не ведают, что творят.
К счастью, власть Швейника ограничивалась стенами филармонии, за которыми действовали другие законы притяжения. Вот если бы еще и на радио Шварцу был вход закрыт, тогда пиши пропало. А так в Министерстве культуры республики поддержали его идею создать при радиокомитете постоянно действующий симфоджаз в стиле оркестра Монтавани. Этому способствовали два серьезных аргумента: острый дефицит легкой музыки, звучавшей на Рижском радио, и желание создавать свой репертуар, а не прокручивать ленты, которые присылались из Москвы, что тоже внесло бы свою лепту в реализацию национального самопроявления Латвии. В Советском Союзе "симфоджазом" называли эстрадный оркестр с преобладанием струнных инструментов, но играющий в джазовых гармониях. Неотъемлемой чертой отечественного симфоджаза стала и новейшая, только что освоенная система записи музыки – с искусственным "эхом", "холл-эффектом", создающим у слушателя ощущение большого помещения, в котором играет оркестр.
Поддержка свыше позволила Шварцу экспериментировать в области оркестровок, что, в свою очередь, открывало возможность заявить о себе на союзном уровне. В Москве, куда теперь частенько наведывался, Шварц встречается со многими ведущими музыкантами страны: Эдди Рознером, Олегом Лундстремом, Вадимом Людвиковским, Георгием Гараняном, Юрием Саульским. В отличие от латышей, которые и руками и ногами открещивались от всего русского, Шварц, как губка, впитывал все новейшие московские веяния, заводил полезные знакомства на Всесоюзном радио, где показывал свои записи главному редактору эстрадных передач Чермену Касаеву, и на фирме "Мелодия" – с редактором Анной Качалиной и звукорежиссером Виктором Бабушкиным, внедрявшим в запись стереозвук, что было еще в новинку.
Тихий алкоголик Саша Кублинский почти год делал вид, что руководит Рижским эстрадным оркестром, пока директор филармонии товарищ Швейник наконец не осознал свой промах с его назначением. Оркестр разваливался на глазах: дисциплина упала, репертуар не обновлялся, количество концертов заметно снизилось, гастрольные поездки планировались, но не выполнялись. Надо было спасать дело, и Филипп Осипович повел другую игру.
Как-то Яша Штукмейстер позвонил Шварцу:
– Послушай, есть тема для разговора.
– Что будем обсуждать?
– Ты же понимаешь, с Кублинским у нас ничего не клеится. У него то понос, то золотуха. Все недовольны, у ребят никакого роста.
– Ну и что?
– Ты бы не мог вернуться в оркестр?
– Мог бы,– без раздумий ответил Шварц.– А Швейник? У нас с ним конфликт не на жизнь, а на смерть.
– Брось преувеличивать. Ну, повздорили, с кем не бывает. Я с ним говорил. Он, кажется, все понял. И дословно сказал так: "Мы можем найти общий язык, если он, то есть ты, согласен".
– Я стараюсь зла не помнить. Но в этом оркестре сейчас, кажется, некому петь. Музыканты ладно, а солистки-то подходящей нет.
– Давай условимся так. Если ты возвращаешься, я тебе приведу такую певицу – пальчики оближешь. А если не согласишься, то я и показывать не буду.
– Яша, я тебя очень уважаю. Только мало верится, что вы нашли звезду. За мое время работы в оркестре мы прочесали самодеятельность вдоль и поперек. Там никого нет. Где вы могли найти?
– Эгил, что мы с тобой будем зря пререкаться, придешь – увидишь.
– Хорошо, считай, уговорил.
Шварц был прав в том плане, что латышская эстрада на рубеже 50-60-х годов не имела ярких солистов союзного уровня. Хотя по большому счету и сравнивать было не с кем. Те, кто блистал в Москве и Ленинграде, за исключением, быть может, Э. Пьехи, не соответствовали, по его мнению, западным стандартам и вообще представлениям о современном эстрадном исполнителе. Более-менее профессионально в Риге выступали эстонка Айно Балыня с фицджеральдовским репертуаром и студентка консерватории Валентина Бутане, певшая в стиле Нины Дорды и Капы Лазаренко. Был еще Янис Крузитис, работавший на эстраде под Фрэнка Синатру. А дальше – вакуум. Поэтому Шварц был несколько заинтригован: что такого удалось найти Яше Штукмейстеру там, где искать уже нечего? Но и давать пустых обещаний он, знающий себе цену администратор, тоже не будет – Эгил это отлично знал.
16 сентября 1962 года Швейник подписал приказ о назначении Э. Шварца художественным руководителем и дирижером Рижского эстрадного оркестра.
Эта осень ознаменовалась для Шварца еще одним приятственным событием – он вторично стал студентом Рижской консерватории, поступив на заочное отделение в класс композиции Яниса Иванова.
А теперь, дорогой читатель, пора вернуться к нашей героине, которую мы покинули в трудный момент на перекрестке жизненных дорог.
Глава 3
"НА СОЛНЕЧНОМ ПЛЯЖЕ В ИЮНЕ..."
"Падн ми бойз".– Солистка РЭО.– Мистика Юрмалы.– Как начиналась любовь.– Эмиссары из Москвы.– Всесильный Швейник.– Рядовой Шварц.– Прощай, Рига..
– Ларочка, подойди к телефону,– Лидия Григорьевна положила трубку на тумбочку,– тебя просит какой-то Штукмейстер.
– Мама, что значит "какой-то"! Это из филармонии.
Сердечко Ларисы затрепетало. Она давно ждала этого звонка.
Экзамены в иняз легкомысленно пропущены, год пропадал, на карту поставлено будущее.
– Ларисочка, надеюсь, вы меня не забыли,– заворковал в трубке жизнерадостный голос директора РЭО.– Извини, долго не звонил. Зато для тебя хорошая новость. На неделе намечается прослушивание, приглашаю тебя попробовать свои силы.
– А что надо петь?
– Да все что хочешь. Ты, кажется, готовила песни Володи Хвойницкого? Можешь даже их.
– Ой, боюсь я.
– Не переживай, малышка, комиссия настроена к тебе очень благожелательно.
Историческое прослушивание состоялось через два дня в зале филармонии. "Комиссию" представлял в единственном числе господин... пардон, тогда еще товарищ Шварц. За рояль сел 18-летний паренек Леня Зеликсон (потом он будет работать в ансамбле Мондрус в Москве). Но среди немногих слушателей находились опытные "жуки": сам Швейник, директор РЭО Яша Штукмейстер, конферансье ансамбля Гарри Гриневич и композитор Хвойницкий. Хотя, что касается последнего, Лариса вовсе не собиралась петь его песни. Она наметила для себя такой сборный итальяно-польско-французский репертуар. И все же, выйдя на сцену, заколебалась, с чего начать. Может, действительно с Хвойницкого? А то еще провалят сразу...
– Деточка, да ты не волнуйся,– раздался из полумрака хорошо поставленный голос Швейника.– Тут все свои люди. Покажи нам, что ты умеешь.
Лариса подошла к Зеликсону, показала ноты, пошепталась, и вдруг волнение как рукой сняло, она почувствовала себя в роли опытной артистки. Мондрус исполнила полностью один лирический опус Хвойницкого и с сознанием выполненного долга перешла к своим излюбленным западным шлягерам. Причем каждую песню показывала кусочками, куплетами: одну на польском языке, другую – на итальянском, третью – на французском, демонстрируя слушателям весь спектр своих возможностей, вокальных и репертуарных.