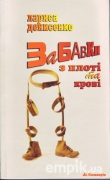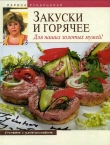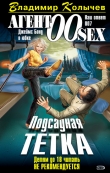Текст книги "Лариса Мондрус"
Автор книги: Савченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
В возрасте тинэйджера Лариса уже ощущала себя настоящей певицей, у нее открылся яркий, гибкий, не похожий на других голос. И здесь главным учителем, после мамы, стала для нее Дина Петровна Нарст, аккомпаниатор школьных уроков физкультуры. Тогда эти занятия в учебных заведениях Риги шли под живую музыку. Дина Петровна не жалела времени для своей ученицы: занималась с ней постановкой дыхания, давала уроки сольфеджио, показывала, как надо держать себя на сцене, подбирала репертуар, помогала разучивать опереточные партии для школьных концертов.
Часто Лариса приходила к ней домой. Дина Петровна жила одна, занимала крохотную каморку в коммуналке, заселенной сплошь латышами. Невеселое было соседство. Латыши часто ругались между собой, но все вместе терпеть не могли одинокую беззащитную женщину и постоянно устраивали ей скандалы на кухне – то за игру на фортепиано, то за вокализы ее учеников, то просто ни за что, от дурного настроения.
Муж и сын Дины Петровны погибли в гитлеровском гетто. В комнатке на стене висела большая мутная фотография: Дина Петровна держит за руку маленького мальчика. "Почему она такая неясная, как в тумане?" – спрашивала Лариса. Выяснилось, что это во много раз увеличенная копия – единственное, что осталось у Нарст от прошлой жизни. Да и сама она попала под расстрел, но чудом выжила. Только раненная, она упала в яму поверх трупов, а ночью кое-как разгребла землю и выбралась наверх. Ее приютила какая-то латышская семья и прятала до конца войны, хотя укрывать евреев было смертельно опасно.
Когда-то Дина Петровна получила хорошее образование, кончила консерваторию, но война помешала ей стать концертной пианисткой, и теперь она подрабатывала на жизнь аккомпаниаторством в школах и Домах культуры.
Однажды Дина Петровна привела Ларису в Дом культуры строителей, размещавшийся в здании, которое остряки называли "сталинским тортом" (типа московских высоток), и показала ее своей подруге Сильвии Будо, известной в Риге балерине. Будо вела в ДК балетную студию – старшую и младшую группы. Девочка ей понравилась своей пластикой, гибкостью. Занятия танцами увлекли и Ларису, но лишь на время. Вскоре ее новым увлечением стал театр. Не менее известный в городе драматический актер Жан Пшекулис, на пару со своей женой, организовал в том же ДК "Театральную студию народных талантов", с двухгодичным обучением. Студийцы постигали основы системы Станиславского, играли этюды и отрывки из спектаклей, импровизировали. Когда приступили к постановке пьесы Н. Хикмета "Дамоклов меч", Ларисе поручили роль цветочницы и даже специально для нее вставили песенный номер. Она пела в спектакле:
Купите фиалки... Вот фиалки простые...
Взгляните, как ярки, они словно живые...
Посещая студию, Мондрус улучшала и свой латышский язык. Это не было само собой разумеющимся, потому что в культурной жизни Латвии издавна царил сепаратизм: русские – отдельно, латыши – отдельно. Вроде все вместе где-то встречаются, проводят общие мероприятия, а в то же время, скажем, в университете существовали параллельные группы, латышские и русскоязычные.
Заглядывая в прошлое, приходишь к выводу, что студия народных талантов сыграла существенную роль в артистическом становлении Мондрус, так и не получившей специального высшего образования. На всю жизнь Лариса запомнила слова Пшекулиса: "Если ты говоришь даже шепотом, то твой шепот должен быть слышен в конце зала". Она научилась эффективно пользоваться своим голосом, особенно когда пела без микрофона. Не хотелось орать, "драть глотку" – хотелось, чтобы голос был легким, полетным и доносился отчетливо до самого дальнего слушателя.
Менялись и повторялись времена года, незаметно пролетала школьная жизнь. Зубрежные будни скрашивались праздничными вечерами, выступлениями на "взрослой" сцене, участием в конкурсах и соревнованиях, которые нередко проводились не только в Риге, но и за пределами Латвии, к примеру, в Киеве или Москве. Ей доверяли защищать честь школы, она охотно соглашалась, поскольку можно было официально пропускать занятия. Палка о двух концах, конечно. Пропуски ведь вели к отставанию в программе. В восьмом классе математичка Прасковья Михайловна грозилась поставить Мондрус двойку за год за "систематическую неуспеваемость". Это было чревато оставлением на второй год. Дело разбиралось на педсовете. За "нерадивую" ученицу, как рассказывала присутствовавшая там Дина Петровна, вступилась сама директриса школы Лариса Ивановна. "Вы не имеете права не пускать дальше такую способную девочку,– выговаривала она Прасковье Михайловне.– Вы же видите, девочка талантлива в других областях. Математика ей в жизни точно не нужна будет. Так дайте ей хотя бы несчастную тройку".
Тройку Мондрус поставили и перевели в девятый класс. Однако вот насчет математики предсказание директрисы не очень-то сбылось – сейчас Лариса ведет всю бухгалтерию в своем магазине и прекрасно подсчитывает ежедневную выручку.
Молва о способной начинающей певице из 22-й школы распространялась по всей Риге. На вечера, проводимые там, стали приходить ребята из других школ – послушать новоявленную "звезду".
Программа Мондрус состояла из популярных песен ее кумиров – Лолиты Торрес, Имы Сумак, Ива Монтана. Особенно она любила выдавать на сцене модуляции в стиле Лолиты Торрес из фильма "Возраст любви". В поисках подходящего незатасканного отечественного репертуара ей много помогала Дина Петровна. Где-то она раздобыла для своей ученицы чудесную песенку "Мадагаскар". Всегда шумливая рижская молодежь мгновенно замирала, когда Лариса Мондрус с печалью в голосе начинала петь:
Есть в Индийском океане остров,
Название его – Мадагаскар.
Томми, негр саженного роста,
На клочке той суши проживал.
В лодку к белой Дженни он садился,
Когда закат над морем догорал.
Тихий голос над водой струился,
Это негр тихонько напевал:
"Мадагаскар, страна моя,
Здесь, как и всюду, придет весна.
Мы тоже люди, мы тоже любим,
Хоть кожа черная у нас, а кровь красна..."
Дине Петровне мечталось, что ее Ларочка непременно будет учиться в консерватории. Она даже представила Мондрус профессору Александру Вилюманису, известному баритону, солисту Латвийского оперного театра. Он вел в консерватории вокальный класс. Прослушав Ларису, профессор выразил удовлетворение: "Голос не сильный, но очень музыкальный. После школы я могу взять ее в класс оперетты".
Юная певица была несколько обескуражена таким предложением. Интуитивно Лариса ощущала, что оперетта не ее стихия – там партнеры, дуэты, ансамблевое пение, а ей виделась эстрада, где в свете юпитеров она будет царствовать единолично, где любовь и аплодисменты публики будут предназначаться только ей одной.
– Когда я пела "Мадагаскар", люди плакали,– вспоминала Мондрус.– И я вдруг осознала, что могу из любого текста, если в нем есть хоть капля чувства, сделать нечто важное и заставить зал слушать меня. Я никогда не начинала выступлений с песен типа "Эх, валенки, да валенки", а наоборот старалась сфокусировать внимание публики с заведомого "пьяно". И если ставила задачу поведать слушателям трогательную историю и заставить их уронить слезу, то мне это удавалось практически всегда.
Популярность Мондрус росла. В 22-ю школу уже наведывались профессиональные музыканты, рыщущие по городу в поисках халтурки. Иногда на школьных вечерах выступал даже со своими лабухами известный в Риге джазист Зигурдс Резевкис. Ребята играли культовый "Караван" и другие самые модные эстрадные шлягеры. А уж аккомпанировать Ларисе Мондрус, когда она пела на чистейшем польском "Ах, сердце мое, пик-пик-пик..." или на английском "Бринь бэк, бринь бэк, о бринь бэк, май бони ту ми" было для них сплошным удовольствием. Солистка демонстрировала настоящий западный стиль – это вам не то что рижский дуэт сестер Вамбуте, чья так называемая популярность ограничивалась рамками сугубо "официальной" эстрады.
Удивительно и другое. Образцовая 22-я школа умудрялась найти деньги, чтобы заплатить "бэнду" Резевкиса как раз за то, что он своей музыкой идеологически "растлевал" молодежь, выбивая синкопами из неокрепших юнцов советское мировоззрение. А ведь оно с таким трудом вдалбливалось в головы учащихся. Один такой вечер, да еще с участием Ларисы Мондрус,– и год учебы насмарку.
Ловлю себя на мысли, что до сих пор ничего не сказал об окружении Ларисы, имея в виду ее сверстников. Без этого у читателя может сложиться впечатление, что друзей она не имела, а одноклассники старались держаться от "звезды" на расстоянии. Все с точностью до наоборот – Мондрус была душой любой компании, отсутствием особого внимания со стороны мальчиков тоже не страдала.
По соседству с Мацлияками, на улице Лачплеша, проживала семья Лекухов. Их дети, Элик и Дина, с ранних лет проводили с Ларисой время в одном дворе. Вместе играли, росли и взрослели. В 1968 году Лекухам удалось, что было еще весьма экстраординарно, добиться эмиграции, и они уехали в Штаты. "Семидесятники", ловившие втихаря на своих "Спидолах" запретные радиостанции, помнят, наверное, долгожданную, прорывавшуюся сквозь помехи фразу: "Вы слушаете "Голос Америки", у микрофона Авива Лекух..." Это начинала свой обзор жена Элика, друга детства и юности Ларисы Мондрус.
Другим близким человеком, лучшей подружкой Ларисы была ее одноклассница Рая Губкина, сыгравшая прямо-таки историческую роль в жизни моей героини. Начну с того, что она научила Ларису целоваться – занятие в юности очень и очень важное. В десятом классе за Мондрус пытался ухаживать ее сосед по парте Рафа Черняк, маленький уродливый мальчик, похожий на карлика. Он был настырен, как молодой Пушкин, ходил за Ларисой по пятам, посвящал ей стихи, подбрасывал записки с признаниями. Она злилась и не отвечала ему. Извечная коллизия прекрасного и безобразного.
В ДК строителей, где Лариса занималась в театральной студии, ею увлекся юноша "со стороны" и отнюдь не школьник – Марик Цуканов. Он-то вызывал симпатию у Мондрус, и она постаралась, чтобы Марик обратил на нее внимание. Не зря говорят: не мы выбираем, а нас выбирают. Несколько встреч, кино, мороженое, танцплощадка... Что дальше? Наконец, перед очередным свиданием Рая Гуткина озадачила Ларису:
– Пора вам начать целоваться. Ты умеешь это делать?
– Не-ет,– растерялась Лариса,– не пробовала.
– Тогда я тебя научу. Садись и смотри. Ты открываешь рот... вот так... и прижимаешься губами к его губам. Понятно?
– Ага.
– А языком упираешься в его язык.
– А если он не будет языком?
– Не переживай, будет. Он уже не мальчик.
Когда явился Марик, Гущина усадила его рядом с Ларисой и без стеснения принялась дирижировать:
– Так, начинайте.
Для наглядности она даже сама открыла рот, показывая своим "подопытным", что надо делать. Марик чуточки опешил от бесцеремонности подруги.
– Сначала у нас получился такой детский, совершенно невинный поцелуйчик,– смеясь рассказывала мне Лариса.– Прямо как в детском саде. А когда я нечаянно раскрыла рот, этот Цуканов так впился в меня, устроил такой засос, что сперло дыхание и закружилась голова... С Мариком я дружила года два, но близости у нас не возникло. Мама мне твердила: "Лара, никаких отношений, сперва нужно закончить школу". И я следовала ее наказу – таково было мое воспитание.
Мондрус заканчивала одиннадцатилетку, и на горизонте замаячил вопрос: что делать дальше? Помните, как в том стихотворении Маяковского:
У меня растут года
будет мне семнадцать,
Где работать мне тогда,
чем заниматься?..
В Риге построили завод полупроводников, и отчим уцепился за сей факт:
– Вот, Ларочка, куда тебе нужно определяться. Пойдешь трудиться будут деньги, мы вечно тебя кормить не сможем. А там девочки работают на конвейере, в белых халатиках, все красиво, чисто...
О какой-то артистической перспективе для дочери Гарри Мацлияк не помышлял. Считал, что девичьи увлечения пройдут сами собой.
Мама советовала поступать в иняз. Лариса склонялась к тому же, прикидывая, что, если она каким-то чудесным способом не попадет сразу на профессиональную сцену, то делать нечего – придется уповать на запасной вариант, идти в институт. Любимой школьной учительницей была для нее преподавательница английского языка Фаина Валентиновна, знавшая свод предмет в совершенстве. Лариса трепетно относилась к ее урокам и потому преуспела в английском на порядок выше, нежели одноклассники.
Пока продолжались раздумья, в ситуацию вмешалась энергичная Губкина. Она позвонила своей приятельнице – молодой, но уже вышедшей в "примы" балерине из оперного театра: "У меня есть безумно талантливая подружка Лариса Мондрус. Ты еще услышишь это имя. Она потрясающе поет. Нельзя ли ее куда-нибудь пристроить? Может, у тебя есть адрес какого-нибудь композитора, который сумел бы ей помочь?.."
Такой человек, к счастью, нашелся. Всех рижских композиторов условно можно было разделить на две категории: "этаблированных" то есть уже получивших определенное признание, и тех, кто еще пытался проникнуть в элитный круг. К последним принадлежал некто Хвойницкий, сочинитель средней руки, но с большими претензиями. Мондрус оказалась для него сущей находкой. Он вручил ей пачку нот с песнями, которых никто не пел, и заставил выучить под рояль: "Я хочу показать их в Рижском эстрадном оркестре". Так Лариса впервые услыхала название ансамбля, с которым – она еще не ведала того начнется ее профессиональная карьера.
Песня Хвойницкого ей откровенно не понравились, но отступать было некуда. Эти спесивые авторские амбиции под лозунгом "пой, что дают, а не то, что хочешь" сопровождали ее долго, может быть, всю творческую жизнь. Стоило ей познакомиться с каким-нибудь композитором – будь то Эдди Рознер в Москве или Ральф Зигель в Германии,– как маэстро сразу предлагал в качестве "обязаловки" образцы своего сочинительства. Но Хвойницкий в тот момент доказал и свою полезность. На очередную встречу с Мондрус он пригласил директора Рижского эстрадного оркестра Яшу Штукмейстера, человека доброго, знающего и с собачьим нюхом на новые таланты. После прослушивания Штукмейстер сказал Ларисе:
– Да, девочка, поешь ты неплохо. Даже хорошо. И если в оркестре за дирижерский пульт станет человек, которого мне хотелось бы там видеть, то оч-чень возможно, что я тебе позвоню. Надо, девочка, немного подождать.
Осталась позади школа, уходило лето. На носу экзамены в институт, вот-вот закончится прием документов. Время поджимает, а Штукмейстер не звонит, будто в воду канул... Может быть: забыл о ней? Хвойницкий тоже как сквозь землю провалился, молчит, ждет наверно. Но ему-то спешить некуда, у него другое ощущение времени. А Ларисе надо что-то решать: либо подавать в иняз, либо верить в удачу и упорно ждать своего часа. Только бы не вышло, как в поговорке "за двумя зайцами погонишься..." – тогда год как минимум будет упущен. А для юности – это целая вечность.
Законы жанра требуют от меня оставить героиню в мучительном раздумье, хотя бы на время, и переключиться на иные персонажи книги. Так я, пожалуй, и поступлю.
Глава 2
"СЕГОДНЯ ОН ИГРАЕТ ДЖАЗ..."2
Эгил – потомок викингов.– Золотые времена падеграса.– Раймонд по прозвищу "Паулюс".– "Ригас эстрадес оркестрис".– Провал на конкурсе.Знакомство с "органами".– Роковой Яша Штукмейстер.
В 40-е годы в Латвии, как и других прибалтийских странах, насильственно присоединенных к СССР, произошли существенные демографические изменения. Большая часть интеллигенции, спасаясь от большевистской кабалы, подалась в "тримду", т. е. на чужбину. Прочих – оставшихся, но недовольных новой властью,– без хлопот рассеяли по лагерям бескрайнего ГУЛАГа. Поляризация населения по идеологическому признаку резко обозначилась с началом немецкой оккупации Прибалтики. Одни (в основном молодежь) приветствовали западных "братьев" и шли служить в Латышский легион, другие (просоветски настроенные элементы) сбегали в спешке в Россию. Больше всех в этой неразберихе пострадали евреи, их-то уж никто не спрашивал, "за большевиков они или за коммунистов". Кто попал сразу под расстрел, а кто для начала в концлагерь.
После войны, несмотря на все беды, Латвия активно восстанавливала свой разрушенный менталитет. Находясь в жесткой сцепке "союза нерушимого республик свободных", советским лимитрофам трудно, практически невозможно было каким-то образом проявлять уже ущемленную национальную гордость, но маленькая Латвия, как оказалось, нисколько не утратила национального самосознания и даже тогда не пыталась демонстрировать Москве какие-то верноподданнические чувства. Она показала себя самодостаточным организмом, способным к выживанию в любых условиях без какой-либо фальшивой адаптации.
Возвращались на родину репрессированные латыши, бывшие военнопленные, а также бежавшие из немецкой армии. Налаживался быт, оживлялись мелкая торговля и ремесленничество. Возникла широкая прослойка зажиточных граждан, могущих позволить себе культурное времяпрепровождение в ресторанах и других злачных местах. На Латвию в конце 40-х уже накатывались новые волны репрессий, но на фоне всеобщего подъема это как-то не замечалось теми, кто наслаждался благами мирной жизни.
В Риге снова открывались в большом количестве рестораны, память о которых жила еще с 30-х годов. Для многих музыкантов послевоенного поколения профессиональная стезя тоже начиналась именно с ресторанной эстрады. Репертуар, который они пользовали, выстраивался и за счет запасов прошлого, и благодаря большому количеству нотного материала, поступавшего в Латвию во время войны.
Помимо того, музыканты на слух переписывали модные танцевальные мелодии, передававшиеся на средних и длинных волнах радиостанциями Штутгарта, Стокгольма, Белграда. Собственно, вкус и потребителей и самих исполнителей теперь формировался на американо-европейской мешанине, звучавшей ежедневно в эфире. Так называемый советский джаз в расчет не принимался.
В начале 50-х годов в Риге гастролировал музыкальный коллектив Леонида Утесова (дирижер – молодой Вадим Людвиковский), но, по сути, это была эстрадная разновидность духового оркестра, "размягченного" четырьмя скрипками. Единственным номером, похожим по звучанию на джаз, являлась у москвичей пародия на рок-н-ролл. В тех условиях играть нечто похожее на западный джаз разрешалось только под соусом издевательства, музыкальной карикатуры на растленную американскую действительность. Но музыканты Утесова исполняли эту своеобразную сатиру с очевидным энтузиазмом, и публика принимала ее с пониманием и воодушевлением. Вообще отношение к джазу, бытовавшее в СССР, наглядно иллюстрируется забавной расшифровкой аббревиатуры ДЖАЗ, придуманной трубачом рознеровского оркестра Ю. Цейтлиным: "Слева направо, как понимают друзья джаза: динамично, живо, абсолютно здорово. Справа налево – недруги джаза: заумные абстрактные жалкие диссонансы. Они же слева направо: дешево, жеманно, аморально, запретить! Мнение зрителей, слева направо: джаз жмут, а зря! Мнение обывателя, справа налево: зашел, ахнул, жаль денег! Наше мнение слева направо: доходчиво! жизнерадостно! актуально! занимательно! Или справа налево: зритель аплодирует, жаждет джаза!!!" Шутка, конечно, но доля истины в ней имеется.
В конце 1954 года студенты Рижской консерватории специально для новогоднего вечера организовали "биг-бэнд", ориентированный исключительно на западный репертуар. Руководителем оркестра стал пятикурсник по классу композиции Рингольдс Оре. Место за роялем занял первокурсник Раймонд Паулс, малорослый большеголовый паренек, который еще школьником играл вместе со взрослыми в ресторанах и был технически очень продвинут. В роли первого саксофониста выступил второкурсник Гунар Кушкис. Вообще он учился по классу скрипки, но как музыкант ярко выделялся, играя на духовых. Звучание всей саксофонной группы один к одному дублировало тот джаз, который студенты ловили на радиоволнах из Германии и Скандинавии.
Однако мой пристальный интерес вызывает первокурсник, игравший в "биг-бэнде" на контрабасе. Его звали Эгил Шварц, и он имеет, как нетрудно догадаться, непосредственное отношение к моей лучезарной героине.
Эгил Шварц родился в Риге, в семье домохозяйки латышки Герты и "конвертируемого" (т. е. перешедшего в христианство) еврея Язепса, в молодости евангелистского проповедника, а потом преподавателя гимназии в Валниера. Язепс Шварц умел играть на фортепиано и обожал музыку Вагнера. Наверное, поэтому своему сыну Эгилу он дал и второе имя – Гурнеманц (так звали рыцаря из оперы "Парсифаль"). В первый год немецкой оккупации Язепс был расстрелян латышскими фашистами.
После войны школьника Эгила Шварца вместе с Раймондом Паулсом в порядке конкурсного отбора приняли в Специализированную музыкальную школу имени Э. Дарзиня. После ее окончания Шварц поступил в консерваторию в класс контрабаса, который вел педагог Вильгельм Кумберг, пожилой человек колоритной внешности, из прибалтийских немцев. Он играл в оркестрах Риги и Юрмалы еще до Первой мировой войны, и тоже на контрабасе. Выдержав конкурс, работал несколько лет в Карпинском, после революции вернулся в Ригу, устроился концертмейстером на радио, потом перешел в оперный театр. Кумберг имел драгоценную коллекцию смычков, а в Риге после войны ничего нельзя было достать – ни смычков, ни струн, ни даже инструментов
Попав как-то к нему домой, студент Шварц был потрясен.
– Неужели все это богатство – довоенная коллекция?!
– Да, мой юный друг.
– Подумать только! Еще из мирных 30-х годов!
– Да нет,– слегка остудил его воображение Кумберг.– "Мирные" тридцатые уже не являлись таковыми. Благополучная жизнь тихо закончилась еще в 20-х. А если я говорю о довоенных временах, то имею в виду до начала Первой мировой. Тогда я и собрал эту коллекцию.
Профессиональное становление Эгила Шварца и его товарищей происходило в причудливом переплетении двух составляющих: добропорядочного влияния старых мастеров, переживших эпоху независимой Латвии, и повального, несанкционированного увлечения студентов современными заморскими мелодиями. Применительно к последнему замечу, что мало было слушать, затаив дыхание, западную музыку, требовалось еще оперативно подхватывать ее, как-то фиксировать. Магнитофоны пока не водились. Но инженер фабрики "Радиотехника" энтузиаст джаза Янис Лицидис сконструировал дома самодельный аппарат, на который по ночам записывал с эфира чужеземную музыку. К Янису привела Шварца и компанию миловидная Ирен Рейншюсель, немка по происхождению, студентка композиторского факультета, сама страстно увлекавшаяся джазом. Она просто тянула Эгила за рукав и восторженно шептала на ухо: "Послушай, какая музыка! Это что-то совсем другое. Как они играют!" А из недр допотопного, домашней конструкции магнитофона звучали далекие оркестры Глена Миллера, Гарри Джеймса, Стэна Кентона, квинтета Ширинга.
Гунарс Кушкис, обладавший абсолютным слухом и завидной памятью, моментально "калькировал" услышанные мелодии, которые потом нота в ноту игрались на танцевальных вечерах в консерватории.
Эгил не помнит, как он познакомился с Ирен Рейншюсель. Кажется, на студенческих танцульках. Они были беспечны и жизнерадостны, и мир открывал им свои просторы и тайны. Никто не думал о том, что молодость стремительно умчится в неизвестные дали, и тем более не предполагал, что Ирен покинет страну, но спустя многие годы пути их снова пересекутся, и она сыграет важную роль в судьбе Эгила Шварца. Но об этом позже.
После ухода получившего диплом Рингольдса Оре студенческий биг-бэнд возглавил Эгил Шварц. Этого ему показалось мало. Через некоторое время он организовал, почти в том же составе (Р. Паулс, Г. Кушкис и др.), самодеятельный молодежный джаз-оркестр при ДК строителей с обязательными (два раза в неделю) репетициями и регулярными выступлениями в развлекательных программах. В качестве певца на танцевальных халтурках нередко появлялся эстонский студент Бруно Оя – красивый, высокий и ладный парень, исполнявший американский репертуар. Люди, знавшие английский, говорили, что Бруно поет абракадабру. И он тоже по воле случая пересечет несколько раз дороги Шварца; правда, эти встречи не будут содержать в себе ничего судьбоносного. Так, прихоть теории случайностей.
Заметной фигурой в музыкальной жизни Риги середины 50-х годов стал композитор и аранжировщик Лев Токарев. Он приехал туда после войны и при студии грамзаписи организовал, так сказать, на волне дружбы с союзниками джазовый оркестр, которым руководил почему-то под странным псевдонимом Синкоп.
После войны, когда Сталин отклонил американский "план Маршалла" и запретил всему соцлагерю принимать экономическую помощь с Запада, началась эра холодной войны. Над Россией сгустились тучи мрака и невежества. На культурном фронте ужесточился идеологический контроль. Определяющими ориентирами для политических оценок "наше – не наше" стали известные постановления ЦК ВКП(б), в частности "Об опере "Великая дружба", где разгромной критике подверглась всякая современная музыка, будь то академический жанр или так называемый "легкий". Был запрещен джаз как продукт ненавистной американской культуры. Зеленый свет давался только окаменевшей классике, советской песне и народной музыке. Все остальное "чуждые влияния". На танцплощадках, помимо вызывавшего оскомину вальса, внедрялись реанимированные танцы XIX века: падеграсы, краковяки, падеспани.
Попав впервые в Ленинград, 16-летний Шварц неприятно удивился, увидев, как в ДК имени Первой пятилетки оркестр старательно наигрывал "бальные танцы". Причем строго соблюдался расклад репертуара: вначале обязательный вальс, за ним три-четыре образчика замшелого паде-ретро, которое всяк танцевал на свой лад, как подарок – танго, и потом все сначала. Фокстрот – боже упаси, разве что один раз перед самым закрытием. Да я и сам безусым школьником еще застал эти времена, когда в хореографическом кружке при ДК "Строитель" лощеный и набриолиненный, как педераст, балетмейстера (так он себя называл) разучивал с нами этот самый падеграс: "Так, разбились на пары... И-раз-два-три... Раз-два-три..." Мы безропотно колыхались вверх-вниз, двигаясь по кругу танцевального зала. Каким же я тупоголовым был, бр-р...
В Латвии, даже в смрадные годы сталинских репрессий, никто не пытался "разгибать саксофоны" – так же, как и прежде, везде игрались танго и фокстроты. Москва до поры до времени мирилась с подобной вольностью: "У них там еще живы остатки буржуазного прошлого, пусть потешатся, ничего, мы скоро искореним эту безыдейщину".
В самом деле, пришла пора – ликвидировали оркестр Льва Токарева. Но до конца выкорчевать корни западного менталитета в Латвии все же не удалось. На проводимых в столице СССР декадах Латвийской республики артисты хора стояли на сцене всегда во фраках, народные латышские песни преподносились в ярко выраженной манере европейского исполнительства. Эстрадные самодеятельные оркестры "свинговали" с западным шиком, невзирая ни на какие запреты.
После смерти "отца народов" цензурные вожжи в стране ослабли, наметилась даже некоторая переориентация музыкальных пристрастий. Появившиеся в Риге пластинки с "марш-фокстротами" В. Людвиковского и А. Цфасмана послужили своеобразным сигналом для официального полнокровного возрождения современных эстрадных оркестров и такой же современной развлекательной музыки. Тот же Лев Токарев, быстро сообразив, что к чему, организовал инструментальный квартет по типу таких же московских ансамблей: кларнет, аккордеон, гитара и контрабас. С инструментами, правда, было по-прежнему плохо, играли на тех, что удалось приобрести еще в довоенные времена – тогда все было доступно и переходило из рук в руки. Только у одного музыканта квартета, Георга Славетскиса, имелся новый инструмент гитара фирмы "Джипсон".
В начале 1955 года квартет под управлением Токарева впервые выступил на Рижском телевидении, передачи которого были пока весьма непродолжительны и шли далеко не каждый день.
Поскольку Эгил Шварц играл на контрабасе в квартете и параллельно руководил самодеятельным молодежным джазом. Лев Токарев был хорошо осведомлен, что происходило в Доме культуры строителей. Он давно уже по-хозяйски приглядывался к этим талантливым молодым музыкантам, имевшим в Риге неизменный успех. Наконец Токарев заявился к "строителям" и, посулив большие блага, переманил почти весь состав Шварца в ДК МВД, где он создавал новый оркестр. Эгила шокировал столь беспардонный грабеж средь бела дня. Токарев его успокоил:
– Ты, Шварц, тоже приходи. Я буду художественным руководителем, а ты – дирижером.
Эгилу едва исполнилось 20 лет, серьезные амбиции еще не соблазняли его, а обиды легко улетучивались. Оставалось только согласиться с Токаревым.
Оркестр ДК МВД просуществовал недолго. Что-то не заладилось в отношениях Токарева с начальством. Музыканты успели сыграть только один концерт и тут же остались не у дел. Сообразительного Раймонда Паулса вдруг осенила свежая мысль, и он сказал Шварцу:
– Давай организуем малый состав типа секстета Бенни Гудмена: ты, я, Кушкис на кларнете, Абелскалнс...
Эдуард Абелскалнс по своему возрасту принадлежал к музыкантам более старшего поколения, но у него имелся, пожалуй, единственный в Риге американский виброфон "Леди", что делало его желанным участником в любом ансамбле.
Предложение Паулса приняли на "ура". Счастливое было время, когда в головах неунывающих компаньонов вспыхивали, как искры, новые идеи, планы, или, как сейчас говорят, проекты. На бесконечных молодежных тусовках непрерывно рождались квартеты, квинтеты, секстеты... И так же скоротечно прекращали свое существование. Но когда что-то создавалось, то обязательно с мыслью, что это всерьез и надолго.
– Я не против,– ответил Эгил Раймонду.– Только почему наш джаз должен звучать на танцах и в кабаках? Давай рискнем играть эту музыку в серьезных местах, скажем, на радио.
Главный редактор музыкальной редакции Латвийского радио и к тому же профессор Рижской консерватории Янис Иванов к идее своих подопечных отнесся весьма благосклонно.
Небольшое пояснение. Предлагая идею насчет секстета, Паулс имел в виду, что новый ансамбль будет играть и его сочинения. В своей излюбленной манере, как бы с большой неохотой, он бурчал Шварцу: "Знаешь, я тут левой пяткой написал танцевальную пьеску... Что ты скажешь?.. Мы могли бы ее сыграть, записать..." Эгил удивлялся: он знал Раймонда, которого, кстати, музыканты между собой называли "Паулюсом", как хорошего исполнителя, а тут вдруг проявились композиторские замашки. Однако Паулс сыграл на рояле свою "медленную румбу" Я. Иванову, и тот дал "добро".