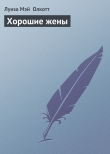Текст книги "Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй"
Автор книги: Ланьлинский насмешник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 122 страниц)
– Семь с половиной десятков.
– О, вы еще такой бравый для своих лет, – заметил Симэнь. – Позвольте узнать ваше монашеское имя.
– В монашестве я зовусь Даоцзянем,[698]698
Дао-цзянь – означает «В-вере-утвердившийся».
[Закрыть] – молвил настоятель.
– Много у вас послушников?
– Всего двое, – отвечал Даоцзянь. – А в монастыре живут до тридцати посвятивших себя монашескому подвигу.
– Да, монастырь ваш велик и обширен, – заметил Симэнь. – Поправить бы его не мешало.
– Сия обитель, скажу я вам, сударь, – начал настоятель, – была возведена милостивым господином Чжоу Сю, что часто к вам заглядывают. А в ветхость пришла за неимением средств.
– О, это, оказывается, и есть обитель спасения почтенного Чжоу, столичного воеводы! – воскликнул Симэнь. – То-то, помнится, и его поместье отсюда невдалеке. Не печальтесь, отец! Попросите господина Чжоу, пусть откроет лист пожертвований, а добродетели найдутся. Да и я для святой обители денег не пожалею.
Даоцзянь, поспешно сложив на груди руки, благодарил Симэня, а тот велел Дайаню достать лян серебра.
– Простите, побеспокоили мы вас, отец настоятель, – извинялся Симэнь, протягивая серебро.
– На нас просим не быть в обиде, – отвечал настоятель. – О вашем прибытии не знали, а то бы трапезу как-нибудь устроили.
– Можно пойти переодеться? – спросил Симэнь.
Настоятель велел послушнику открыть дверь во внутренние покои. Симэнь пошел переодеваться и обнаружил за ними обширную залу из пяти отсеков для свершения молитв и медитации, где собралось немало странствующих монахов. Они читали священные сутры, время от времени ударяя в деревянную рыбу.[699]699
Деревянная рыба (му-юй) – буддийский ритуальный предмет, состоящий из била в форме рыбы и колотушки с шарообразным набалдашником. Имеет две разновидности: округлую – для выбивания ритма при чтении сутр, или молитв, и вытянутую —для созыва на трапезу или монастырское собрание. Подобная форма этого ритуального предмета вызвана верой в то, что рыбы ни днем ни ночью не смыкают глаз, чему должны следовать взыскующие истину буддисты.
[Закрыть] Симэнь, сам того не замечая, очутился в зале и огляделся. Взор его особенно привлек один диковинного и свирепого вида монах. Глубоко сидящими глазами он напоминал леопарда, цветом лица – лиловую печень. Голову ему обтягивал желтоватый, как цыплячий пух, обруч, а одет он был в кроваво-красную длинную рясу. Щетинистые спутанные усы закрывали ему весь подбородок, ярко блестела бритая голова с шишкообразным выступом на лбу. Словом, причудливой наружностью он напоминал либо живого архата, либо пожирающего огонь одноглазого дракона из дерева. На седалище для медитации он скрючился и застыл в состоянии самадхи.[700]700
Самадхи (кит.: дин) – буддийский термин, обозначающий высшую духовную упроченность, состояние сосредоточенного и очищенного сознания, точно фиксированного на объекте медитации и дающего просветление.
[Закрыть] Его голова свисала, шея была втянута в плечи, из ноздрей тянулись струи, как нефритовые палочки для еды. «Да, этот, судя по небывалой внешности, – почтенный монах и может чудеса творить, – подумал Симэнь. – А ну-ка, попробую привести его в чувство да и расспрошу».
– Откуда родом, почтенный монах? – спросил он. – Из каких краев и куда странствуешь?
Симэнь спросил раз, спросил другой. Монах молчал. Симэнь в третий раз повторил вопросы. И только тогда на своем седалище для медитации монах выпрямился, потянулся, приоткрыл один глаз, подпрыгнул и закивал Симэню головой.
– А зачем тебе знать? – проговорил он хриплым голосом. – У бедного монаха в пути имя не спрашивают, а на месте оно не меняется. Я из Западных краев, из царства Индийского пришел. Есть там дремучий сосновый бор, есть поясничная вершина, а на ней Обитель Холода. Вот оттуда и странствую. Снадобьями лечу, недуги изгоняю. А тебе, чиновный человек, что от меня нужно?
– Раз снадобьями пользуешь, хочу попросить у тебя что-нибудь подкрепляющее мощь телесную. Найдется такое?
– Как же! Как же! – закивал чужеземный монах.
– Тогда, может, ко мне пойдем? – пригласил Симэнь. – Пойдешь?
– Пойду, пойду.
– Тогда в путь! – предложил Симэнь.
Чужеземец встал, взял стоявший рядом железный посох и закинул за спину кожаную суму, из которой торчали две тыквы-горлянки со снадобьями. Они вышли из монастыря, и Симэнь велел Дайаню нанять пару ослов.
– Повезешь отца наставника домой, – распорядился хозяин, – а я немного погодя подъеду.
– Нет, чиновный человек, сам на коня садись, – возразил монах, – а я и пешечком скорей тебя доберусь.
«Да, по речам вижу, чудеса может творить этот почтенный монах», – подумал Симэнь и, опасаясь, как бы не упустить странника, наказал Дайаню неотступно следовать за ним до самого дома, а сам сел на коня и в сопровождении слуг направился в сторону города.
Был семнадцатый день четвертой луны. В этот день родились и Ван Шестая, и Ли Цзяоэр. Поздравить Цзяоэр собрались гостьи, а у Ван Шестой никого не было. После обеда она послала за Симэнем брата Ван Цзина. Ему было велено дождаться у ворот Дайаня и через него пригласить хозяина.
Дайань не показывался, и Ван Цзин простоял у дома добрую стражу. Наконец, из ворот вышли Юэнян с Ли Цзяоэр. Проводив к паланкину хозяйку веселого дома матушку Ли, они заметили паренька. Было ему лет пятнадцать, и на голове торчали хохолки.
– Тебе кого? – спросила Юэнян.
– Я от Ханей пришел, – отвечал Ван Цзин. – Мне бы с братом Анем повидаться.
– Каким Анем? – недоумевала Юэнян.
Оказавшийся рядом Пинъань испугался, как бы парень не выдал Ван Шестую, и вышел вперед.
– Он от приказчика Ханя, – пояснял Пинъань, загораживая паренька. – Ему у Дайаня велели спросить, когда придет приказчик Хань.
Юэнян ничего не сказала и скрылась в воротах.
Немного погодя к дому подошли Дайань и чужеземный монах. Слуга обливался потом, ноги у него ломило. Он проклинал все на свете. Монах же чувствовал себя отлично, как ни в чем не бывало, даже не запыхался.
Пинъань рассказал Дайаню о Ван Цзине, пришедшем с приглашением от Ван Шестой.
– Тут матушка Старшая из ворот показалась, – докладывал Пинъань, – тетушку Ли к паланкину провожает. Гляжу, Ван Цзин как ни в чем не бывало подходит к ней и поклон земной кладет. «Я, говорит, от Ханей». Хорошо я подоспел, в сторону его отозвал. Его, говорю, от приказчика Ханя послали узнать, когда тот вернется. Матушка промолчала, так что тайна осталась тайной. Гляди, не проговорись, если спросит.
Дайань шел, выпучив глаза и непрестанно обмахиваясь веером.
– Вот подвезло мне так подвезло! – говорил он. – И надо ж было этого плешивого арестанта подсунуть! В такую даль вести пришлось! От самого монастыря пешком, без единой передышки. Аж дух захватило! Батюшка осла велел нанять, так этот разбойник, не надо, говорит, и так дойду. А у меня уж ноги не шагают. Туфли вон хоть сейчас бросай. Все ноги намял. Вот задал работенку!
– А зачем его батюшка позвал-то? – спросил Пинъань.
– А я откуда знаю! Какое-то снадобье у него просит.
На улице послышались окрики. К воротам подъехал окруженный свитой Симэнь.
– Наставник, вы и в самом деле святой средь смертных! – воскликнул он, увидев у дома монаха. – Все-таки опередили меня.
Симэнь проводил чужеземца в большую залу и предложил кресло, потом позвал Шутуна. Тот помог хозяину раздеться и подал домашнюю шапочку. Симэнь сел рядом с монахом, который оглядывал высокую и обширную залу, просторный и тихий двор, зеленого цвета дверные занавеси из бамбука, переплетенного «усами креветок», украшенные жемчужинами, с узорами, напоминающими панцирь черепахи, расстеленный по всему полу шерстяной ковер, на котором были изображены играющие с вышитыми мячами львята, стоявший посреди залы четырехугольный черный стол, на ножках которого были вырезаны стрекозы, а по краям – богомолы. На столе покоился окаймленный ажурным орнаментом круглый экран из далийского мрамора с подставкой в виде горы Сумеру,[701]701
Гора Сумеру – в буддийской космографии центр мироздания.
[Закрыть] символизирующий трон Будды. Вокруг стола были расставлены массивные кедровые кресла с резьбою, изображавшей играющих угрей. На стенах с обеих сторон висели писанные на шелку картины-свитки, прикрепленные к бамбуковым стержням с агатовыми наконечниками.
Да,
Там крокодиловых бой барабанов –
ритмом наполнились зала,
И от напитков и фруктов румяных
ломится стол из сандала.
– Вы вино употребляете, наставник? – спросил Симэнь монаха, когда тот оглядел все вокруг.
– И вино пью, и от мяса не отказываюсь, – отвечал чужеземец.
Симэнь распорядился, чтобы постного не готовили, а подавали вино и закуски. Съестного же по случаю дня рождения Ли Цзяоэр припасено было вдоволь.
Накрыли стол. Сперва на нем расставили четыре подноса фруктов, четыре овощных блюда и закуски к вину: рыбу, маринованную утку, жареную курицу и окуня. Затем к рису подали поджаренные с луком мясные фрикадельки, нарезанное тонкими круглыми ломтиками мясо, жирные бараньи колбаски и блестящих скользящих угрей. Немного погодя появился суп, гарнированный причудливой формы яркой колбаской и мясными фрикадельками, который назывался «Игра дракона с жемчужинами». На огромном подносе лежали грудой пирожки с начинкой, открытые сверху.
Симэнь потчевал монаха то тем, то другим, а потом велел Циньтуну принести кувшин с круглой ручкой, клювом-носиком и изогнутым, как у петуха, горлышком. Слуга откупорил красный янчжоуский сургуч, и из горлышка так и хлынуло пенистыми струями вино. Им наполнили высокий кубок-лотос и поднесли монаху. Тот выпил вино залпом.
Подали новые кушанья: мелкие сосиски и маринованные гусиные горлышки. К вину монаху предложили поднос крапчатого винограда и поднос сочных слив с красной мякотью. Наконец принесли огромное блюдо лапши с угрями и голубцов. Пока на столе оставалось съестное, монах уписывал за обе щеки.
– Хватит! Сыт и пьян! – наконец сказал он, и глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит.
Симэнь велел унести стол и попросил у монаха снадобье, помогающее в любовных утехах.
– Есть у меня одно такое, – отвечал чужеземец. – Сам Лао-цзы готовил, Мать Владычица Запада[702]702
Лао-цзы (VI–IV в. до н. э.) – буквально: Старец-мудрец или Старец-молодец, полулегендарный персонаж китайской древности, предполагаемый родоначальник даосизма, которому приписывается знаменитый и загадочный трактат «Дао-дэ-цзин» («Канон пути и благодати»), ставший основополагающим текстом для даосской философии и религии, эротологии и медицины. В религиозном даосизме и народных верованиях Лао-цзы был деифицирован и представлен как высшее божество, имевшее разлисчные ипостаси в разные времена и в разных местах, в частности тождественное Будде. Одно из оккультных воплощений Лао-цзы – хранитель алхимических и медико-эротологических тайн.
Мать Владычица Запада (Сиванму) – особо почитемый даосами персонаж древнейшей китайской мифологии. По преданию, она обитала в западных горах Куньлунь, где росли чудесные персики бессмертия. В эротологических трактатах выступает как хранительница тайн искусства «внутренних покоев», впервые открывшая их людям (ханьскому императору У-ди).
[Закрыть] рецепт сообщила. Недостойному средство это не дается. Только избранные обретают. Радушно ты меня принял, чиновный человек, вот я тебе и уделю несколько пилюль.
Чужеземец полез в суму, вынул горлянку, наклонил ее, и на стол высыпалось более сотни пилюль.
– По одной в раз принимай, никак не больше! – наказывал он. – С подогретым вином.
Он взял другую горлянку и достал комок розоватой мази, весом не больше двух цяней.
– По два ли[703]703
Ли – мера веса, одна тысячная ляна, то есть около 0,04 г.
[Закрыть] бери, никак не больше! – продолжал монах. – При слишком сильном возбуждении двумя руками разомни то, что следует, с обеих сторон над бедрами и осторожно встряхни не менее сотни раз, а затем можно и к делу приступать. Но смотри, принимай скупо и никому не давай.
– Хотел бы узнать, – обеими руками собирая снадобье, обратился к чужеземному монаху Симэнь, – как же оно все-таки действует.
Монах ему на это сказал:
– По форме похоже на куриное яйцо, по цвету – желтое, словно гусенок. Лао-цзы трижды выпаривал, сама Мать Владычица Запада рецепт вручила. По виду будто прах или помет, на деле самоцветов дороже. Нельзя за золото добыть, а нефрит перед ним – что булыжник. Хоть в пурпур облачайся и златом опоясывайся, живи в высоких хоромах-палатах, в шубах гуляй, на сытых конях гарцуй, обладай талантами, служи опорою страны; но достаточно будет с помощью подпруги заправить это снадобье внутрь, чтобы ветром влететь в брачный покой. В этом таинственном гроте не проходит весна и присуще вещам постоянно цвести. Там нерушимы нефритовые горы, ночами излучают свет киноварные поля.[704]704
Нефритовая гора – образ прекрасного человека. Киноварные поля (дань-тянь) – даосское обозначение трех парафизиологических органов, центров жизненной энергии, расположенных внутри тела человека: в нижней части живота, в области пупка и в голове.
[Закрыть] В первом поединке ощутишь подъем духа и семени, в повторном бою укрепишь пневму и кровь.[705]705
Пневма (кит.: ци) – специфический термин китайской медицины, обозначающий основной вид жизненной энергии организма, а также совокупность функций его внутренних органов и тканей. Согласно традиционным китайским представлениям, все четыре организмических компанента: дух, семя (сперматическая эссенция), пневма и кровь имеют единую духовно-материальную, витально-энергетическую субстанцию и потому могут преобразовываться друг в друга, чему, в частности, и учит та эротологическая теория, отзвуки которой слышны в словах монаха.
[Закрыть] Ограничения исчезнут в любовном наслаждении. Пусть дюжина прелестниц разодетых предстанет пред тобой – резвясь по моему рецепту, за целую ночь не притупишь могучее копье. Снадобья прием оздоровит и селезенку, и желудок, наполнит силой почки и сосредоточье ян.[706]706
В китайской медицине почки считались носителями сексуальной энергии и даже объединялись с тестикулами обшим наименованием посредством одного иероглифа «шэнь». Отсюда понятно их сближение со «средоточьем ян», то есь мужским половым органом.
[Закрыть] Сотни дней не поседеет и волос, тысячи суток бодрость пребудет в членах. Окрепнут зубы, и зорче станет глаз, а сосредоточье ян усовершенствуется. Коли не веришь, сударь, в чудесную силу состава, проверки ради посыпь коту с едою. Три дня пройдут в безмерном блуде, потом его охватит сильный жар. Кот из белого станет черным, не сможет ни испражняться, ни мочиться и испустит дух. Летом ложись под ветерок, зимою ванны принимай. Но если изверженье семени утратит меру, то оплешивеешь и исчерпаешь жизненную силу. Только до полутора ли враз принимай и выйдешь несгибаемым из битвы. И после ночи, проведенной с десятком женщин, семенной силы в тебе не убудет. Соперницы в летах нахмурят брови, распутницы не выдержат напора. Когда ж усталость одолеет, оружие сложи и схватку прекрати. Холодною водой рот сполосни, и семенная сила в сосредоточье ян взыграет, чтобы продлить утехи до утра. Весенним цветом.[707]707
Весенний цвет (чунь-сэ) – китайский эквивалент термина «эротика», в буддийском контексте – «чувственная цветоформа (рупа)».
[Закрыть] наполнится ароматная спальня. Даю я снадобье тому лишь, кто понимает толк[708]708
Понимающий толк – это буквально: знающий музыкальные звуки (чжи-инь-кэ). Музыка в Китае считалась главным воплощением и регулятором сексуальности, о чем свидетельствует само обозначение одним и тем же иероглифом как музыки, так и радости-наслаждения. Симэнь свое «знание музыкальных звуков» (фигурально: профессионализм) обнаруживает и самым конкретным образом, используя такие сексуальные приспопобления, как «бирманский бубенчик» и «звонкоголосая чаровница».
[Закрыть] Да укрепит и сохранит оно тебя навек!
Выслушал монаха Симэнь, и захотелось ему узнать рецепт такого снадобья.
– Врача приглашают лучшего, на лекарство спрашивают рецепт, – говорил Симэнь. – Вы, наставник, так и не дали мне рецепта. Где ж вас разыскивать, когда все выйдет? И скажите, наставник, сколько я вам должен?
Симэнь велел Дайаню принести двадцать лянов серебра и еще раз попросил рецепт.
– Я покинул мир смертных, – заявил чужеземный монах. – К чему мне серебро, когда я странствую по всему свету?! Убери!
Он встал, собираясь уходить.
– Если вы не берете денег, я вам дам кусок грубого полотна длиной в четыре чжана,[709]709
Чжан – мера длины равная десяти чи (см. примеч. к гл. I), или приблизительно 3,2 м.
[Закрыть] – предложил Симэнь, видя, что монах не собирается раскрыть ему рецепт снадобья.
Симэнь велел подать полотно и обеими руками преподнес его монаху. Тот сложил руки и, поблагодарив хозяина, направился к двери.
– Скупо принимай! – наказывал он. – Смотри, остерегайся, ох, как остерегайся!
Монах закинул на спину суму, взял в руку посох и исчез за воротами.
Да,
На посохе своем несет
диск солнца и луны.
Пешком в сандальях обойдет
все девять зон страны.[710]710
Девять зон – буквально: девять округов и областей. Из глубокой древности исходит космологическое представление о нормативном делении территории Китая на девять областей в соответствии с аналогичным делением неба и по модели девятиклеточного магического квадрата (ло-шу). Таким образом, выражение «девять областей» стало синонимом «всего Китая».
[Закрыть]
Тому свидетельством стихи:
В Священные земли был послан индийский монах,
Мешок за плечами, а чаша и посох – в руках.
Какой образ жизни теперь не веди, человек,
Увы, без забот не сумеешь прожить ты свой век.
Если хотите узнать, что случилось потом, приходите в другой раз.
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ
ЦИНЬТУН ПОДСЛУШИВАЕТ СЛАДОСТНЫЙ ЩЕБЕТ ИВОЛГИ
ДАЙАНЬ ИДЕТ РАЗВЛЕКАТЬСЯ В ПЕРЕУЛОК БАБОЧЕК
Нам дарит щедрая природа свои румяна,
Дыханью ветерка с востока смеемся пьяно.
Предел всем радостям возможным достойный знает,
Но никаких границ распутник знать не желает.
И притязания красоток подчас безмерны:
К мужчинам льнут, их страсти будят – как это скверно!
Соблазнов много в бренном мире, невзгод немало.
Навек уйти к зеленым рощам есть смысл, пожалуй! …
Итак, настал день рождения Ли Цзяоэр. Монахиня Ван из монастыря Гуаньинь пожаловала вместе с монахиней Сюэ из монастыря Лотоса, которая привела с собою двух послушниц – Мяофэн и Мяоцюй.
Услыхав о прибытии наставницы Сюэ – монахини, известной своим подвижничеством, Юэнян поспешила ей навстречу. Высокая и полная монахиня была в длинной чайного цвета рясе. Наголо обритую голову ее прикрывала чистая монашья шапочка, а отвисший подбородок делал похожей на раскормленную свинью. Сюэ сложенными руками приветствовала вышедших хозяек.
– Вот, матушка, хозяйка, – указывая на Юэнян, сказала ей мать Ван.
Юэнян и остальные хозяйки поспешно отвесили ей земные поклоны. Монахиня то вдруг вздымала брови, оглядывая хозяек проницательным взором, то напускала на себя важный вид и начинала говорить как по писаному, чеканя каждое слово. Хозяйки, обращаясь к ней, называли ее почтенной матерью Сюэ, она же величала Юэнян то бодхисаттвой[711]711
Бодхисаттва (санскр.: существо, стремящееся к просветлению; кит. транскрипция: пуса) – буддийский святой, совершенная личность, достигшая высшего состояния – нирваны и статуса будды, но самоотверженно верувшаяся в круг перерождений, в бренный мир ради помощи в спасении другим живым существам.
[Закрыть] в миру, то досточтимой сударыней. С особым благоговением относилась к монахине Юэнян.
В гости пришли также старшая невестка У и золовка Ян. Юэнян распорядилась подать чай. Большой стол ломился от изысканных постных яств и солений, овощных кушаний и всевозможных сладостей. Угощение на сей раз было отменное, совсем не похожее на те, какие устраивались обычно. За столиком неподалеку от наставницы закусывали послушницы Мяоцюй и Мяофэн, скромные девицы, которым было не больше четырнадцати или пятнадцати лет.
После чаю все прошли в покои Юэнян, где она, Ли Цзяоэр, Мэн Юйлоу, Пань Цзиньлянь, Ли Пинъэр и дочь Симэня внимательно слушали проповедь монахини Сюэ.
Между тем Хуатун принес из передней залы посуду.
– Ушел монах, который ест скоромное и пьет вино? – спросила, завидев слугу, хозяйка.
– Батюшка только что проводил, – отвечал Хуатун.
– Где ж это такого монаха разыскали? – поинтересовалась госпожа У.
– Хозяин инспектора Цая провожал, – поясняла Юэнян, – из загородного монастыря и привел. Мясо ест и вино пьет. Какое-то снадобье хозяину оставил. Давали деньги – не берет. Что за монах такой, ума не приложу. Целый день за столом просидел.
– Отказ от скоромного – заповедь нелегкая, – услышав их разговор, начала наставница Сюэ. – Мы, монахини, еще блюдем сей завет, монахи же на него рукой махнули. А ведь в Великой Сокровищнице Канонов[712]712
Великая Сокровищница Канонов (кит.: Да-цзан-цзин; санскр.: Трипитака, буквально: Три корзины) – полное собрание священных текстов буддизма, состоящее из тысяч томов.
[Закрыть] сказано: за каждый кусок и за каждый глоток взыщется в жизни грядущей.
– А мы вот каждый день мясо едим, – заметила старшая невестка У. – Сколько же греха на душу принимаем!
– Вы, почтенные бодхисаттвы, совсем другое дело, – успокаивала монахиня. – Вы подвигами предшествующей жизни вашей себе благоденствие и обилие снискали. Да пожнет урожай только тот, кто по весне сеял.
Но не будем передавать их разговор, а расскажем о Симэнь Цине.
Когда он проводил чужеземного монаха, к нему обратился Дайань.
– Тетушка Хань своего брата сюда присылала, – зашептал слуга. – У нее день рождения, вас зовет, батюшка.
Симэнь и без того горел желанием испробовать снадобье.
Приглашение подоспело как нельзя кстати, и он приказал Дайаню седлать коня, Циньтуну – отнести кувшин вина, а сам забрал из спальни Цзиньлянь узелок с приспособлениями для утех, надел легкое платье и, укрыв лицо глазной повязкой, в сопровождении Дайаня направился к Ван Шестой. Спешившись у ворот, он распорядился, чтобы Циньтун оставался при нем, а Дайаню велел верхом скакать домой.
– Будут спрашивать, – наказывал Симэнь, – скажешь: на Львиной, мол, счета подводит.
– Слушаюсь! – отозвался Дайань и, вскочив на коня, поспешил домой.
Вышла Ван Шестая в бледно-зеленой безрукавке, легкой летней кофте и юбке, отделанной по поясу белой бахромой. Ее прическу держали серебряная сетка и золотые шпильки, формою похожие на улиток. Жемчужные серьги и украшения из перьев зимородка обрамляли овал лица. Ван Шестая отвесила Симэню земной поклон и присела рядом с ним.
– Я пригласила вас, батюшка, посидеть и отдохнуть, – говорила она. – Благодарю за вино.
– Я только что за городом был на проводах, – объяснил Симэнь. – Про твое рожденье совсем было забыл.
Он вынул из рукава пару шпилек и преподнес ей.
– Желаю тебе многих лет жизни!
Она приняла подарок и стала рассматривать. Это была пара золотых шпилек с выгравированными на них знаками долгоденствия.
– Какие красивые! – воскликнула она и в знак благодарности поклонилась Симэню.
– Вели слуге отвесить пять фэней, – наказывал Симэнь, протягивая ей пять цяней серебра. – Пусть кувшин южной горькой принесет.
– Что, батюшка, вино вам, видать, надоело? – засмеялась Ван. – Горькой захотелось.
Она тотчас же отвесила пять фэней и послала Циньтуна в лавку, а сама помогла гостю раздеться и провела в спальню. Она помыла руки, подрезала ногти и очистила орехи, а служанке велела заварить лучшего чаю. В спальне был накрыт маленький столик и подан чай. Они поиграли немного в домино, потом подали южную горькую с закусками, но тут мы их и оставим.
Расскажем о Дайане. Подъехал он к дому совсем усталый. Монах измучил его до того, что едва он добрался до комнаты, как повалился и заснул. Когда он проснулся и протер глаза, уже вечерело. Пора было зажигать фонари. Он бросился в дальние покои за фонарем, намереваясь встретить хозяина, но почему-то остановился в задумчивости.
– Почему батюшка не зашел переодеться? – спрашивала его Юэнян. – Проводил монаха и куда-то исчез. Где ж он теперь пирует?
– Батюшка на Львиной счета подводит, – обманул Дайань хозяйку.
– Так целый день за счетами и сидит!
– Нет, после счетов вина попросил подать, – сочинял слуга.
– Значит, один пирует! – возмутилась Юэнян. – Не будет он один сидеть! Ложь ты говоришь, по глазам вижу. Ответь, зачем от Ханей слуга приходил, а?
– Спрашивал, когда дядя Хань вернется, – невозмутимо отвечал Дайань.
– Что ты, арестантское твое отродье, зубы-то мне заговариваешь! – заругалась хозяйка. – Скажи, у матушки Второй, мол, день рождения, – наказала она Дайаню. – Дома, скажи, ждут.
Сяоюй подала Дайаню фонарь, и он направился в лавку. Там за прилавком разместились Шутун и приказчик Фу. Перед ними стояли кувшин вина, тарелки с закусками и блюдо потрохов. Пинъань принес две банки маринованной рыбы. Дайань появился в самый разгар пирушки.
– Как хорошо! – воскликнул он, ставя на пол фонарь. – Вовремя, выходит, подоспел. А ты что тут делаешь, распутная бабенка? – спросил он, посмеиваясь, Шутуна. – Я тебя обыскался, а ты вон где, оказывается, скрываешься. Пируешь, значит?
– Это зачем же я тебе понадобился? – спросил Шутун. – Может, захотелось внуком моим приемным заделаться, а?
– Ты еще смеешь отговариваться, деревенщина! – накинулся на него Дайань. – Чтобы тебя в задницу пырять, вот зачем!
Он перегнулся через стул и поцеловал Шутуна.
– Я б тебе сказал, негодник! – ругался Шутун. – Ишь, навалился! Шапку сбил. Так-то и зубы выдавишь.
– Пинъань! – крикнул приказчик Фу, заметив новую шапку на полу. – Шапку возьми, а то, чего доброго, затопчут.
Шутун подхватил шапку и бросился на кан. У него так и зарделось все лицо.
– Мне тебя, потаскушку, разжечь хотелось, а ты злишься, – проговорил Дайань и, повалив Шутуна на кан, плюнул ему прямо в рот.
Дайань опрокинул вино, и оно разлилось по прилавку. Приказчик Фу стал поспешно вытирать прилавок, опасаясь, как бы не подмокли счета.
– Хватит шуток! – крикнул он. – Долго ль до греха!
– Интересно, у кого это ты такие замашки перенимаешь, потаскушка, – продолжал Дайань. – Ишь, какой строптивый!
У Шутуна торчали всклокоченные волосы.
– Шутки шутками, но зачем же мерзкой своей грязью в рот человеку харкать?!
– Да тебе, деревенщина, не впервой грязь-то глотать, – говорил Дайань. – Сколько переглотал, сколько еще глотать предстоит!
Пинъань подогрел вина и поднес Дайаню.
– Пропусти чарку, – сказал он, – да скорей за батюшкой ступай. Потом поговорите.
– Дай батюшку встретить, – пригрозил Дайань. – Я с тобой еще поговорю. Я тебе покажу! Будешь меня стороной обходить, сопляк плюгавый. А плевок – это цветочки.
Дайань выпил вина, позвал из сторожки двоих слуг-подростков. Те взяли фонарь, а он вскочил на лошадь и направился к Ван Шестой.
Прибывшие постучали в ворота. Их впустили.
– Хозяин где? – спросил Циньтуна Дайань.
– Спят, – отвечал тот и запер ворота.
Оба прошли в кухню.
– А! Наконец-то и Дайань пожаловал! – встретила их старая Фэн. – А тебя тетушка Хань ждала. Вот и закусок оставила.
Старуха полезла в буфет и достала оттуда блюдо ослиного мяса, блюдце копченой курятины, две чашки праздничной лапши и кувшин вина. Дайань принялся за еду.
– Поди-ка сюда, мне одному не выпить, – немного погодя позвал он Циньтуна. – Давай вместе разопьем.
– Это тебе оставили, сам и пей, – отозвался тот.
– Да я только что дома выпил.
Циньтун присел за компанию.
– Мамаша! – крикнул Дайань, выпив вина. – Я тебе что сказать хочу, только не сердись. Ты, я гляжу, то матушке Шестой прислуживала, а то уж для тетушки Хань стараешься. Погоди, я вот матушке Шестой про тебя скажу.
Фэн шлепнула Дайаня по плечу.
– Ах ты, пострел! – ворчала она. – Чтоб тебе провалиться совсем. Смотри, молчи у меня. Матушка узнает, всю жизнь на меня в обиде будет. Я тогда и показаться к ней не посмею.
Пока Дайань разговаривал со старой Фэн, Циньтун подкрался под окно спальни, чтобы подслушать да поглядеть, что там делается.
Симэнь запил горькой пилюлю чужеземного монаха, разделся, и они с Ван Шестой легли на кровать. Потом Симэнь развернул узелок. Первым делом он приспособил серебряную подпругу и серное кольцо, потом достал из серебряной коробочки полтора ли розоватой мази. Снадобья подействовали, да с такой силой, что его предмет достиг размеров поистине устрашающих. Симэнь пришел в восторг.
«Не зря, оказывается, монах так расхваливал!» – подумал он.
Раздетая Ван Шестая, сидевшая у него на коленях, ухватилась рукой за копье.
– Вот ты, выходит, для чего горькую-то просил, – сказала она. – Откуда ж у тебя такое снадобье?
Симэнь без лишних подробностей рассказал о встрече с чужеземным монахом, велел ей лечь на спину и, опершись спиной о подушки, взял свой «метлы черенок» и вставил в надлежащее место. Головка была слишком большой, поэтому пришлось долго проталкивать, чтобы она вошла во влагалище. Через некоторое время из женщины потекло так, что он полностью утонул в ней. Под влиянием винных паров Симэнь Цин усиленно работал, то немного вынимая, то глубоко всаживая обратно и чувствуя невыразимое наслаждение.
Ван Шестая, казалось, опьянела от страсти. Обессилевшая и неподвижная, лежа на подушках, она непрерывно бормотала:
– Милый, ты слишком большой сегодня, я, развратная женщина, могу умереть от тебя.
И немного погодя она прошептала:
– Молю тебя, во что бы то ни стало, погоди немного, тебе еще придется поработать в заднем дворике.
Симэнь Цин перевернул Ван на кровати лицом вниз и продолжил игру. Поддерживая ноги женщины, Симэнь Цин изо всех сил давил на нее, и звуки, возникавшие от давления, слышались непрерывно.
– Дорогой, дави хорошенько меня, распутницу, не прекращай, а еще попрошу тебя – принеси свечу, при свете забавляться еще лучше.
Симэнь Цин пододвинул свечу поближе. Он велел женщине лечь под него и, раздвинув ноги, сам сел сверху, стал притягивать ее ноги к себе и, опускаясь на корточки, поднимать их. Ван Шестая внизу одной рукой поглаживала свое влагалище, загибала ноги и двигалась в направлении Симэнь Цина, непрерывно издавая стонущие звуки.
– Как воротится твой муженек, я его с Лайбао и Цуй Бэнем в Янчжоу за солью пошлю, – говорил Симэнь. – А соль продадут, в Хучжоу отправлю, за шелком. Как ты на это смотришь?
– Куда хочешь, туда и отправляй, мой милый, – отвечала Ван. – Лишь бы дома без дела не сидел, рогатый. Да! А кто же в лавке будет?
– Бэнь Дичуаня можно поставить, – говорил Симэнь. – Пусть за него торгует.
– Ну и ладно! – соглашалась она. – Пусть Бэнь торгует.
Они и не подозревали, что их подслушивал и подсматривал, к великому своему удовольствию, Циньтун.
Между тем из кухни вышел Дайань.
– Чего ты тут подслушиваешь? – шлепнув по плечу Циньтуна, сказал он. – Пойдем лучше прогуляемся, пока они не встали.
Они вышли на улицу.
– Знаешь, сзади в переулке хорошие девочки появились, – говорил Дайань. – Я на лошади мимо дома Лу Длинноногого проезжал и видел. Одну зовут Цзиньэр, другую – Сайэр. Лет по семнадцати, не больше. Малышей здесь оставим, а сами туда заглянем. – Дайань кликнул слуг-подростков: – Вы тут поглядите, а мы ненадолго отлучимся по нужде. Если понадобимся, сзади в переулке поищите.
Светила луна, когда оба вышли за ворота. Надобно сказать, что направились они прямо в веселый дом в переулке Бабочек, который сплошь состоял из таких домов, и насчитывалось их больше дюжины.
Подвыпивший Дайань долго стучался в дверь. Наконец ему открыли. За столом под лампой хозяин Лу Длинноногий со своей женой, содержательницей дома, взвешивал на желтом безмене серебро.
Едва завидев демонами ворвавшихся в комнату Дайаня и Циньтуна, они сейчас же задули лампу. Хозяин узнал Дайаня, доверенного слугу надзирателя Симэня, и предложил гостям присаживаться.
– Позови-ка тех двух барышень, – сказал Дайань. – Пусть споют, и мы уйдем.
– Поздновато вы пожаловали, господа, – отвечал хозяин. – К ним только что прошли посетители.
Дайань, ни слова не говоря, направился внутрь помещения. При потушенном свете было темно, как в пещере. В полоске лунного света, падавшего на кан, виднелись белые войлочные шапки винокуров. Один спал на кане, другой разувался.
– Кого это несет? – спросил он Дайаня.
– Я пришел, мать твою в глаз! – крикнул Дайань и, размахнувшись, двинул винокура кулаком.
– Ай-я! – крикнул винокур и, как был босой, бросился наружу.
За ним последовал и другой, разбуженный криками. Дайань велел зажечь огонь.
– У, дикари, босяки проклятые! – ругался он. – Еще спрашивает: кого несет! Спасибо пусть говорит, что не стал связываться. А то бы голову намылил да в управу отвел. Там бы новеньких тисков отведал.
Лу Длинноногий внес зажженный фонарь.
– Не гневайтесь, судари, прошу вас! – отвешивая поклоны, успокаивал он слуг Симэня. – А его простите милостиво. Заезжий он.
Длинноногий вызвал Цзиньэр и Сайэр и велел им спеть. Появились певички с высокими прическами, в белоснежных кофтах. На одной была красная, на другой – зеленая шелковая безрукавка.
– Не ожидали мы вас в такой поздний час, – проговорили они.
На столе появились четыре блюда со свежими овощами, а также утиные яйца, креветки, маринованная рыба, свинина и потроха. Дайань обнял Сайэр, а Циньтун подозвал Цзиньэр. Заметив у Сайэр расшитый серебром красный мешочек для благовоний, Дайань достал из рукава носовой платок. Они обменялись подарками. Вскоре подали вино, и Сайэр, наполнив кубок, поднесла Дайаню, а Цзиньэр – Циньтуну. Цзиньэр взяла лютню и запела на мотив «Овечка с горного склона»:
Пеленой цветник накрыла мгла –
Как, однако, жизнь в нем тяжела!
Ни тебе покоя, ни услады,
Ни дыханья легкого прохлады.
День-деньской удел твой – без затей
Улыбаться и встречать гостей.
Без отлучки занимайся делом
И корми весь дом продажным телом.
Поработав этак дотемна,
Серебро, подарки сдай сполна.
Все возьмет хозяйка, не вникая,
Я жива иль дух я испускаю.
Хоть бы кто спросил: не голодна ль?
Как своей мне молодости жаль!
Пеленой цветник накрыла мгла
Реки слез я горьких пролила.
Три года жизни, пять ли лет –
Тебя уже на свете нет.
Цзиньэр умолкла. Сайэр снова наполнила кубок и поднесла Дайаню, потом взяла лютню и запела:
Тихо в спальню я вошла одна,
На стене забытая видна
Запыленная трехструнка пипа,
От ненужности уже осипла.
Слабый ветер зарождает стон
В глубине, забывшей лад и тон,
Истомил старушку отблеск лунный.
Я, прижав, слегка задела струны.
Подтянула их, настроила на лад,
И мелодий зазвучала гладь,
Застенала прежнею любовью.
Я примёрзла телом к изголовью.
И невольно растопил ледник
Из-под камня на сердце родник.
Все как прежде в доме, только тихо.
Я теней шарахаюсь, трусиха.
Все как прежде, только нет тебя.
Только пальцы струны рвут, скорбя.
Не успела Сайэр допеть, как появился слуга-подросток. Дайань с Циньтуном поспешно вышли из-за стола.
– В другой раз загляну, – пообещал, обращаясь к Сайэр, Дайань.
Они пошли к Ван Шестой. Симэнь только что встал, и Ван угощала его вином.
– Батюшка звал? – спросили они старую Фэн, когда вошли в кухню.
– Звать не звал, спрашивал только, готова ли лошадь, – отвечала старуха. – Ждет у ворот, говорю.
Оба сели в кухне и попросили у старухи чаю. После чашки чаю они велели младшим слугам зажигать фонарь и выводить коня.
– Выпил бы еще чарочку, – предлагала Ван уходящему Симэню. – Только что подогрела. А то дома пить придется.