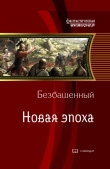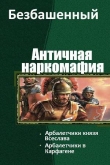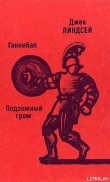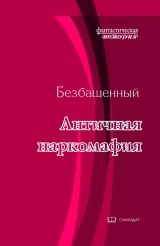
Текст книги "АН -7 (СИ)"
Автор книги: Безбашенный
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
– Спасибо партии родной, что отобрала выходной?
– Ну Макс, ну надо же приучать их к участию в общем деле.
– Да понял я, понял – шутю. На грибах ты тоже хочешь их задействовать?
– Нет, рисковать пока не будем. Есть ложный шампиньон, который отличить от настоящего трудно, и он ядовитый. И бледная поганка тоже очень похожа, а что это такое, ты знаешь и без меня. В этом году по теории их хотя бы натаскаю с экскурсиями на наши шампиньонные грядки, а практика сбора – подождёт. А вот заправить желудёвую кашу грибным порошком, чтоб попробовали и оценили – это уже можно вполне…
Дело она замыслила очень даже нехреновое – угощали они нас как-то кашей, хоть и не желудёвой, а обычной перловкой, но с таким соусом, что мы его на вкус и цвет за мясную подливу приняли, а оказался он из молотых сушёных шампиньонов. Ну, вкус мясной – это добавкой поташа обеспечивается, который из обычной золы вымывается, а питательность – таки от грибов, как ни странно. Потом Наташка нам и книжку почитать дала, перенесённую на бумагу с ейного аппарата – "Заготовки, хранение и переработка дикорастущих ягод и грибов" Кругляковой, так там в самом конце и про грибной порошок говорилось. Вся фишка тут – в резком повышении усваиваемости грибных полезностей. Из цельных грибов мы процентов десять усваиваем, не больше, потому как их клеточные оболочки наш желудок переваривает хреново, а в порошке они разрушены по большей части, и усваиваемость за счёт этого – до девяноста процентов.
Подходит Велия, и мы направляемся с ней к Фабрицию. По пути прикидываю, что бы это значило – сперва на службу к себе после обеда вызывал, а теперь как-то резко на домашний обед переиграл. Отменилось, что ли, совещание? Так не с чего, вроде бы, а без веских причин – не похоже это на босса. Супружница тоже в непонятках – и ей тоже служанка Ларит ничего не объяснила…
– Я уже и сам призадумывался, что надо было подовереннее человека к тебе послать, чтобы суть вопроса тебе передал, а тут ещё и Ларит рассказала, – объяснил сам Фабриций, когда мы пришли, – Ну и решил за обедом в курс тебя ввести. Присаживайтесь, пока там стол накрывают, мы как раз и обсудим. Я тебя, Максим, вот из-за чего вызвал. Мы последнюю пару лет уже не всех, кого попало, из Бетики вербуем, а некоторым, кто к нам просится, уже и отказываем.
– Ну так а зачем нам бестолочь, досточтимый, которую потом всё равно обратно в Бетику высылать придётся? – отозвался я.
– Но ведь люди же нужны? С Миликоном каждый год из-за них ругаемся.
– Так ведь тем, кого мы заворачиваем, и он рад не будет.
– В том-то и дело. А теперь – смотри, что получается. Какой у нас в этом году урожай, ты знаешь не хуже меня. В Бетике он, сам понимаешь, будет не лучше нашего. И как только там пройдёт слух, что у нас не голодают – представляешь, сколько народу к нам попросится? И как их вождям не отпустить их, если самим им кормить их нечем?
– Ну, мы же и на наплыв этот рассчитывали, когда планировали набивку наших закромов под завязку.
– Так и Миликон тоже на него рассчитывает, а вы тут с Хулом эти ваши жетоны зелёные зачем-то придумали и говорите, что надо людей туда посылать, чтобы смотрели и разбирались, кому дать жетон, а кому и не давать.
– Так ты ж представь себе только, досточтимый, сколько обезьян бестолковых к нам ломанётся, если их не заворотить сразу! До сих пор ведь как было? У нас не хуже, а в чём-то лучше, чем в Бетике, но не настолько же, чтобы так уж прямо и мёдом намазано. А теперь – с учётом ожидающегося у них голода – с насиженных мест сорвутся все лентяи и разгильдяи, которым придётся хуже всех. А нам такие зачем? Что здесь, что на Островах – разве такие нам нужны? Для того ли мы обратно таких высылаем или вешаем высоко и коротко, если заслужат, чтобы тут же новых таких же набрать? Если им судьба сдохнуть с голоду за свою никчемность или повиснуть на суку за воровство – пусть дохнут или висят в Бетике, а не у нас. Наши агенты там к людям присмотрятся, разберутся, кто чего стоит, и те, кто нам не нужен, зелёного жетона от них не получат.
– Вот для этого ты мне, собственно, и нужен, чтобы Миликону всё это так же просто и понятно объяснить, как мне сейчас объяснил.
Идея этих "грин-карт" принадлежала Васькину – жетон-пропуск, сверяемый стражей с образцом на всех контрольно-пропускных пунктах нашего лимеса, без которого хрен кого через них пропустят, как только поступит такая команда. Я же, въехав в суть, только одобряю и поддерживаю. Так в античной Испании никто ещё не делал, и уже хотя бы в силу этого оно должно сработать эффективно – фактор внезапности, как говорится. Ну, осеннее обострение у нас такое.
3. Лакобрижская пуща
– Рэкс! Атака! – на дичь помельче я дал бы традиционную команду «Фас!», но зубр, хоть и не матёрый ещё, а молодой – уже вполне взрослого размера и вооружённый весьма нехилыми рогами, слишком серьёзен даже для крепкого волкоподобного пса, так что мы обойдёмся без самоубийственного героизма, ограничившись имитацией «фаса».
Нам ведь что, собственно, нужно-то? Чтобы бычара бочиной к нам повернулся, открыв под выстрел убойные места. Именно это Рэкс и должен нам обеспечить, изобразив атаку и приковав к себе внимание этого рогатого пережитка плейстоценовой эпохи.
Дождавшись момента, когда зубр отвлёкся на перебежавшего ему дорогу пса и повернул за ним, но ещё только начал разгон, мы с Володей прицелились, выстрелили и тут же передёрнули рычаги наших винчестеров, выбрасывая стрелянные гильзы и досылая в патронники новые патроны. То ли удачно мы попали на этот раз, то ли ему с прежнего залпа как раз успело похреноветь, но пробежав с пару десятков шагов, бык остановился и тяжело рухнул на бок. Подъезжаем, а он ещё дышит – ну и крепок же зверюга! Спецназер достал револьвер, взвёл курок, прицелился и добил его между глазом и ухом. Хоть и не сорок пятый калибр, а всего навсего тридцать восьмой по американской системе, то бишь девятка, но длинная безоболочечная пуля, да ещё и с экспансивной засверловкой в ейной головке – аргумент серьёзный и убедительный, граммов на двадцать свинца.
Я ведь рассказывал уже, как мы в Мавритании улепётывали от весьма некстати заинтересовавшегося нами носорога? Там у нас тогда винтовки Холла – Фалиса были – того же калибра и с такими же пулями, но кремнёвые однозарядки. Хоть и многократно удобнее и скорострельнее дульнозарядных егерских штуцеров времён Буонапарте и его войн, но и с казённой части перезаряжаться бумажным "дульным патроном" на скаку – занятие, я бы сказал, для экстремалов. Естественно, мы и не пробовали отстреливаться, а просто и незатейливо делали ноги. А даже и будь при нас тогда вот эти винчестеры – ну не носорожью же шкуру пробовать на прочность патроном револьверного класса! Мы по делу там были, а не за приключениями. Строго говоря, девятка и на быка маловата, тем более – на стойкого на рану дикого вроде тура или зубра, если реальную охоту со всеми её неизбежными на море случайностями рассматривать, а не этот образцово-показательный расстрел. Но мы ведь и не рассчитывали наших винтовок на быка, а рассчитывали мы их на человека, который и сам помельче, и на рану послабже. Не собирались мы тут вообще на этого зубра охотиться, и не напросись он сам – был бы жив и имел бы хорошие шансы прожить ещё долго и наплодить немало потомков…
Пока слуги совместно с подъехавшими лесничими начинали свежевать тушу, я указал Рэксу на ещё дымящийся ствол и послал разыскать стреляные гильзы. Это нам с нашим слабеньким нюхом приматов нелегко, а для собаки сила этого запаха – ну, как если нам слон прямо под нос пёрднет, наверное. Пёс, обежав вокруг того места, с которого мы стреляли, легко нашёл пропажу, сперва мою, затем володину, и посланный вслед за ним слуга аккуратно подобрал обе. Не то, чтобы они для нас были прямо таким уж страшным дефицитом – я их штампую, как-никак, а не на токарном станке из цельного прутка точу, но если есть время и возможность найти и подобрать, то и нехрен оставлять их тут после себя. Во-первых, лишние вопросы возникнут у тех, кто найдёт. Это лесничие заповедника – служащие Тарквиниев, и мы для них хоть и не их прямое начальство, но представители вышестоящего, и если мы сказали, что им послышалось и померещилось кое-что, чего на самом деле не было, то стало быть, так оно и есть для всех посторонних. Посторонним же лишнее знать никчему – крепче и безмятежнее спать будут. А во-вторых, эти гильзы нам и по делу нужны – годные для переснаряжения, если есть возможность их собрать, должны собираться и по новой переснаряжаться, и детей к этому надо сразу приучать. Вот как раз на примере этих гильз мы и продемонстрируем им, как это делается. Пули можно отлить, порох и ударный состав можно сделать, даже новый колпачок капсюля можно в принципе и на коленке штампануть, но гильза – это хайтек, посильный далеко не везде.
Тушу тем временем освежевали, отделили вырезку для нас с семьями и часть мяса для наших людей, шкуру и остальное мясо забрали лесничие, пообещав поделиться и с пострадавшими от этого зубра крестьянами. Собственно, по их жалобам мероприятие и проводилось. В заповеднике охота запрещена, и один браконьер, например, успел даже и повиснуть высоко и коротко. Не за пустяк, конечно. За кроликов никто никого даже и не штрафует, а только мягко журят за сам факт промысла в неположенном месте. За кабана и косулю штраф уже есть, но небольшой. Побольше и заметно побольше – за оленя, лося или медведя. Сурово штрафуют и жестоко порют витисами за тарпанов, туров и зубров, вне заповедника уже довольно редких, а повесили этого ухаря за львицу, убитую в сезон размножения. Хищников ведь во многие десятки раз меньше, чем их добычи, и понимать же надо такие вещи! Вот сколько сотен оленей, лосей, лошадей и быков на той или иной территории водится, столько же примерно пар львов может ими прокормиться, не более. Поэтому и такие наказания за злостное браконьерство. Но на территории вне заповедника – дело уже другое. Ведь не запретишь же окрестным крестьянам защищать свой скот от гибели и увечий, а поля с огородами и садами – от потрав, да и просто охотиться на дичь тоже никогда никому не возбранялось. Не дело это, когда кому-то можно, а всем прочим нельзя. А заповедник не столь уж и велик, и его ограда далеко ещё не полна, и когда зверь размножается, то оказавшиеся лишними выходят за его пределы. И вот тут у кого-то уже и проблемы могут возникнуть – или у самого зверя, или у местного населения. Зверь ведь не приучен к тому, что здесь ему – уже не тут. Если это хищник, то не найдя в достатке привычной добычи, он начинает пошаливать с домашней живностью, а каков сам хищник – таковы у него и шалости. Я ведь рассказывал уже про того повадившегося промышлять крестьянских коров льва, которого мы за это множили на ноль? Его бы, конечно, местные и сами сделали, но с немалым риском. Да только ведь и с травоядными не всегда гладко – вот как с этим зубром, например. В матёром зубре больше тонны веса, и эта тонна очень не любит, когда ей заступают дорогу. Этот был молодой, и в нём веса поменьше, но тоже ни разу не домашний бычок – ни силой, ни характером. И хотя его интерес к крестьянским бурёнкам был совсем не того сорта, что у того льва, без злостного хулиганства с тяжкими телесными повреждениями один хрен не обошлось.
Не планируя в эту поездку охоты на столь крупную и живучую дичь, мы даже наших стареньких арбалетов из Оссонобы не прихватили. Были, конечно, роговые луки того же образца, что поставляются и для вооружения наших лучников-вояк, и в принципе гойкомитичи североамериканские в реале с луками на бизонов в прерии охотились, но как охотились? Конными, ни разу не пешими. Скачет чудо в перьях параллельным курсом с тем бизоном на смехотворной дистанции, ну и стреляет с неё наудачу, а после выстрела, не дожидаясь его результатов, сразу же в сторону, потому как если в убойное место не попал – угрёбывать от разъярённого подранка надо со всех конских ног. Но во-первых, мы – ни разу не гойкомитичи, и дела у нас тут поважнее их геройского выгребона. Во-вторых, тут ни разу не плоская прерия, а местность пересечённая, и нагребнуться на всём скаку тут вероятность далеко не нулевая. Делать нам, что ли, больше нехрен? А в-третьих, даже сами гойкомитичи, заполучив наконец "громы и молнии бледнолицых", предпочитали промышлять бизонов уже ими, а не по старинке – ну, у кого выбор был, ясный хрен. А у нас он был, поскольку мы как раз проводили испытания опытной партии винчестеров.
Имея оружие, рассчитанное на человека, а не на здоровенного бычару, мы и не собирались, естественно, устраивать охоту спортивного типа, а хотели, подобравшись к нему сбоку, тупо расстрелять его – просто, незатейливо и наверняка. Ну, чтоб и самим зря не рисковать, и животину зря не мучить. Так бы и случилось, если бы не вспугнувшие его не по делу пернатые, отчего наш первый залп оказался куда менее удачным, чем хотелось бы нам самим. Мнение зубра, подозреваю, с нашим в этом вопросе не совпадало, но тут уж, как водится, прав тот, у кого больше прав. Признал бы себя неправым сразу – помер бы гораздо легче, чем оно вышло на деле.
Когда мы решали вопрос, какой быть нашей винтовке под унитарный патрон, то и вопрос-то был больше риторическим, чем реальным. При нашем компактном патроне револьверного класса система Генри – Винчестера напрашивалась сама собой. Я ведь уже объяснял наши резоны для унификации гильз револьверного и винтовочного патронов? Ну не нужно нам по здешним античным реалиям огневой мощи трёхлинейки или калаша – от лёгкой индивидуальной стрелковки, по крайней мере. А учитывая наши масштабы, нам чем меньше схожих, но разных изделий производить, тем лучше, так что девять на сорок пять для нас – оптимум. Чисто теоретически под револьверный патрон можно было бы и классику замутить, то бишь винтарь со срединным магазином и затвором, запирающимся поворотом. Но практически это хайтек конца девятнадцатого века, а механизм винчестера с его скобой-рычагом и трубчатым подствольным магазином – проще и кондовее. Армии ещё однозарядными винтарями воевали, когда винчестер – и тоже, кстати, модификация под револьверный патрон – прочно занял на тогдашнем безрыбье экологическую нишу пистолета-пулемёта, то бишь высокоскорострельного оружия для ближнего боя. Ближний – оттого, что однозарядные винтари и сами были длиннее, и патроны кушали помощнее, но то в известном нам реале, в котором они были практически у всех, потому как кто сам их не производил, мог их у других купить, лишь бы только купилки у него в достаточном количестве имелись. Бизнес, как говорится, ничего личного. Но тут-то ведь античный мир, и покажите мне в нём хоть одну античную армию, вооружённую хотя бы уж кремнёвыми фузеями петровских времён – не то, что берданками. Я такой не знаю ни одной, так что и на дальних дистанциях винчестер в античном мире – вне конкуренции.
Наш патрон, конечно, длиннее тех револьверных, что в реальных винчестерах применялись, так что пятнадцать их у нас в подствольном магазине никак не помещается, а помещается только десять. Ну, одиннадцать можно запихнуть, если подающей пружины не жаль, но я бы не советовал, потому как запасная в комплекте только одна. Когда будем в серию эту модель запускать, так помозгуем и над ограничителем, дабы и возможности такой у долбодятлов не было – хватит с них и нормальных десяти выстрелов. Но десять – это для винтовочной модификации патрона, у которой пуля наружу из гильзы торчит, чем и добавляет патрону длины. А мы ж разве просто так унификацию предусматривали? Не просто так, а очень даже по поводу. В комплект запчастей для нашего винчестера входит и сменный подаватель – в смысле, не тот толкатель, которым пружина патроны подаёт, а тот, который в ствольной коробке подымает очередной патрон от магазина к стволу. Вот он у нас двух типов – основной с длинным винтовочным патроном работает, а сменный – с коротким револьверным, у которого пуля вся в гильзу утоплена. И поскольку патрон револьверной модификации короче винтовочной, их в магазине помещается двенадцать.
Правда, подствольный магазин накладывает и некоторые ограничения. Пулю, например, в винтовочной модификации не только остроконечную, но и закруглённую не применишь, потому как патрон – центрального боя, и совершенно незачем кончику пули упираться в капсюль следующего патрона. В реальных винчестерах патроны кольцевого воспламенения из-за этого применялись, вроде мелкашечных, но нам это не подходит – у нас ударный состав не тот. Классика на основе гремучей ртути делалась, которую в виде жидкого раствора заливать можно, а у нас вместо неё пистонный состав из бертолетовой соли и красного фосфора, который по фланцу хрен зальёшь, так что центральному бою у нас реальной альтернативы нет – не считать же таковой экзотику наподобие шпилечных патронов Лефоше, гы-гы! Поэтому и пулю мы применяем для винтовочной модификации патрона экспансивную, с углублением в головке, дабы она в гильзу следующего патрона в подствольном магазине упиралась, а не в его капсюль. С классическим для магазинных винтарей срединным магазином этой проблемы нет, так что применяя трубчатый, мы тем самым отсекаем себе возможность значительно улучшить баллистику за счёт применения остроконечной пули. Но во-первых, как я уже сказал, нам не с кем в античном мире этой баллистикой меряться, во-вторых, как тоже уже сказал, система со срединным магазином похайтечнее, и у нас не тот ещё уровень развития промышленности, а в-третьих – труднее со всеядностью. Там ведь по скосу патрон из магазина в патронник ствола направляется, и безотказность работы как раз выступающей из гильзы пулей обеспечивается, а вот патрон нагановского типа, в котором пуля наружу не торчит, может и уткнуться. В нашем реале первый отечественный пистолет-пулемёт Токарева был как раз под нагановский патрон, так ему дульце гильзы для этого на конус завальцовывали, дабы утыканий избежать, но один хрен они происходили то и дело, а вдобавок, ещё и разрывы завальцованного дульца при выстреле были нередки, что затрудняло извлечение гильзы из патронника. Понятно, что при работе затвором врукопашную всё это не столь критично, но задержки неизбежны и для винтаря, так что противопоказан для надёжной работы такой системы нагановский патрон. А это значит, что до тех пор, пока именно этот тип револьверного патрона для нас оптимален, а производственные мощи ещё не таковы, чтобы отказываться от унификации гильз и всеядности винтарей – противопоказан нам и винтарь со срединным магазином…
Закончив делёж мяса, слуги присоединяются к нам, и мы возвращаемся обратно к конному заводу, где детвора – под присмотром, естественно – катается на лошадях. Что самое интересное, не только пацанве, но и шмакодявкам и даже "гречанкам" куда больше нравится катание не на статных породистых нисейцах, а на тарпаноидах, приземистых и коренастых. Я ведь упоминал уже о Рыжике, тарпаноидном жеребёнке, на которого мои в прошлом году чуть ли не в очередь выстраивались? Сейчас-то он уже вымахал до почти взрослого размера, так что выдержит и меня, если недолго и галопом не гонять, а уж их-то всех – запросто. Судя по отцу, он обещает вырасти покрупнее обычного тарпаноида, и это для нас особенно ценно, потому как делает его весьма перспективным производителем для выведения более крупной породы. Шутка ли – получить в конце концов лошадей уже современных размеров, способных нести одоспешенного катафракта, но при этом ещё и выносливых и неприхотливых как тарпаны? Ну, не во всём, конечно – на подножной траве и крупный конь долго того катафракта не проносит, так что от необходимости подкормки зерном это не освободит, но в остальном, если не спешить со сдачей выведенной породы всенепременно ко дню рождения фюрера или там к какой-то юбилейной дате основания государства, а отбирать тщательно и вдумчиво – тарпан размером с рыцарского дестриэ в перспективе вполне возможен. Ну а те, что не подойдут в качестве дестриэ – найдут себе не менее достойное применение и в качестве упряжных тяжеловозов. Много ли навоюют те катафракты без подвижного и не отстающего слишком далеко обоза с припасами? И много ли напашет тяжёлым колёсным плугом крестьянин на сильных, но медлительных волах? Млять, обидно вдвойне! Во-первых – хрен доживём мы до вменяемых результатов. А во-вторых – не для Испании те упряжные тяжеловозы на ближайшие века, потому как конский хомут перед римскими глазами засвечивать – категорически противопоказано.
Но дети-то, конечно, думают не об этих далёких и важных перспективах, а им просто нравятся тарпаноиды. Особенно Рыжик – мастью прежде всего. Основная-то масса – типичные лесные тарпаны сероватой "мышастой" масти, но изредка попадаются среди них и рыжеватые, больше похожие на степных. Это же не два отдельных вида, а подвиды одного и того же. Ну, типа как тот же зубр, например – просто европейский лесной подвид того плейстоценового тундростепного бизона, здоровенного и с такими рогами, которым позавидовал бы и африканский буйвол. Того бизона охотники мезолита истребили своими облавными охотами, а зубр – остался. Такая же примерно хрень и с тарпанами. И лесные в Испании были, и степные, пока существовала приледниковая тундростепь, а как исчезла – степной подвид перевёлся, но успел привить лесным собратьям свои гены, которые время от времени дают о себе знать. Естественно, мы это учитываем и стремимся повысить долю "степняков", потому как чем выше генетическое разнообразие породы, тем она здоровее, и тем выше её селекционные перспективы. Ну и детворе заодно приятнее…
Время – обеденное, так что мы располагаемся на пикничок. Володя командует слугами на предмет приготовления шашлыка из зубрятины – не маринованного, конечно, но и так пойдёт хорошо, дети хвастаются успехами в верховой езде. Юлька, как и всегда, морщится, когда к хвастовству шмакодявок присоединяются и "гречанки", а мы хмыкаем – понятно же сразу, чем недовольна. Снег выпадал несколько раз, но и таял практически тут же, ночами прохладно, но днём тепло, и если мы зимой носим штаны кельтского типа, то в школе Аглеи их признают только на время особых холодов. Сейчас – не особые, так что у "гречанок" под подолами никаких штанов нет, и рассекали они верхом – правильно, задрав означенные подолы и сверкая голыми ляжками. А девки штучные, отборные, хоть и не конкурентки ейной Ирке по возрасту, но ведь и в её потоке – такие же на подходе, так что её ассоциация понятна и недовольное поглядывание на Аглею – тоже понятно. Не так понятно, правда, чего она и на Мелею поглядывает с таким же прищуром – критянка-то ей чем не угодила? Наташка переглядывается с Велией, обе улыбаются, и супружница кивает мне в сторону озера и наклоняется, чтоб на ухо шепнуть, но мне уже ничего объяснять не нужно. Переглядываемся с Володей, которому его половина тоже намекнула, и ему тоже разжёвывать не требуется – мы обмениваемся с ним понимающими кивками и оба тоже с трудом сдерживаем смех.
Воспитание мы детям даём хоть и не спартанское, которое в последние годы и в самой Спарте уже не в ходу, но где-то в чём-то "по мотивам". Зима, не зима, но если снег на земле не лежит, вода в озере жидкая, берег сухой, ветерок не промозглый, и солнце за тучами не ныкается, то и купального сезона никто не закрывал. В общем, прогулялись они все на озеро и искупались – ага, вместе с "гречанками", как и следовало ожидать, а Мелея с ними – в качестве взрослого пригляда. И не в том дело, что ладные фигурки "гречанок" подымают планку требований пацанвы, и худшие хоть в чём-то у них уже не котируются, и даже не в том, что и сама кидонийка, успевшая пристраститься к подобным купаниям, тоже случая не упустила – это всё тонкости, с которыми Юлька уже смирилась, а тут ведь ещё и толстость. Если, скажем, Ленка наташкина – шмакодявка закалённая, потому как у Володи не забалуешь, то ейная Ирка в этом отношении послабже. Один раз искупалась в декабре, так две недели потом сопливила, после чего Юлька ей эти зимние купания впредь запретила. Так-то шмакодявка она симпатичная и неглупая, но здоровье – подкачало…
– Вместе с твоими грядками у нас теперь достаточно шампиньонной рассады, чтобы по весне хоть по всей округе их начинать выращивать, – прикинула Наташка, – Вот только урожайность будет не самая лучшая – до парниковой далеко.
– А чего им ещё не хватает для полного счастья? – поинтересовался я, – Лесные же, не должны бы, вроде, быть капризными.
– В парниках шампиньоны на навозе выращивают. Лучше всего на конском, но в принципе подойдёт почти любой. Самая высокая урожайность у шампиньонов бывает на конском навозе, на других уже немного похуже, а на обычном грунте никогда и близкой к ней не получить.
– Ну, больше площадей понадобится. В чём проблема-то?
– Так Макс, эффективность же не та.
– Наташа, а как ты себе представляешь эту эффективность? Вот выращиваю я, значит, на том конском навозе густую поросль грибов, созываю народ со всех окрестных деревень, показываю им это дело. И вот как ты предлагаешь мне объяснять толпе, что вот ЭТО вот, выросшее на ГОВНЕ – можно и нужно ЕСТЬ?
– А что такого? Поля же навозом удобряют, и хлеб с них – едят.
– Так это же другое дело, – вмешался её благоверный, когда отсмеялся, – Там же уже не навоз, а этот, как его там…
– Компост.
– И даже уже не компост, – уточнил я, – Его ж там личинки мух давно уже весь в перегной переработали.
– В гумус.
– Ага, он самый. И вдобавок, едят же не корни и не стебли, а колосья, которые вот на такой высоте от земли, – я показал руками высоту зрелой пшеницы, – А тут – мало того, что не грунт, а как есть говно, так ещё и грибы срезаем у самой его поверхности. Ну и вот как тут прикажешь народу считать ЭТО – жратвой?
– Ну, там этот навоз – тоже уже компост, где-то за неделю перегнивает.
– Так неделя – разве срок? Все же прекрасно помнят, ЧТО это было.
– Дикари! – хмыкнула Наташка.
– Другого народа у меня для вас нэт, – я дурашливо спародировал сталинский киношный акцент, – А кстати, почему именно шампиньоны? Другие грибы чем хуже их?
– Ну, мы же рассматриваем их как замену дефицитным белкам мяса. Есть такое понятие, как аминокислотный состав белков, и он у большинства грибов неполноценен. Из европейских видов полноценны по аминокислотам только шампиньон и белый, и его тоже не раз пытались ввести в культуру, но все попытки оказались безуспешными. Так что реальной альтернативы шампиньону у нас нет, и получается, что из-за предрассудков тёмных масс мы не можем выращивать его с наибольшей эффективностью.
– Наташ, ну мы же не в осаде, – урезонил её спецназер, – Никто не ограничивает нас несколькими квадратными метрами огорода на человека. Нет у нас причин заставлять людей прямо с говна кормиться.
– Далось вам это говно!
– Ну вас всех на фиг! – вмешалась Юлька, – Шашлык на подходе, сейчас есть будем, а вы тут нашли, о чём говорить! Наташа, ладно мужики – им всё пофиг, но ты-то!
За шашлыком мы, конечно, продолжаем шампиньонную тему, но уже избегая упоминаний плодородной субстанции. Юлька, боюсь, выиграла от этого немного, потому как дети тоже всё слыхали и всё понимают. Ганнибалёныш – и тот понял, хоть и с пятого на десятое, ну так за пацанвой ведь не заржавело и на турдетанский для него непонятные моменты перевести, так что переглядывается и хихикает он вместе со всеми.
– У тебя, Макс, с термометрами-то дело движется? – спохватилась Наташка.
– Да собственно, полуфабрикаты уже есть, но не в товарных ещё количествах, – отвечаю ей, – На пару десятков от силы, и размеры будут раза в три больше, чем ты себе представляешь, – показываю руками размер около метра, – Больше не запускал, потому как не вижу смысла – наверняка конструкция далека от оптимума, но тот оптимум нам ещё и нащупать надо. А что?
– По весне понадобятся. Успеешь хотя бы десяток?
– Наташа, тут не от меня зависит, а от погоды. Я бы их тебе хоть через неделю готовые отдал, и не один десяток, а оба, но ведь шкала же не оттарирована. А без неё это, сама понимаешь, макеты будут, а не термометры. Морозов же не было, и как я тебе ноль без них поймаю?
– Поняла. В феврале наверняка хоть какие-нибудь ночные заморозки, да будут – смотри, не упусти их…
– Большой чан с водой в таком месте, где утром тень, – подсказал Серёга, – Как увидишь утром ледок – под ним, считай, как раз твой ноль по Цельсию. Ломай его и ставь свои приборы – за полчасика точно до того нуля охладятся.
– Это понятно, – кивнул я, – Но точность…
– Плевать! – фыркнула Наташка, – На десять градусов ты не ошибёшься, даже на пять вряд ли, а на пару-тройку – уже плевать.
– Ну, если так… Колись уж, куда они тебе такие понадобились?
– Туда же, куда и тебе понадобятся. У нас субтропики, и первые шампиньоны пойдут уже по весне. Чтобы размолоть их в порошок, надо сперва высушить. А их чем дальше, тем больше будет – лето ожидается снова дождливое. Для нормальных культур плохо, а для грибов – самое раздолье, так что сушить надо будет до фига. Мыслимо это просто на воздухе? Ты, конечно, свои печи на мануфактуре приспособить захочешь…
– Ну, не сами печи, но снаружи к ним прислонить – здравая мысля. Раз уж тепло выделяется, и немало – пущай и оно тоже на нас поработает.
– Вот именно. Но грибы при сушке нельзя греть выше восьмидесяти градусов – теряются питательные свойства, и весь труд, считай, насмарку. Их надо сперва пару часов при пятидесяти примерно градусах подвяливать, потом столько же при семидесяти, затем снова при пятидесяти уже досушивать. Ну и как тут без термометров обойтись? И кстати, когда будешь тарировать им шкалу – не заморачивайся минусом, он нам не нужен.
– Да это-то я уж понял. Ну, раз тебя устраивает такая грубятина – будет она тебе к весне, не изволь беспокоиться…
Зубрятина между тем напоминает нам о своём источнике, и наш разговор как-то плавно съезжает в сторону самих зубров, которые по словам Васькина исчезли в Испании только в семнадцатом веке. Правда, по уточнению Наташки – уж всяко не здесь они аж до семнадцатого века в реале продержались, а разве только в глухих предгорьях Пиренеев. А уже от зубров – перешли и ко всему этому заповеднику в целом, который с наташкиной же лёгкой руки мы называем Лакобрижской пущей – ага, по аналогии с Беловежской и в её честь, можно сказать.
– Позволь сказать, досточтимый, – вежливо встрял ганнибалёныш, – Нам лесник вчера сказал – видел, как лев на лось прыгал и задирал его. Лев в этот лес водится, а слон в нём почему не водится? Отец говорил, у него и его братьев двести слон в Испания был!