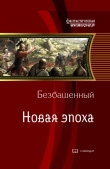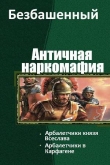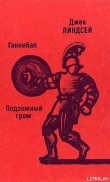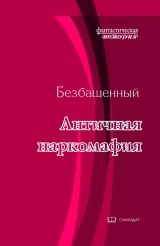
Текст книги "АН -7 (СИ)"
Автор книги: Безбашенный
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
21. Сан-Томе
Как я не раз уже упоминал, по возможности мы стараемся следовать примеру фиников и основывать свои колонии на необитаемых островах. Умному примеру – отчего же не последовать? Нет аборигенов – нет и проблем с ними. Не нужно крупных наземных сил для охраны и обороны колонии, не нужно и сильной флотилии для гарантированного господства в омывающих её морях. И людей, и ресурсов туда нужно ровно столько, чтобы хватало для её функционирования по прямому назначению, ради которого она и основана, и развиваешь её теми темпами, которые реально нужны, не перенапрягаясь без насущной необходимости. Что Атлантида, то бишь Азоры, что Горгады, что Бразил, что Мадейра – все они наглядно демонстрируют этот принцип. Там же, где следовать ему не получается – совсем другие масштабы колонизации и совсем другие потребные на неё ресурсы. Та же Тарквинея кубинская – это же ужас, сколько в неё всего вбухивать приходится, да ещё и не просто вбухивать, а везти через всю Атлантику. А всё отчего? Оттого, что не безлюдна Куба, а красножопыми населена. И хотя отношения у наших с ними нормальные, дикари есть дикари, и с ними надо держать ухо востро. Я ведь рассказывал уже, как мы там чуть было в войну с восточными соседями не вляпались? А вот удалось бы нам её избежать, не окажись у нас в Тарквинее весьма серьёзных по кубинским меркам сухопутных и морских сил? Что-то весьма и весьма сомневаюсь. Дикари – они такие, только силу и уважают. А это и силы означенной требует, и инфраструктуры соответствующей, дабы ещё и ту силу кормить и обслуживать, а значит – дополнительных людей и дополнительных грузов для них, отягощающих и без того непростую трансатлантическую логистику. Теперь вот ещё и Капщина добавилась, с которой весь этот полностью аналогичный кубинскому геморрой повторится даже в двойном размере, потому как для её снабжения Атлантику приходится пересекать дважды. Будь там подходящий необитаемый остров – разве заморачивались бы мы тогда колонией на материке?
В Гвинейском заливе, хвала богам, подходящий остров есть. Собственно, их в нём, если считать только настоящие острова без мелких скал, то четыре штуки, вытянутые цепочкой от вулкана Камерун на побережье материка и на юго-запад вглубь залива. Все они вулканические, практически лишённые полезных ископаемых, но зато с плодородной почвой и в зоне влажного экваториального климата. Самый большой из них – Биоко, он же – Фернандо-По, и не будь он слишком близок к материку, лучшего места для колонии незачем было бы и искать. Там и живности хватает вполне материковой, поскольку остров расположен на континентальном шельфе и в периоды оледенений наверняка соединялся с материком. Судя по периплу Ганнона Мореплавателя, именно на нём знаменитый финик ловил горилл. Чего уж тут говорить о живности помельче и о растительности? Проблема же Биоко для нас – в других приматах, ещё более человекообразных. Португальцы в реале застали на острове черномазых, и вроде бы, есть основания считать, что он был заселён где-то за тыщу лет до нашей эры, то бишь лет восемьсот назад. Ганнон, правда, о людях на острове не упоминает, но ведь он же не исследовал его весь и не разыскивал дикарей целенаправленно. Так что Биоко, скорее всего, обитаем и нам не подходит. Аннобон же, самый удалённый от материка, в то же время и самый мелкий из всех, так что реальные кандидаты – это Сан-Томе и Принсипи. Оба острова оставались необитаемыми вплоть до их открытия португальцами, но Сан-Томе крупнее и имеет двухкилометровую вершину.
А это значит, что километров за сто семьдесят марсовый с мачты эту вершину засечёт, если будет внимателен, то бишь больше, чем за градус. Другой остров, Принсипи, от Сан-Томе на сто шестьдесят километров удалён, так что с него даже с берега вершина Сан-Томе видна. К счастью, наивысшая точка самого Принсипи не столь высока, метров девятьсот с небольшим, так что ни с Биоко, ни с материка за ним её не видать, а на восток от Сан-Томе до африканского материка более трёхсот километров, да и от Принсипи до него лишь немногим ближе, то бишь для любых материковых дикарей гарантированно за пределами видимости. Этим, собственно, и объясняется безлюдность обоих островов, так и не открытых в реале ни черномазыми, ни их предшественниками. Обратной стороной медали является относительная бедность их живой природы по сравнению с материком и Биоко. Тот-то, как я уже сказал, на шельфе, и в этом смысле он – продолжение материка. Растительность вся та же самая, животные – ну, слонов разве только нет, потому как не прокормиться на его площадях устойчивой популяции элефантусов. И то, не факт, что они там отсутствовали изначально, а не истреблены черномазыми при заселении острова. А на Принсипи и Сан-Томе совсем другие расклады. Что туда занесли с материка птицы, то на них только и прижилось. Ну, у чего совсем уж лёгонькие семена, разносимые обычно и ветром, то и ветер, конечно, занёс безо всяких птиц, а вот всё, что потяжелее – только вот этим пернатым транспортом. Но фруктоядные птицы – обычно хреновенькие летуны, и вся надежда на бурю, которая занесёт незадачливого, но везучего птица на остров вместе с проглоченной им косточкой сладкого плода. За миллионы лет таких случаев наверняка накопились многие тысячи, но проблема в том, что сам птиц ну абсолютно не озабочен распространением плодовой растительности и целенаправленно косточки плодов глотать вовсе не стремится, а может проглотить её только случайно, и чем крупнее та фруктовая косточка, тем меньше для неё вероятность оказаться в птичьем желудке.
Я ведь рассказывал уже про "бразильский виноград", который на самом деле ни хрена не виноград, но по прямому назначению вполне его заменяет? Его, правда, и нет в полосе "атлантических" лесов на бразльском выступе напротив нашего Бразила, южнее он растёт, но за то, что его и никогда там не было, ручаться не могу, поскольку весь этот наш хвалёный голоцен – на самом деле просто очередное межледниковье плейстоцена между последним Вюрмским оледенением и тем, которое ещё только предстоит. За последние два миллиона лет оледенения сменялись межледниковьями минимум четырежды – смотря что за полноценное межледниковье считать и за полноценное оледенение, и если снизить планку требований к ним, так мне и цифру восемнадцать доводилось слыхать. В общем, от четырёх до восемнадцати раз сдвигались туда-сюда ландшафтные зоны, и тропики не были в стороне, потому как хоть в них и было тепло, но менялось увлажнение, и я вполне допускаю, что могли быть периоды произрастания того самого "бразильского винограда" на том самом бразильском выступе. Но если он там и был, то шансы его попасть на остров один хрен были околонулевыми – из-за единичной и довольно крупной косточки в ягоде. Поэтому и попал на Бразил не он, а тот родственный ему вид не с чёрными, а с зелёными и морщинистыми ягодами, в которых не одна, а несколько мелких косточек. На примере этих двух видов становится понятным общее правило – интересующая пернатых плодовая растительность с мелкими и лёгкими семенами попадает на острова и сама, а с крупными и тяжелыми для птиц – надо завозить.
Наглядной иллюстрацией оказался африканский бамбук, с саженцами которого мы в устье Конго заморачивались напрасно – он здесь имеется и свой. Ну, разве только его генетическое разнообразие теперь немного повысим. То же самое касается и красного дерева, летучие семена которого могло занести и ветром. Порадовало и эбеновое дерево, родственное хурме, косточки которого без птиц сюда точно хрен попали бы. За него мы уже опасались, поскольку косточки уже не так уж и малы, но тоже впервые попали сюда и без нас. Ну, пусть тоже поразнообразнее будет, а то разные у эбена виды и подвиды, и не все они высшего сорта. Что мы реально напрасно везли, так это африканский тик, который ироко, произраставший на острове весьма обильно – и явно благодаря мелким семенам.
Зато с тем африканским манго мы заморочились не зря, потому как его крупная косточка для пернатых нетранспортабельна, да и как их глотать-то её заставишь? Только если силой, а по доброй воле или случайно хрен какой птиц эдакую дуру проглотит, дабы потом высрать, не разодрав жопу. В природе манго распространяют обезьяны, но какие в звизду обезьяны на Сан-Томе? На современном-то, Серёга говорил, завезён и прижился один вид мартышек с северного побережья залива и – тут он, правда, не был так уверен – дрилы из дельты Нигера. Но без помощи людей им попасть на остров с материка, да ещё и в достаточных количествах – ни единого шанса. Слишком далеко. Юкатанские ревуны на западе Кубы не в счёт – там и хренова туча мелких островков в ледниковые периоды по пути из воды выступает, служа облегчающим расселение живности мостом, да и то, мало они ревунам помогли, потому как только на крайнем западе Кубы и найдены их кости, то бишь попали они туда в мизерном количестве и быстро выродились от инбридинга, так и не сумев заселить весь остров. А тут и этих промежуточных островков никогда не было – другая геология морского дна. Так что будут на Сан-Томе только те обезьяны, которых на него наши колонисты завезут, и не факт ещё, что это будут мартышки с дрилами. У нас в зверинце Оссонобы с марокканскими маготами экспериментируют, и если удастся из них вывести породу с приемлемым поведением, то им тогда и быть помощниками людей на тропических плантациях. А манго – он ведь не только плодами ценен. У него и древесина хороша. Не всё же из твёрдой и тяжёлой делать, верно? Для судостроения не подходит, но для наземки один из основных древесных стройматериалов. В том числе, Серёга говорил, и на Сан-Томе. В реале наверняка португальцы завезли, ну а здесь – кроме нас и некому.
Чем остров богат, так это пресной водой. И Азоры водными ресурсами тоже не обделены, но куда им в этом смысле до Сан-Томе! О Горгадах же на этом фоне и вовсе-то вспоминать не хочется. Вот что значит экваториальный климат! Весь год на острове почти ежедневные дожди, обычно во второй половине дня, но бывают и по несколько дней без перерыва. Бывают и короткие дожди, но такие, что вне укрытия вымокнешь до нитки. Что удивительного в том, что Сан-Томе изобилует речушками и просто ручьями? И Горгады испещрены руслами, полноводными в дождливый сезон, но в засушливый это сухие вади, а здесь – точно такая же сеть, только полноводная круглый год. Учитывая горный рельеф, ни о какой их судоходности говорить не приходится, но зато и вода в этих бурных горных потоках чистая, поскольку в ней не успевает завестись никакая тропическая зараза. Даже к вершинам акведуков тянуть не надо, а достаточно провести к лагерю водопровод просто от ближайшего к нему горного потока, и эту воду можно безбоязненно пить. Для тропиков это фактор немаловажный. Второй же немаловажный нюанс, вытекающий из всё того же горного характера ручьёв и речушек с их порогами и водопадами – это удобство будущей электрификации тутошней колонии. На Горгадах и на Бразиле мы ветровыми роторами Савониуса заморачиваемся, а на перспективу над прибойными электростанциями мозги сушим, а здесь – ставь себе на каждом потоке мини-ГЭС одну за другой каскадами и не парься над халявной силой, крутящей генераторы. Мы когда Сан-Томе выбирали, только как промежуточный торговый пункт с портовой ремонтной базой и плантациями всяких тропических ништяков его намечали для общего оживления маршрута, ни о чём другом и не помышляя, но млять, если разобраться вдумчиво, так здесь со временем и энергоёмкие производства напрашиваются, и не мешало бы помозговать и над сырьём для них…
Семена масличной пальмы – как сенегальской, так и из устья Конго – мы сюда, как оказалось, тоже везли напрасно. На Сан-Томе её и своей полно. Мы их, конечно, один хрен посадили – по соображениям всё того же генетического разнообразия. Официозная версия, откровенно говоря, потому как ну не комильфо же признаваться в собственном невежестве, верно? Спасибо хоть, не профессиональном, потому как ни по профессиям, ни по профильному образованию в прежней жизни никто из нас знать этого и не был обязан. Но по общей эрудиции – срамотища, конечно, поскольку если бы мы сопоставили всё, что в принципе знаем, так могли бы и вычислить. Я ведь упоминал не раз, что Серёга, будучи в прежней жизни офисным планктонщиком, да ещё и достаточно блатным, жил уж всяко получше нашего с Володей. В смысле, зарабатывал существенно поболе нашего и многое мог себе позволить без напряга. Соответственно, он и интересовался многим из того, что для нас было не актуально по причине дороговизны. В частности – попугаями. Купить-то он себе попугая в конечном итоге поленился, потому как экзотический птиц хлопотен в уходе, но подумывал и выбирал, какого бы приобрести, а для этого изучал информацию по ним. Знал он и о том, что африканский жако, он же – серый попугай, считается самым лучшим говоруном, и о том, что "королевский" жако, самый редкий и престижный из них, обитает на Принсипи, и о том, что материковые жако обожают плоды масличной пальмы. А уж то, что расстояние от Принсипи до Сан-Томе меньше, чем до Биоко, прекрасно и по карте видно, и это значит, что птиц, сумевший расселиться на Принсипи, тем более сумел бы расселиться оттуда и на Сан-Томе. Даже не сообрази наш геолог этого сам, это и я бы ему подсказал, и спецназер. То, что на современном Сан-Томе диких жако не водится – ни разу не показатель. Народу на острове в наши времена – как сельдей в бочке, и даже если попугаев не истребляли на мясо, то уж всяко вылавливали на продажу, а черномазые меры не знают, вот и ловили наверняка, пока всех таким манером не повылавливали. Дурное же дело – разве хитрое? Принсипи – тот населён не так плотно, и там успели спохватиться. В общем, вычислили бы истину заранее, если бы догадались мозговой штурм провести.
Жако же эти – ну, показал нам Серёга, чем здешний "королевский" от простого отличается. Собственно, это островной подвид обычного краснохвостого, у которого ещё и вне хвоста отдельные красноватые перья бывают посреди общего серого фона, вот и вся разница. Считается, что это красивее, а на его способностях это никак не отражается – как говорится, зачем платить больше? Но снобы чего-то в этом находят. А по мне, так хоть с пятнышками этими "королевскими", хоть без них, но один хрен невзрачные они какие-то, эти жако. То ли дело здоровенный желто-зелёный ара с Доминики, который теперь не без нашей помощи и Азоры осваивает? Хотя, возможно, я просто пристрастен. Что говорят жако чище, чем ары, у которых довольно скрипучий голос, я охотно признаю. Третий день мы тут уже, так один вчера ещё турдетанских ругательств от нашей матросни нахватался – ага, птица говорун отличается умом и сообразительностью, гы-гы! А сегодня этот стервец уже и наш смех имитирует. Тут он, впрочем, не столь искусен – те звуки, что не связаны с членораздельной речью, ары воспроизводят точнее.
Впрочем, хрен с ним, с его не самым натуральным смехом. Не за это ему от нас спасибо, а за масличную пальму. Вот уж чем удружил, тем удружил. Плантации, конечно, один хрен заведём для увеличения урожаев, но ждать их ради товарной продукции уже не придётся, потому как халявные урожаи дикорастущей есть. Флот полудизельный у нас ни хрена ещё не построен, а горючее для него уже можно запасать. А плодоносит масличная пальма по факту – как срежешь спелую гроздь, так и начинается вместо неё рост новой. Ежемесячные урожаи – нормальное явление при их регулярном сборе, так что не оставят наши колонисты местных попугаев без корма, а наоборот, увеличат им кормовую базу. И такого свинства, как черномазые, наши им тоже не устроят. Будут, конечно, ловить, но не в тех количествах. Во-первых, спрос на них в Средиземноморье не тот, во-вторых, этот бизнес финиками давно схвачен и поделён, а в-третьих, для успешного экспорта надо бы больше отличий от базового материкового вида, а это уже выведение особой породы, то бишь разведение тутошних попугаев в неволе напрашивается. Дикие же – пущай летают.
Порадовал нас на острове и местный дикий инжир. Мы-то, конечно, привезли и культурный, но с ним засада – он, сволочь, опыляется насекомыми. Наташка говорила, что осы какие-то мелкие специальные, которые сами только на инжире и могут плодиться. Ну, в нашем современном мире выведены самоопыляющиеся, а точнее – самоплодные сорта, как она их обозвала. Всех тонкостей я не понял, а из тех, что понял – не все запомнил, но суть там в том, что полноценных семян и эти сорта без опыления теми осами не дают, да и урожайность не та. А в античном мире нет ещё и этих сортов, и античные садоводы, дабы свой культурный инжир опылить, ищут дикий и его ветки в свой сад приносят, потому как без них хрен получат свой урожай. Короче, где нет дикого, там и от культурного толку не будет никакого. Эдемские финики на этом обломились, а точнее – их предки, не сумевшие доставить через Атлантику живых опылителей, и нас на Кубе и на Бразиле ждёт такой же облом, если вопроса с доставкой этих ос туда не решим. Деревья-то из посаженных семян вырастут, а кому их опылять? С Африкой-то проще, в ней и других фикусовых до хрена, хоть жопой их жри, в том числе и тому инжиру близкородственных, так что и опылители могут быть взаимозаменяемыми, да и расстояние от Сан-Томе до африканского материка не столь велико, чтобы с него тот дикий инжир с живыми опылителями не доставить. Но тут и сама природа за нас эту работу сделала, и нам остаётся только пользоваться халявой.
Но американские ништяки, конечно, только завозить и сажать с нуля. Папайя, батат, какава, ставшая в реале основой экспорта Сам-Томе, кукуруза, табак, хина, которая нужна будет позарез торговцам с материком – ну, дадут в конце концов кору плантации на Кубе, но разве навозишься её через океан? А ещё ведь и стручковый перец с фасолью, а ещё помидоры, а ещё и ваниль, раздобытая не так давно эдемскими финиками у ольмеков. Пальмы асаи на Кубе ещё не выросли, авокадо хлопотен в уходе, а ананасы – в подготовке и доставке рассады, так что пока обождут. По той же причине обождут пока и фруктовые бананы, которые тоже без семян. Позже и то, и другое доставят сюда каботажным путём с Горгад, что многократно легче, чем переть капризные саженцы через Атлантику дважды. Зато костлявый абиссинский банан, нужный для текстильного волокна, сажаем сразу.
С пастбищами для скота ситуёвина на острове – не фонтан, потому как лесная зона. Только на прогалинах трава и растёт. Паре ишаков и пяти овцам хоть обожраться, но серьёзным стадам травоядных пастись негде. Правда, пока подвезётся дополнительная живность, часть леса сведётся под плантации, и между рядами культурных насаждений вырастет, конечно, и трава. Частично это рассосёт проблему с кормами, но уже понятно, что основной упор здесь придётся делать на способных прокормиться в лесу свинтусов и кур. Этих уже завезли, хоть и мизер, а в светлой перспективе к пополнению их поголовья добавятся и индюки. Это всё – уже с Горгад напрямую, потому как грузы для Сан-Томе через Бразил и Капщину переть – чистейшей воды идиотизм. Сейчас мы это сделали лишь потому, что главной целью экспедиции была Капщина, а Сан-Томе – так, заодно, чтоб два раза не плавать, раз уж на обратном пути по дороге оказался. И по такому случаю – ну не высаживать же предназначенных для острова колонистов совсем без ни хрена, верно? Так что один раз в порядке исключения можно и наплевать на рациональную логистику, раз по уму не получается, но в дальнейшем – действуем только по уму. Каботажное плавание в Гвинейский залив с Горгад – и ближе, и безопаснее, и дешевле, а значит, наши торгаши быстро это дело оценят и зачастят, оживляя и развивая эту островную колонию.
Тут собака в течениях порылась. Это к югу Африки из Гвинейского залива путь встречным Бенгельским течением и связанными с ним ветрами затруднён, которые тоже в основном вмордувинды. На суточных же бризах не очень-то налавируешься, когда из-за грёбаных туманов к берегу приближаться противопоказано. Поэтому с Капщины в залив парусным ходом идти хорошо, а вот туда из залива – весьма хреново. Но на маршруте от Сан-Томе до Горгад и обратно расклад меняется. Ближе к самому углу того Гвинейского залива холодное Бенгельское течение поворачивает на запад и прогревается, переходя в тёплое Южное пассатное, а оно, достигнув Бразилии, разветвляется на Гвианское течение и на Экваториальное противотечение, которое движется обратно, с запада на восток. Оно же у северных берегов Гвинейского залива дразнится уже Гвинейским и доходит как раз до самого его угла. Вот по нему как раз и удобен каботажный путь от Горгад до Сан-Томе. Ветры, правда, не особо хороши, но попутное течение и суточные бризы в помощь. А вот взад на Горгады, дабы не корячиться против течения подобно мореманам Ганнона, лучше мористее взять, дабы до африканского угла на Южном пассатном дойти, проскочив таким манером две трети пути и лавируя под латиной только последнюю треть. Вот так, по всей видимости, и нам на Горгады идти придётся, потому как иначе Гвинейское течение нам повтор подвига Ганнона гарантирует, и если для него, не знавшего расклада, этот героизм был вынужденным, то для нас, знающих, он обернулся бы дурацким. Мы ж разве рвёмся в герои? Нам результат нужен, а не подвиги.
Чисто теоретически, если только течения эти по карте учитывать, так невольно возникает мысля о возможности прямого сообщения между Сан-Томе и Бразилом – ведь показано же на карте, что Южное пассатное течение как раз к бразильскому выступу идёт, а обратно, типа, продолжить путь по нему на северо-запад, да и свернуть напротив устья Амазонки на то Экваториальное противотечение, в Гвинейское течение переходящее. Да только ведь противотечение не зря так обозвано, а за то, что направлено против основных ветров. Ну и хрен ли тогда от того противотечения толку, когда эти ветры – натуральные вмордувинды, а помогающие горю вблизи материков суточные бризы в открытом океане отсутствуют как явление? А вот закольцевать сам южноатлантический маршрут Капщина – Сан-Томе – Бразил – Капщина технически вполне возможно, если это окажется выгодно экономически. Тут по грузам надо смотреть, найдётся ли на бразильском выступе что-то нужное для Капщины и транспортабельное через южную Атлантику. В ближайшие годы – вряд ли, но в перспективе – тот же каучук, например…
С выбором места под поселение мы решили не оригинальничать. Одноимённый с островом город Сан-Томе, хоть и одно название, что город, по современным-то меркам, стал в реале не только столицей островного государства, но и его главным портом, через который и осуществлялась львиная доля всего его внешнего грузооборота. Выбирали его в качестве гавани ещё открывшие остров португальцы, по этой части уж всяко не профаны, и с пятнадцатого века по начало двадцать первого так никто их выбора и не оспорил, так что сомневаться в его рациональности как-то не приходилось. Если они лучшей гавани на острове не нашли, чем эта, вряд ли таковую найдём и мы. Да и не так уж много пригодных бухт на Сан-Томе – есть, конечно, и пляжи, но по большей части берега острова скалистые и обрывистые – хрен причалишь к таким. Правда, и нет худа без добра – сразу видно, что в строительном камне у колонистов недостатка не будет.
Сами по себе скалистые обрывы – ещё и естественные природные укрепления. Я ведь рассказывал уже о Доминике с её такими же в основном берегами? Для своих это халявная крепость, которую нетрудно оборонять даже небольшими заслонами на крутых горных тропах, а для чужаков, которые вздумали бы десантироваться на остров – крепкий орешек, который хрен возьмёшь без больших потерь. Ну, при условии хотя бы сравнимого оружия, конечно. Мы-то с дальнобойными роговыми луками, арбалетами и винтовками, не говоря уже о крепостных ружьях, нынешнюю даже не аравакскую ещё Доминику взяли бы, если бы целью такой задались, потому как у тамошних дикарей и луков-то нет, одни только дротики, но карибы в реале, имея луки, отбились и от испанцев, и от французов, и от флибустьеров с их мушкетами, а раздобыв и мушкеты, вынудили считаться с собой и англичан, на доброе столетие оставив за собой весь остров, а в дальнейшем – его самую плодородную часть в качестве резервации. Вот что значат удобные для обороны рубежи! А у нас на Сан-Томе ситуёвина и вовсе обратная – остров этот исходно ничейный, так что теперь он наш, и оспорить захват некому, а если когда-нибудь в будущем, польстившись на достаток наших колонистов, черномазые и сподвигнутся на обзаведение какой-никакой лодочной флотилией, которую каким-то чудом почему-то не перехватит и не перетопит на хрен наша, то что поделает черномазый десант с дротиками и слабенькими деревянными луками с дальнобойной стрелковкой наших колонистов? Это даже и не перестрелка будет, а банальный расстрел. И это даже если укреплений никаких на тропах не ставить, а только стрелковыми постами их занять. А если ещё и блокгаузами их защитить с крепостными ружьями, а то и с лёгкой артиллерией? Только лишь в малочисленные гавани с их низким берегом тогда и сунешься, ну так там и форты напрашиваются посерьёзнее, вооружённые соответственно, да и флотилия колонистов разве будет бездействовать? Понятно, что не сразу всё это на Сан-Томе появится, далеко не сразу, но пока ведь и не от кого – долго ещё на материке напротив ничего опасного для острова у черномазых не будет и в помине…
Журчащие с обрывов в море водопадики приводят меня в вожделение не только как латифундиста, но и как производственника. Больше всего их на восточном побережье южнее основной гавани и до малой гавани Санта-Круз, указывая на множество быстрых и бурных потоков, а гористый рельеф намекает на то, что и дальше вглубь острова заросли тоже скрывают немало удобных мест для водяных колёс, включая и верхнебойные, всяко поэффективнее простых нижнебойных. Конечно, там нужна нормальная рекогнрсцировка на местности, но уже и предварительно понятно, где напрашивается промышленная зона колонии. Гавань Санта-Круз – дополнительный бонус, который значительно облегчит ввоз на мануфактуры сырья и вывоз их готовой продукции. Есть отчего пустить слюну!
Но не меньшее слюноотделение вызывают и горные вершины. Пик Као-Гранде в южной части острова – не только не самая высокая из его вершин, но даже и не в первой их десятке. Тем не менее, его относительная высота от подножия с чуть ли не отвесными склонами – более двухсот метров почти отвесной скалы при её абсолютной высоте около трёхсот – делают его одним из самых удобных на всём острове мест для подвески большой антенны дальней радиосвязи. Высшая-то точка – Пико-де-Сан-Томе – как я уже упоминал, вообще два километра, но там гораздо более пологие склоны. Туда, скорее, напрашивается ретрансляционная станция в ещё более отдалённом светлом будущем, когда у нас дойдут наконец руки и до такой роскоши. А для начала – хотя бы морзяночная дальняя связь.
В общем, на полном культурном отшибе колония не будет, занять колонистов найдётся чем, и где им селиться – тоже найдётся. Размеры острова, Серёга говорит, где-то примерно сорок на тридцать километров, а население в нашем современном мире почти полторы сотни тысяч рыл. Это, конечно, не показатель, потому как Африка есть Африка, и значительная часть жратвы импортируется, но факт тот, что как-то эта прорва народу на острове размещается, не топчась друг у друга на головах и даже как-то не передравшись меж собой из-за тесноты. Так что в наших условиях, думаю, несколько тысяч человек, а в перспективе и до пары-тройки десятков тысяч, уж всяко сумеют жить на нём просторно и в достатке. Небольшой, но и далеко не самый мелкий, если по греческим меркам судить, античный полис. Куда ж больше-то, если вдуматься? Что же до теоретической опасности морского набега черномазых с материка – ну, читал я как-то раз где-то про отправку через Атлантику целой флотилии черномазых. Кажется, султана Мали. Серёга припомнил, что это было начало четырнадцатого века нашей эры. Культура тогдашней малийской элиты – уже мусульманская, арабы в ней – культурный гегемон и образец для подражания, так что скорее всего та единственная попытка исследовать Атлантику была навеяна рассказами об арабских мореплавателях. Причём, не факт, что реальных – боюсь, как бы не сказками о том самом Синдбаде. Во всяком случае, вплоть до расцвета эпохи берберских корсаров, то бишь до шестнадцатого века, на Атлантике правоверные мореманы так ничем себя и не прославили, просрав даже наследие романизированных фиников, а вся торговля Магриба с Мали осуществлялась караванами через Сахару. А посему, хоть и имели султаны Мали выход к Атлантике в районе Сенегала, не было и не могло у них быть ни арабских шебек, ни фелюк, ни дау, ни сведущих в их постройке и управлении ими людей, а были только речные долблёнки черномазых, которые как ты ни масштабируй, не станут они от этого нормальными океанскими плавсредствами. Так что и пропажа того малийского флота без вести вполне закономерна – не терпят подобные предприятия подобного дилетантизма. А сейчас в Чёрной Африке нет и этого, и каботаж из устья Нигера на видимый с материка Биоко – наибольшее морское достижение черномазых античной эпохи. Будут, конечно, видеть корабли наших колонистов и купцов, будут даже догадываться, что они откуда-то из океана, а по частоте рейсов – что даже где-то не очень далеко. А хрен ли толку? Один хрен разведка сперва нужна, а парусники ходят не по прямой, а по ветрам, так что следить за ними на тихоходном гребном челне – занятие неблагодарное, хлопотное и чреватое. И когда пара-тройка отважных шпиенов подряд пропадает в океане без вести – это как-то отбивает охоту продолжать героические попытки…
Как и во всех наших островных колониях, морской промысел наверняка станет одним из основных занятий для наших колонистов. На суше-то ведь охотиться не на кого, а море – вот оно, плещется вокруг всего острова. Рыбы всевозможной полно, включая и акул, конечно, но большой белой среди них практически нет – сказывается отсутствие в этих водах тюленей, до которых столь охочи эти кархародоны кархариасы. Чего тут не по вкусу средиземноморскому тюленю-монаху, прекрасно себя чувствующему возле Керны, как и его карибскому сородичу – это их спрашивайте, мы же на их капризы абсолютно не в обиде, потому как без большой белой здесь как-то спокойнее. Есть, конечно, тигровая, есть мако, есть синяя, есть молот, есть серая бычья, и все они тоже числятся опасными, но большая белая – на первом месте, и её отсутствие не может не радовать. Да и разве акулы основная промысловая рыба? Те же макрели, та же скумбрия, ничем не отличающаяся от средиземноморской, тот же марлин. Ну, тунец – он и в Африке тунец. Тутошние, как и возле Бразила, помельче средиземноморского, но то по тунцовым меркам, а в сравнении с прочими промысловыми видами – один хрен всем рыбам рыба. Но особенно до хренища здесь летучих рыб. Их и в остальной Атлантике немало, но в Гвинейском заливе просто кишмя кишат. Вроде бы и мелюзга, но когда эта мелюзга ловится практически сама, это делает её заметной частью улова. Когда я читал у Тура Хейердала, что и на "Кон-Тики", и на обоих "Ра" они нередко даже не рыбачили, поскольку им хватало собранных прямо с палубы летучих рыб, верилось с трудом, но на экипаж их численности – так оно и есть.