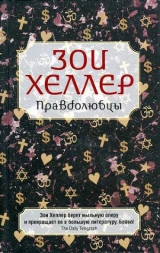
Текст книги "Правдолюбцы"
Автор книги: Зои Хеллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Глава 3
«Бакены в нью-йоркской гавани вертелись и скакали, будто водевильные актеры…»
Бакены в нью-йоркской гавани вертелись и скакали, будто водевильные актеры, а тем временем паром из Стейт-Айленда, рассекая волны, приближался к Манхэттену. На верхней палубе десяток девочек в футболках с надписью «Девичья сила: Центр Восточного Гарлема» резвились вовсю, празднуя освобождение из Детского музея, куда их возили на экскурсию.
– Рени не умеет плавать! И сейчас я сброшу ее в воду!
– Да? А я потащу тебя за собой.
– Что у тебя с волосами, Рен? Ты похожа на бомжиху.
– Шанель плюет в птицу! Шанель, кончай!
Одна из девочек обернулась к высокой белой женщине, сидевшей на скамье позади нее:
– Роза! Разве нам можно плеваться?
Роза Литвинов рылась в сумке в поисках мобильника.
– Нет, – отрывисто сказала она, перестала искать мобильник и оглядела палубу. Одна из ее подопечных стояла у поручней отдельно от остальной группы, разучивая танцевальные движения.
– Давай, давай, – напевала она детским голоском, перевирая мелодию и энергично дергая попой вперед-назад в подражание гавайским танцорам.
– Кьянти! – окликнула ее Роза.
Девочка не ответила.
Кьянти была Розиной головной болью. За последние месяцы она из очаровательного большеглазого ребенка превратилась в огрызающегося подростка. Косички и гольфы исчезли. Теперь Кьянти трясла пробившейся грудью, и от нее пахло сигаретами. Она больше не хотела делать магниты на холодильник и ершики для чистки труб; она хотела хвалиться грязным ядовито-зеленым бюстгальтером, отплясывать непристойные танцы и слоняться вокруг Центра в предосудительной компании мальчиков постарше. Другие девочки, маскируя зависть благонравным возмущением, говорили, что Кьянти делает парням минет.
Худощавый молодой человек с кожей цвета беж и дредами поднялся на палубу.
– Тебев здешние туалеты лучше не соваться, – пробормотал он, усаживаясь рядом с Розой.
– Нет, ты только посмотри! – Роза указала на Кьянти, которая, согнув ноги в коленях и уперев руки в бедра, отчаянно крутила выпяченным задом.
– Врубись в этот драйв! —пела девочка. – Ну-ка, наподдай, и – а-а-у, а-а-у – кайф!
– Ого! – сказал Рафаэль. – Да это же Лил Ким. [13]13
Лил Ким (Кимберли Дениз Джоунс, р. 1975) – американская певица, в числе прочего исполняет рэп.
[Закрыть]
– Не смешно, – рассердилась Роза. – Она совершенно отбилась от рук… Кьянти! Прекрати немедленно!
Девочка оглянулась. На ветру ее круглое личико блестело, как спелая темная слива.
– В чем дело? – ощетинилась она.
– Зря ты думаешь, что твои танцы – это прикольно, – сказала Роза. – Ты выглядишь глупо.
– А вот и нет!
– А вот и да.
Кьянти требовательно взглянула на Рафаэля:
– Йо, Раф, почему ты всегда молчишь, когда она ко мне придирается?
– У-у, – рассмеялся Рафаэль. – Не втягивай меня в это. Даже не пытайся. Разбирайтесь сами, девочки.
Роза пригладила волосы, встрепанные ветром. Она терпеть не могла, когда Рафаэль изображал своего парня перед этими девочками. Учитывая, что он ходил в тот же престижный детсад, что и Роза, а его отец-кениец был университетским профессором, попытки прикинуться «пацаном» казались Розе не только абсурдными, но и попросту вульгарными. К сожалению, Рафаэль всегда подстраивался под окружающих. В гей-барах, куда Роза изредка наведывалась вместе с ним, она с ужасом наблюдала, как он меняется в присутствии других геев, как начинает томно прикрывать глаза и сюсюкать: «Родной, рубашка – просто обалдеть» или «Родной, поверь, кино просто гениальное». Она гневно уличала его в постыдной мимикрии, но Рафаэль не смущался и не каялся.
– Роза, детка, – отвечал он, растягивая слова, – во мне живут сотни людей.
Роза снова взялась перетряхивать сумку и наконец нашла телефон. Ее ждали пять сообщений: два от матери и три от сестры Карлы. Металл в их нетерпеливых голосах с каждым сообщением становился все звонче.
«Хочу лишь сказать, что у папы проблемы».
«Перезвони обязательно».
«Где ты? Жду звонка».
«Роза, ау!»
«Ради бога, речь идет о твоем отце. Почему ты не отвечаешь?»
– Роза! – раздался крик. – Шанель опять плюется.
– Шанель, хватит! – торопливо крикнула Роза и повернулась к Рафаэлю: – Присмотри за ними, ладно? Я должна позвонить маме.
– Где ты, мать твою, была? – грозно осведомилась Одри.
– На экскурсии с девочками. И не проверяла телефон. Что случилось?
– Плохо слышно. Что там за шум?
Роза спустилась в салон. Рев двигателя и ветра мгновенно стих до почти кладбищенского безмолвия. Туристы в ветровках довольствовались тем, что взирали на воду цвета хаки сквозь заляпанные окна. От прилавка со снедью пахло горелым маслом.
– Я на стейт-айлендском пароме. У папы возникли проблемы?
– «Возникли проблемы?» – передразнила Одри. – Ага. и еще какие. У него был удар. Два удара. Он в больнице в Бруклине.
– Не может быть!
– Он без сознания.
– О господи!
– А можно без драмодельства? Мы не на шоу Опры. [14]14
Опра Уинфри (р. 1954) – ведущая популярного ток-шоу на американском телевидении.
[Закрыть]
Роза замолчала. Плохие новости следует обсуждать максимально спокойно – такова была принципиальная позиция Одри. И чем ужаснее событие, тем настойчивее она требовала сохранять невозмутимость. Джоел любил рассказывать историю о том, как в первые годы их брака у Одри случился выкидыш в метро. Кровь струилась у нее между ног, но когда она позвонила Джоелу из телефона-автомата, то сказала лишь, что ей «слегка нездоровится». Джоел – тогда еще не научившийся правильно интерпретировать ее загадочные, как у оракула, изречения – предложил жене выпить аспирина и перезвонить попозже, поскольку сейчас он очень занят. И Одри, стойкая маленькая британка, не стала ни возражать, ни жаловаться; она просто пересела на другой поезд и самостоятельно добралась до больницы. Роза знала, что ей положено восхищаться матерью, этим крепким орешком, но она никак не могла понять, что такого восхитительного в нежелании молодой женщины попросить помощи у мужа в трудную минуту. Если из этой истории и можно извлечь урок, думала Роза, то он состоит в абсолютной бессмысленности показного стоицизма.
– Я тебе звоню, звоню, – продолжала Одри. – У меня и в мыслях не было, что ты забьешь на сообщения. Твой эгоизм потрясает.
Мать наверняка отрепетировала упреки. Ее речь лилась, как церковная проповедь. Роза выглянула в иллюминатор проверить, как там девочки. Их футболки развевались на ветру, словно знамена на флагштоках. А Кьянти опять танцевала, развязно выгибаясь.
– Роза, ты куда-то пропала, – сказала Одри.
– Нет-нет, я тебя слушаю.
– Я ведь не могу долго говорить. В больнице не разрешают пользоваться мобильниками.
– Когда это случилось, мама?
– Подробности при встрече… Первый удар случился в суде. Второй здесь примерно в половине одиннадцатого.
– Что говорят врачи?
– А что они могут сказать? Говорят, он серьезно болен.
– Я скоро освобожусь, – сказала Роза. – Отвезу девочек в Центр и потом сразу поеду в больницу.
– Премного благодарна, – съязвила Одри. – Но можешь особо не торопиться…
– Мама…
– Ему нужен покой, так что, будь добра, не устраивай сцен, когда доберешься сюда.
– С чего ты взяла, что я устрою сцену? – возмутилась Роза. Но мать уже отключила телефон.
Когда спустя два часа Роза приехала в больницу, Ленни болтался в коридоре.
– Папу обследуют, – доложил он. – Мы побыли с ним немного, но потом его опять увезли.
Роза пристально изучала физиономию брата:
– Ты ведь не под кайфом?
– Нет, что ты.
– То есть – да. Где мама?
Ленни повел ее в комнату для посетителей, где находились Одри и Карла. Одри тоскливо пялилась в стену, напоминая маленькую девочку, которая потерялась в парке аттракционов и теперь ждет, когда родители заберут ее из офиса администрации.
– Привет, мама, – сказала Роза.
Одри мгновенно посуровела:
– О, наконец-то она с нами.
– Есть новости? – обратилась Роза к сестре. Карла, больничный социальный работник, могла лучше других вникнуть и разобраться в том, что говорят врачи.
– Ему сделали сканирование, – сообщила Карла. – И оно показало, что в обоих полушариях мозга наблюдается активность, и это очень обнадеживает. Конечно, поражения имеются, но пока, насколько они могут судить, затронута только двигательная зона, а значит, речь не утрачена…
– Да они сами не понимают, что говорят, – взорвалась Одри. – Все они тут кретины, поэтому и работают в этой дыре, а не в нормальной больнице на Манхэттене.
Вынув из кармана истрепанный бумажный платок, Карла вытерла слезы.
– Не реви, Карла, умоляю, – попросила Одри, и все затихли. – Они здесь даже не знают, кто такойДжоел, – после паузы добавила она. – А лечить его доверили какой-то соплячке.
– К женскомусословию она, конечно, не принадлежит, – улыбнулась Роза. Она развлекалась тем, что вела счет антифеминистским высказываниям Одри, и воображала, как однажды соберет их все в книгу и подарит матери на Рождество.
– Не цепляйся к словам, – одернула ее мать. – Говорю тебе, эта врач – подросток. Выглядит так, будто у нее еще месячные не начались.
– Не волнуйся, – сказала Карла, – она, несомненно, знающий…
– Блин, где моя травка? – Одри судорожно хлопала себя по карманам. – Ленни, куда я положила травку, что ты мне дал?
Уголки рта Ленни опустились в смиренном неведении:
– Без понятия.
– Вспомни, когда ты видела ее в последний раз, – пыталась помочь Карла.
Не слушая дочь, Одри вскочила:
– Черт, черт, черт.
Карла, опустившись на четвереньки, заглядывала под кресла:
– Ты не оставила ее в туалете?
Ленни неубедительно притворялся, будто ищет за диваном.
– Господи, чтоб тебя, – бормотала Одри, рыская взглядом по полу. – Ну кудая ее дела?
Роза наблюдала, как брат с сестрой ползают по комнате – два покорных спутника, вращающихся вокруг солнца-Одри.
– Ох! – внезапно воскликнула Одри, вытаскивая пакетик из бумажника. – Нашла! Сворачиваем панику.
– Молодец, мама! – обрадовалась Карла.
– Хочешь курнуть, мам? – поинтересовался Ленни. – Тогда я пойду с тобой.
– Не говори глупостей. А вдруг они привезут папу, когда меня не будет? – Одри опять села на диван и закрыла глаза.
Дети не отрываясь смотрели на нее.
– А еще у этой девчонки-врача, – снова заговорила Одри, – жуткий малюсенький ротик. Точь-в-точь как дырка в жопе.
Ленни и Карла засмеялись. Роза сердито уставилась в пол. Ее мать гордилась своей безоглядной честностью, стремлением выразить словами то, о чем другие лишь думали, но боялись сказать вслух. Но на самом деле, считала Роза, никто не разделяет уродливое восприятие мира, присущее ее матери. Не правдивость ее замечаний вызывала смех, но их несправедливость, их странная, необъяснимая жестокость.
– Мама, ты должна поесть, – сказала Карла. – Давай я принесу что-нибудь из кафетерия.
– Нет, – поморщилась Одри. – Я ничего не смогу проглотить.
– Тебе станет легче, если ты поешь, – уговаривала ее Карла. – Иначе ты лишишься сил.
Одри открыла глаза:
– Ты только и думаешь, что о еде.
Карла потупилась.
– Вообще-то, Карла, – произнес Ленни, – я бы, к примеру, не отказался от батончика «Миндальной радости».
Роза укоризненно взглянула на брата:
– Сходи сам за своей «Миндальной радостью».
– Все в порядке, – Карла встала, – я принесу.
– Она сама вызвалась, – пожал плечами Ленни.
– Нельзя же быть таким лентяем, – не унималась Роза.
– Все в порядке, правда, – повторила Карла.
– Ради бога, Роза, не лезь не в свое дело, – положила конец препирательствам их мать.
– Тогда заодно уж принеси и кофе, – приободрился Ленни. – Черный, с двумя кусочками сахара.
Роза поднялась вслед за сестрой:
– Я пойду с тобой.
В лифте они улыбнулись друг другу.
– Как Майк? – спросила Роза.
– Хорошо, – ответила Карла и тут же начала оправдывать мужа, до сих пор не доехавшего до больницы: – Он приедет как только сможет. После обеда у них очень важное профсоюзное собрание. Завтра они объявят о том, кого из кандидатов на выборах в законодательное собрание штата поддерживают.
– Вот как? – вежливо откликнулась Роза. О работе Майка, профсоюзного деятеля, Карла всегда говорила с пиететом жены миссионера, проповедующего слово Божье на Борнео. – А мама, как обычно, неотразима, – помолчав, заметила Роза.
– Ей сейчас очень тяжело.
Роза вздохнула: достижение сестринской близости с Карлой – тяжкий труд. Большинству братьев и сестер – как бы далеки они ни были друг от друга – удавалось сплотиться под знаменем борьбы с родителями, которые «достали». Но Карла отказывалась присоединяться даже к самой мягкой критике в адрес Джоела и Одри. В этой неколебимой дочерней преданности Розе чудился некий трагизм. Супруги Литвиновы были не слишком внимательны к своим детям и менее всего к старшей дочери, поэтому ради рассеянной родительской похвалы Карле приходилось прилагать куда больше усилий, чем остальным. Но, как ни странно, низкий статус в семье лишь побуждал Карлу еще крепче цепляться за эту институцию. Розе сестра напоминала тех людей, кто, проведя четыре одиноких, безрадостных года в колледже, спустя десяток лет становятся председателями клуба выпускников.
Под безжалостными лампами дневного света кафетерий выглядел уныло. Сестры взяли подносы и поплелись вдоль волнистой стойки, разглядывая содержимое пластиковых коробов. Карла застряла у блюда с посеревшими сырными булочками.
– Не стоит их брать, – сказала Роза. – Наверное, они здесь уже неделю лежат.
Искоса поглядывая на сестру, она отметила, что Карла еще больше располнела. Лишние подбородки умножились, и даже походка изменилась: Карла теперь переваливалась на ходу, слегка отклоняя назад спину. Роза обиделась бы, скажи ей кто-то, что она придает чересчур важное значение внешности. Наоборот, физическую красоту она ни в грош не ставила и чувствовала себя неловко, когда ее смазливая наружность вызывала у незнакомцев внезапную и беспочвенную приязнь. Более того, красивые люди представлялись ей чуть ли не участниками какого-то надувательства, от которого сама она изо всех сил старалась откреститься. Однако полнота Карлы была не эстетической проблемой, но этической. Эти объемы свидетельствовали об отвратительной прожорливости, то есть о фундаментальном дефиците самоуважения.
В надежде подать добрый пример Роза переместилась к фруктовому отсеку. Изучив корзинку со сморщенными яблоками и почерневшими бананами, она нехотя выбрала слегка помятый апельсин. Карла уже расплачивалась, в том числе и за сырную булочку. При приближении сестры она поспешно сунула булочку в сумку.
– Ого! – воскликнула Роза, заглянув в битком набитую сумку сестры. – Похоже, ты готова к любым чрезвычайным ситуациям. – Углядев банку с тальком, она спросила: – А зачем ты этоносишь с собой?
Карла покраснела и захлопнула сумку.
– Это… ну, для ног. Когда я долго хожу, на бедрах… с внутренней стороны… появляются потертости.
– А-а. – Роза силилась не показать, насколько она шокирована. – Да, просто кошмар.
Наверху они Обнаружили, что Джоела привезли с обследования и поместили в палату интенсивной терапии. У его постели стояли Одри и Ленни.
– Ты не останешься здесь надолго, милый, – говорила Одри, когда в палату вошли Роза и Карла. – Вечером я позвоню доктору Сассману, и мы перевезем тебя в университетский медцентр.
Джоел неподвижно лежал на кровати, седые волосы липли к черепу влажными желтоватыми прядями, из широких рукавов больничной рубахи, словно языки колокола, торчали узловатые руки. В глубине души – в той ее части, где Роза оставалась ребенком, – она надеялась, что отец силой духа одолеет телесный недуг. Она воображала, как он сядет в постели, примется балагурить и укрощать медперсонал в привычной манере громогласного командира. Но в этом полуживом, веснушчатом существе Роза не узнавала своего отца; все, что было ее отцом, куда-то подевалось. Это был не Джоел, но облаченный в застиранную больничную робу еще один новобранец несметной армии больных и умирающих.
– Ты уверен, что все это тебе пригодится? – игривым тоном спрашивала Одри, имея в виду трубки, густо облепившие череп, рот и запястья Джоела. – По-моему, ты просто решил выпендриться… – Не закончив фразы, она набросилась на Карлу: – А ты чего ухмыляешься?
Роза взглянула на сестру. Угодливость Карлы не обходилась без побочных осложнений, и одним из них было бессознательное подражание окружающим: она имитировала выражения лиц, а иногда перенимала обороты речи и акцент. Сейчас сестра с таким увлечением наблюдала за тем, как их мать натужно изображает оптимизм, что физиономия невольно расплылась в глуповатом жалостливом веселье.
– Прости, – попятилась Карла. – Я не хотела…
– Бог ты мой, – прошипела Одри, – завязывай краснеть, как отшлепанная задница. Уж кто-кто, а ты должна знать, как ведут себя у постели больного.
– Отстань от нее, мама, – тихо сказала Роза.
Одри продолжала испепелять взглядом Карлу:
– Давай, поговори с ним!
– Мама, оставь ее в покое, прошу тебя, – повторила Роза.
– Что ты сказала? – Одри выпрямилась во весь рост и обернулась к младшей дочери.
– Ты срываешься на Карле. Это несправедливо.
– Все хорошо, – пробормотала Карла, – честное слово…
Одри сложила руки на груди:
– Выходит, ты осчастливила нас своим присутствием только затем, чтобы поучить меня хорошим манерам?
– Я лишь говорю, что необязательно быть такой сукой, Карла этого не заслуживает, вот и все.
– Не ссорьтесь, – чуть не плача попросила Карла.
Одри шагнула к Розе:
– Ты назвала меня сукой?
– Я только… – Нижняя губа Розы мелко задрожала.
– Пошла вон, дрянь! – взвизгнула Одри.
Роза не шевелилась.
– Ну же! – заорала ее мать. – Катись отсюда!
Роза медленно направилась к двери.
– Вот-вот, проваливай! – крикнула Одри, когда Роза выходила из комнаты. – Хотя бы от одной дуры отделались!
Пока Роза была в больнице, прошел дождь, и, когда она шагала к метро, кипя от возмущения и переизбытка эмоций, деревья на Генри-стрит роняли ей на голову ледяные слезы. Ее мать невыносима. Невыносима.На старости лет Одри превратилась в деспота-параноика, который в любом пустячном неповиновении видит зародыш масштабного бунта. Ты бросаешь в нее камешком, она отвечает огнем из гаубицы. Того, что случилось в больнице, Роза ей никогда не простит.
Она свернула на Кларк-стрит, и тут зазвонил ее мобильник. Звонил Рафаэль из Центра для девочек.
– Ты как? – спросил он. – А твой отец?
– Трудно сказать. Он все еще без сознания.
– Фигово. Хочешь, я приеду в больницу?
– Нет. Я иду домой. Мы с матерью поругались, и она меня выгнала.
– Что?
– Она измывалась над Карлой, я попросила ее прекратить, и она взбесилась.
– Она тебя выгнала?
– Ну да.
– Бедненькая Ро. Хочешь, я приеду к тебе?
– Не-ет. Я собираюсь лечь спать.
– Точно?
– Да, точно. Слушай, я сейчас вхожу в метро. Так что до завтра.
Выключив телефон, она ощутила смутное недовольство собой. Рафаэль мгновенно принял ее версию событий, но эта безоговорочная вера лишь породила сомнения. Проходя через турникеты, спускаясь в почерневшем от времени лифте, она уже чувствовала, как греющая душу ярость гаснет под натиском раскаяния. Не надо было затевать ссору с матерью – по крайней мере, не у постели тяжело больного отца. Она вступилась за сестру, что, конечно, похвально, но, с другой стороны, Карла не просила о заступничестве. И она назвала мать сукой! Она, которая гордилась тем, что никогдане употребляет это гадкое сексистское слово. А теперь из-за глупой детской выходки ее изгнали из палаты отца именно тогда, когда он более всего в ней нуждается.
Поезд подошел сразу, как только Роза ступила на платформу. Вагон был обклеен рекламой страшноватого на вид доктора Зет, манхэттенского дерматолога со светящейся кожей. Под размноженным взглядом докторских печальных глаз она размышляла о своих прегрешениях.
Чувство вины – не абстрактного стыда, который якобы обязан испытывать каждый белый богатый американец, но подлинной личной вины – появилось в эмоциональном репертуаре Розы совсем недавно. Прежде непререкаемые истины социалистических убеждений надежно оберегали ее от угрызений совести. Претензии морального толка адресовались другим – одноклассникам, не устоявшим перед соблазном полакомиться южноафриканскими фруктами, знакомым по колледжу, недостаточно озабоченным судьбой ангольских борцов за свободу, и, разумеется, родителям, законченным буржуям, которые только прикидываются кристально чистыми социалистами. Когда она была подростком, отец часто говорил ей, что хорошо бы умерить революционный пыл, если речь заходит о человеческих слабостях.
– Совершенны лишь идеи. Люди – никогда, – втолковывал он дочери. – С возрастом ты научишься прощать людей.
Но Роза отвергала попытки модифицировать ее праведный гнев. Человеку, столь глубоко переживающему несправедливость и неравенство, столь преданному идее переустройства мира, определенная степень безжалостности абсолютно необходима, полагала она. Отцу она неизменно отвечала цитатой из Ленина, оправдывавшего тактику большевиков: «О каком гуманизме может идти речь в этой невиданной яростной схватке? Какой мерой измерить допустимость ударов, наносимых в бою?»
Однако райская эпоха праведности завершилась. После долгой, изнурительной битвы между доводами и контрдоводами Роза отказалась от своей политической веры и сдернула завесу, плотно скроенную из теоретических доктрин, сквозь которую она прежде взирала на мир. Впервые в жизни она прокладывала себе путь не по звездам революционных принципов. Но уничижение, которому она себя подвергла, угнетало ее куда меньше, чем внутренняя опустошенность. Раньше она воображала, что марширует в авангарде истории, как те мускулистые героини на советских конструктивистских плакатах. Теперь же она отброшена назад, на гнусные задворки буржуазного либерализма. Она стала еще одной поборницей добрых дел, которая возит девочек из неблагополучных семей на музейные экскурсии, как будто музеи способны что-то изменить в их жизни. Роза не хотела – да и не могла – вернуться к прежним иллюзиям, но как же ей не хватало той уверенности в себе, какую она излучала, когда пребывала в их власти!
На Сто десятой улице Роза вышла из поезда и, глянув на часы, быстро зашагала по Бродвею к Амстердам-авеню, в синагогу Ахават Израэль. Вечерняя молитва только началась, когда она вошла в здание. При входе, между двумя гигантскими знаменами, израильским и американским, стоял человек, раздавая прихожанам Пятикнижие и молитвенники. Обогнув его, Роза двинулась по сумрачному коридору. В конце коридора была лестница, которая вела на галерею – место, отведенное сугубо для женщин. В этот вечер кроме Розы на галерее была только одна женщина – пожилая дама, покрывшая голову чем-то оборчатым, напоминавшим чехол для кресла. Встав у перил, Роза посмотрела вниз, где горстка стариков мерно покачивалась в такт молитве.
Впервые она забрела в Ахават Исраель три месяца назад. Субботним декабрьским утром, проходя мимо, она заметила двух мужчин в черных шляпах, нырнувших в главный вход, и решила последовать за ними. Порыв был продиктован скорее легким туристским любопытством, нежели духовными потребностями: прежде она никогда не бывала в синагоге, и ей показалось забавным выяснить, как молятся верующие евреи.
Стоило ей войти, как она совершила серьезный промах, усевшись там, где места зарезервированы для прихожан мужского пола. Святилище охватил нервический переполох, который закончился тем, что двое раскрасневшихся мужчин подхватили Розу под руки и отвели наверх, на женскую галерею. Решив, что уже достаточно ознакомилась с древними табу и культовыми нелепостями, Роза собралась уходить. Но на галерее она оказалась в гуще молящихся женщин; пробираясь к выходу, она бы снова привлекла к себе внимание, чего ей совершенно не хотелось. Смирившись, она высидела службу целиком.
Разумеется, она почти ничего не поняла. В молитвеннике на иврите, который ей выдали, отсутствовал английский перевод, а ее невежество касательно еврейских обрядов было столь велико, что она даже не сумела с уверенностью определить, кто здесь раввин. Сама синагога тоже разочаровала. Пластмассовые складные стулья, потертая ковровая дорожка и уродливые вазы с пыльными шелковыми цветами напоминали о близких к банкротству зубоврачебных кабинетах, куда ее водили ребенком. Даже полувековая мозаика на восточной стене – горчично-желтая с золотом абстракция на божественную тему – ничем не отличалась от прилизанного третьесортного искусства, каким украшают свои стены незадачливые дантисты. Впрочем, Роза оценила странное сочетание формальной строгости и раскованности в поведении прихожан: вот только что они бились головой об пол в молитвенном раже – и вдруг вскакивают, начинают бродить по храму, приветствуют знакомых. А кроме того, они невероятно трогательно обращались с Торой, словно с обожаемым младенцем, – разворачивали свиток, трясли им в поднятых руках, демонстрировали со всех сторон. Действо выглядело пусть и по-масонски абсурдным, но не лишенным антропологического очарования, снисходительно постановила Роза.
В конце службы Торы, сразу после того как свиток убрали в ковчег, прихожане запели тягучую печальную молитву. Роза, которая почти никогда не отзывалась на музыку, если не знала заранее, о чемона, удивилась, когда ощутила волнение. От тягучей скорбной мелодии волосы на ее руках встали дыбом. А в голове отчетливо прозвучало, словно кто-то нашептывал ей в ухо: «Ты связана с этим. Эта песня – твоя».Она опустила глаза на молитвенник, который держала в руках, и оторопела: по развороту круглыми пятнами с рваными краями расползались ее слезы, и сквозь папиросную бумагу просвечивала следующая страница.
После визита в синагогу Роза несколько дней пыталась успокоиться, списывая свою реакцию на какой-нибудь незначительный сбой в организме. Она была усталой и потому очень уязвимой. Известно ведь, что музыка вкупе с необычной, «магической» обстановкой способна навеять ложно-возвышенные переживания – дерзновенные прозрения трансцендентных истин, умопомрачительные догадки о бытии Вселенной. Все это ерунда. Порой и сентиментальная телереклама вышибает у человека слезу. Вот и ее слезы не значат ничего, кроме случайной и досадной уступки дурному вкусу.
Но спустя неделю Роза почувствовала, что ее тянет в синагогу. Она пошла туда лишь для того, чтобы доказать: предыдущий опыт был сущим недоразумением, – и покончить с этим. Однако второе посещение получилось не менее странным и будоражащим, чем первое. Роза опять прониклась таинственным, эйфорическим чувством принадлежности; опять необоримое течение подхватило ее и понесло – к дурацкому плачу. Еще через неделю она побывала на двух вечерних службах вдобавок к субботней молитве. Каждый раз, входя в синагогу, Роза клялась сохранять дистанцию и рациональный взгляд на вещи. И каждый раз ее самоконтроль давал трещину, стоило ей услышать все тот же бестелесный и беспрекословный голос, шепчущий в ухо. Здесь ее место. Здесь всегда было ее место.
О том, что ее внезапно посетило нечто вроде откровения, Роза сообщила родителям, отлично зная, какова будет их реакция. Джоел и Одри презирали все религии, но иудаизм, единственная теистическая абракадабра, к которой они были причастны по факту рождения, вызывал у них прямо-таки оголтелую ненависть. Завидев менору, [15]15
Менора – золотой семисвечник, один из наиболее почитаемых национальных и религиозных еврейских символов.
[Закрыть]они свирепо скалились. При упоминании седера [16]16
Седер – ритуальный семейный ужин во время праздника Песах.
[Закрыть]кривили губы. В синагогу их невозможно было затащить ни под каким предлогом. Даже бар-мицва [17]17
Бар-мицва – праздник совершеннолетия, когда 13-летнего мальчика официально признают взрослым мужчиной.
[Закрыть]в семье друзей – расхлябанное и сильно осовремененное празднество, над которым если и витал религиозный дух, то разве что в момент презентации шоколадного фонтана, – была под строжайшим запретом. (Приглашения на подобные мероприятия Джоел неукоснительно отправлял обратно с размашистой надписью поверх золотистой открытки: «БОГА НЕТ».) Тем не менее Розе и в голову не пришло таиться от родителей. Скрытность была ей абсолютно не свойственна, особенно в тех случаях, когда промолчать означало облегчить себе жизнь. Как правило, чем весомее были аргументы в пользу помалкивания, тем острее она чувствовала, что ее моральный долг – выложить все начистоту.
Одри поначалу только смеялась. Распевала «Хава нагилу» и спрашивала Розу, уж не собралась ли она замуж за какого-нибудь вонючего старикашку с пейсами. Но Джоел негодовал всерьез. То, что Роза скатилась, пусть и временно, в слюнявый идиотизм религии, само по себе ужасно, кричал он. Но выбор иудаизма подразумевает лишь один мотив – стремление доконать родителей.
– Я тебя знаю! – орал он. – Ты от природы не способна поверить в эти сказочки. Ты даже в зубную фею не верила, черт тебя дери!
Вопли отца вызвали у Розы улыбку. Она была не настолько захвачена внутренними переживаниями, чтобы не видеть трагикомичности ситуации. В ее семье разыгрывалась пьеса о коварном соблазнении юной души: дочь Литвинова, атеистка в третьем поколении, враг мистики в любых ее проявлениях, забредает однажды в синагогу и открывает в себе иудейку. Но так оно и было. С ней что-то случилось, от чего она не могла отмахнуться, о чем не могла не думать. А немыслимость и крайняя неуместностьлишь доказывали подлинность происходящего.
Служба в синагоге подошла к концу. С галереи Роза наблюдала за стариком, тяжело ковылявшим к выходу. Возраст его так согнул, что казалось, будто он ищет на полу оброненные монетки. Роза вспомнила об отце на больничной койке, застывшем, как надгробное изваяние. Она опустила голову и начала молиться.







