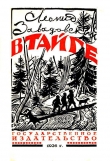Текст книги "Ранней весной (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
О судьбе своих товарищей я узнал, вернувшись после контузии зимой сорок третьего года в Москву.
Дома меня ждало письмо от Бориса. Он писал: «Я стал такой злой и упрямый, а мне все злости мало. Хочу знать все про вас: кто живой, а кто пал от руки фашистов, чтоб и за эти жизни взять с них ответ». Я написал Борису, что знал.
Павел пал в боях за Москву. Его имя значилось в коротенькой заметке Информбюро. Там сообщалось об упорном бое, разгоревшемся в селе Н. между группой советских бойцов во главе с младшим лейтенантом Аршанским и ротой немецких автоматчиков. Советские воины, отрезанные от своей части, засели в здании сельсовета и в течение нескольких часов отражали атаки немцев. В конце концов немцам удалось поджечь деревянное строение. Советские воины предпочли погибнуть в огне, нежели сдаться в плен.
Заметка была написана в обычном тоне: кратко, сухо, без подробностей. Но я, для которого младший лейтенант Аршанский был соратником по чистопрудным боям, очень хорошо представил, как все это происходило…
О судьбе Коли я узнал несколько позже. Оказалось, он никогда не был на Волховском фронте. Он погиб у Ильменя. В один из московских госпиталей прибыл его товарищ, однокашник, который был с ним в последнем бою. И последнее, что он видел, перед тем как его ранили, был Николай, тащивший на спине раненого товарища.
Мать Николая, пришедшая вместе со мной в госпиталь, спросила почему-то раненого, видел ли он лицо Николая в этот момент? Нет, сказал тот, товарищ, которого тащил Николай, был очень велик и грузен. Коля так согнулся под тяжестью его тела, что лицом едва не касался снега.
Коля был маленьким и тщедушным. Я помню: сумка с провизией или туго набитый ученический портфель казались ему немалой тяжестью, и он поминутно перекладывал ношу из руки в руку. Я бы нисколько не удивился, услышав о самом невероятном его подвиге. Его беспечной дерзости хватило бы на любое отважное деяние. Но рассказ раненого поразил меня: то, что сделал Николай, было сверх его физической силы.
Иначе сложилась судьба Бориса. Он прошел до конца весь беспримерный путь русского солдата. Убитый под Ельней, он воскрес под Молодечно. Он брал Варшаву и, оплаканный матерью в дни штурма Кенигсберга, прислал ей весть из-под Кюстрина. Четырежды раненный, дважды контуженный, дважды объявленный погибшим, он брал Берлин, и не его вина, если он не был в числе тех, кто поднял знамя над горящим рейхстагом.
Я думал, что скоро свижусь со своим другом. Но Борис не приехал. Пришло лишь его коротенькое письмо:
«…по годам отслужился я в армии. Думал домой ехать, да почуял, что не вышел срок моей службы. Что того, что Гитлер сдох в Берлине, когда Франко еще живет в Испании, когда мировой фашизм не очистил планеты от своего присутствия. Знаю, знаю, что погибли Павлик и Колька не для того, чтобы мир по-старому висел между правдой и ложью, между добром и злом. Помню, как говорил Павлик, что хочет быть солдатом до самой последней войны. А я немного иначе скажу: останусь солдатом, чтобы не было больше войн на земле. Этому мы все должны служить, как каждый умеет… Было нас четверо, осталось двое, так постараемся жить правильно и по-хорошему, и за себя, и за них…»
1945
Связист Васильев
– Прикажите, – сказал связист, приземистый человек, и встал.
– Не лезьте вы, – грубо обрезал его начальник связи и повернулся к лежащему на нарах человеку с мотком провода на плече: – Товарищ Потапов, по насыпи оборвалась связь. Там все пристреляно. Действуйте.
Потапов вскочил с нар, взял свой инструмент и вышел. Полный связист сел, достал из кармана чистый платок и стал вытирать мокрое лицо. Он только что вернулся из очередного, девятого за этот бой, «рейса» и был весь потный. Даже белый от природы, но бурый от грязи комбинезон, надетый поверх формы, был пропитан потом.
Вытираясь, связист вдруг заметил, что один его рукав порван в пройме. Пуля прошла под мышкой. Он осмотрел всю остальную одежду.
Маскировочный халат был разорван на спине осколком мины. Одна штанина висела клочьями. На нем были желтые горные ботинки и шерстяные, домашней вязки, чулки.
– Пощупали вас, – сказал начальник связи, отрываясь от телефона.
Полный связист смущенно улыбнулся.
– Три смерти рядом прошли…
Это был трудный день для связистов. Связь рвалась более десяти раз. Вначале ее порвали КВ, выходившие на рубеж атаки, затем ее рвали немецкие снаряды, валившие столбы и деревья, через которые шла проволока.
Было потеряно уже три человека к моменту, когда оборвалась связь в самом трудном месте – на железнодорожной насыпи, которая находилась под контролем немецких стрелков, засевших на опушке леса. Телефонный кабель соединял командира полка с командиром передового отряда, ломавшего немецкую оборону. Связь оборвалась на самой насыпи, и первая попытка восстановить ее кончилась гибелью связиста. Он даже не успел взобраться на насыпь. Он выглянул из-за насыпи, чтобы приноровиться к месту, спрятался, снова выглянул – и сник. Видимо, пуля поразила его в лоб. Он медленно сполз по снегу, цепляя землю мертвыми руками…
– Товарищ начальник связи, – сказал боец, заглядывая в землянку. – Потапов у насыпи.
Начальник связи откашлялся и, словно пробуя голос, начал тихонько звать:
– Роза… Роза… говорит Пурга… слушай, говорит Пурга…
Я вышел из землянки. Командир полка и политрук в бинокли следили за связистом. Все произошло очень быстро и просто. Он вскарабкался на насыпь, пополз, делая сильные движения руками и волоча ноги, чтобы тело не поднималось над землей. Затем он почему-то перестал ползти и лежал совсем тихо. Я поймал себя на том, что говорю: «Ну же!» – но связист оставался недвижим, и я не сразу понял, когда политрук, отняв бинокль от глаз, проговорил:
– Готов, – и нервно, торопливо, просыпая табак, стал скручивать папиросу.
Вслед за командиром полка я вернулся в землянку.
– Так будет связь или нет, товарищ старший лейтенант? – резко спросил командир полка.
Начальник связи растерянно поглядел на него.
Командир полка ждал. Начальник связи колебался.
– Товарищ Васильев, – сказал он тихо. – По насыпи оборвалась связь… – и отвернулся к стене.
Полный связист вскочил, взял каску двумя руками, поправил войлочный обруч и надел на голову.
– Жаль Потапова, – говорил он самому себе, в то время как его быстрые полные руки ощупывали одежду, пояс с инструментом, моток проволоки и кобуру. – Хороший был человек, правильный…
Когда начальник связи назвал имя полного связиста, я понял, почему он с такой неохотой отдал приказание. Васильев был лучшим связистом дивизии, «королем связи», как его называли, и понятно, что послать такого человека на место, где только что сложили головы двое, было делом нелегким.
Несмотря на свое плотное, даже тучное тело, Васильев двигался легко и ловко. В его движениях чувствовалась большая мышечная сила. Ощупав себя еще раз руками – все ли на месте, он вышел из землянки.
Короткими перебежками он покрывал расстояние от наблюдательного пункта до железнодорожной насыпи, делал резкий бросок вперед и плашмя падал на землю. Васильев был уже довольно близко от насыпи, когда после очередного падения он не поднялся, а только слегка повернул голову набок.
– Ранен он, что ли? – вслух подумал политрук.
Васильев чуть-чуть приподнял голову, и мы увидели зайчик, блеснувший на его каске. Что же он не двигается дальше? Мы были слишком далеко, чтобы видеть закономерность его движений, и не понимали, что удерживает его на месте.
Политрук указал на белые, ставшие заметными благодаря пологим солнечным лучам вихорьки, столбики пыли, которые то и дело возникали вокруг него. Это разрывались пули автоматчиков, нащупывая его тело. Отталкиваясь руками, Васильев пополз назад, затем быстро, по-пластунски, – в сторону. Вот он оказался под прикрытием большого пня, присел, и по движению его локтей мы поняли, что его руки что-то делают. Затем он поднялся во весь рост, размахнулся и метнул какой-то невидимый нам предмет в сторону насыпи.
– Катушка с проводом, – сказал командир полка.
Теперь мне становился ясным его простой и умный план. Связист отказался от попытки соединить провод на месте разрыва, на полотне, представлявшем собой мишень для немецких пуль. Он присоединил провод, намотанный на катушку, к поврежденному проводу, а самую катушку перекинул через насыпь. Если ему удастся благополучно перелезть через полотно – дело выиграно. По ту сторону растет густой кустарник, который надежно укроет его от вражеских пуль.
А Васильев отполз дальше в сторону. Он отдалился метров на двести от места разрыва провода, затем двинулся к насыпи. У него был хороший шанс. Если его сейчас не откроют, то появление его на насыпи будет для немцев неожиданностью. Только удастся ли ему все-таки проползти?..
Васильев – у края насыпи. Он лежит некоторое мгновение тихо, не то прислушиваясь, не то отдыхая. Я невольно задерживаю дыхание. Вот сейчас он поднимет голову. Вспыхнет или не вспыхнет пыльный столбик разрыва? Но совершенно неожиданно Васильев рывком выбрасывается из-за насыпи на самое полотно. Связист и не думает скрываться. Он прыгает из стороны в сторону, плашмя ложится на землю, катится к противоположному краю и скрывается там.
Дымок от пуль, высвеченный солнцем, стоит над тем местом, где только что был человек. Придумано неплохо – ведь ждал же я, что Васильев будет перебираться с медлительной осмотрительностью, прицеливаясь взглядом к узенькой, но такой страшной площади, которую ему предстояло преодолеть. Этого ждали и немцы. Неожиданный открытый рывок Васильева дезориентировал их. Все произошло слишком внезапно и быстро, они не успели прицелиться. Но действительно ли не успели? Ведь мы не знали, что скатилось на ту сторону: человек или труп? И снова минуты мучительного ожидания. Стало как-то очень тихо. Только глуховатый, с трещиной дисканта голос начальника связи раздавался в землянке:
– Роза… Роза… говорит Пурга… слушай, Роза… Роза…
И мне казалось, что я тоже слышу тупое молчание трубки.
– Роза… Роза… говорит Пурга…
Раздался звук лопнувшей гитарной струны – где-то близко срикошетила о ствол дерева пуля.
– За обедом идти? – спросил ординарец и, не получив ответа, сказал: – Чего ж идти, еще успеется.
– Роза… Роза… говорит Пурга… Розочка! – заорал вдруг начальник связи, и мы все бросились к землянке, разом поняв, что это значит: Васильев жив! – Розочка, что, же ты, сукина дочь, молчишь?..
Но командир полка уже вырвал у него трубку.
– Кто на проводе? Андреев? Давай хозяина. Ну, как двигаешь? Ага! Что? Левый бочок болит? Мы туда «танюшу» в лаптях двинем. Так. Младший брат собачек выдвинет. Все? Продолжай смелей. За левый бок не опасайся. Действуй!
Закончив разговор, командир полка сказал:
– Чисто сработано.
И мы все поняли, что он имел в виду.
Я подумал: если бы Васильев слышал сейчас это простое определение, он был бы доволен. То, что он сделал, нельзя было назвать подвигом. В его работе был строгий и точный расчет, но этим она и была прекрасна. Под пулями связист вел себя как рачительный, умный хозяин своего тела, жизни и силы. Это была настоящая боевая работа, то есть работа самого высокого класса.
В землянку Васильев вернулся часа через два. Оказывается, он остался близ насыпи, чтобы в случае новой аварии быстро установить связь. Когда же наши ворвались на опушку и стали уничтожать немецких автоматчиков, он, не желая подвергать себя напрасному риску, вернулся на наблюдательный пункт кружным путем.
…День клонился к закату. Наступил такой момент боя, когда еще гремят выстрелы, когда жизнь многих людей только вступает в борьбу со смертью, но судьба боя уже решена. Правда, надо много усилий, чтоб в последний миг не выпустить победы, не дать врагу отделаться полбедой. Непосредственные участники боя еще не верят в сделанное ими, но на наблюдательном пункте ясно, что тяжкие усилия, жертвы, пот и кровь товарищей были не напрасны.
Мы сидели в землянке. Васильев, вытирая лицо и шею клетчатым носовым платком, рассказывал:
– Вчера получил письма от жены. Три месяца не получал ни одного. Я за нее не беспокоился – она женщина умная, сознательная. Но все же тяжко было… А вчера сразу одиннадцать штук. Я их расположил по числам, десять прочитал, а одно, последнее, на после боя оставил. Гостинец мне будет.
Он снял каску и достал из-за войлочного обруча измятый по углам конверт. Строчки письма просвечивали.
– Васильев, – сказал вдруг начальник связи, отрываясь от трубки, – ты лучше прочти свое письмо, а то, кажется, тебе опять придется идти – «замок» не работает.
Васильев улыбнулся и спрятал письмо за войлочный обруч.
– Письмо я после работы прочту, – сказал он спокойно. – Ну как, «замочек» молчит, товарищ старший лейтенант?
– Молчит, чтоб ему!.. Придется чинить.
– Прикажите, – сказал связист.
1942
Переводчик
Переводчик полез через небольшой перелесок. До командного пункта оставалось метров полтораста. Каждый шаг давался с трудом. Почва в лесу была болотистая, и после каждого движения под локтями и коленями возникали лунки желтой воды. А переводчик был не очень-то ловок, он с трудом вытаскивал руки и ноги из топкой хляби, но продолжал снова упорно ползти.
Командный пункт накрыли немецкие минометы. То и дело слышался сухой шелест мин по веткам деревьев и короткий треск разрывов. И было слышно, как лопались тугие кленовые листья от осколков, и было видно, как на стволах возникали белые царапины. Но переводчик привык к этим вещам и только вбирал голову в плечи и полз вперед. Но все же он не так привык, как те связные, которые, чуть пригнувшись, сновали между деревьями.
Переводчик дополз до маленькой тропинки, отдышался и двинулся дальше, вдоль нее, стараясь не мешать бегущим связным и бойцам. Впереди был большой пень, от него косой вдавалась в болотную яркую зелень полоска сухой, усыпанной хвоей земли. Переводчик торопился достичь суши. Его рука уже коснулась пня и вдруг отдернулась. Неожиданно высоким голосом переводчик вскрикнул и испуганно попятился.
Один из пробегавших мимо связных с удивлением оглянулся на него. Переводчик дрожащей рукой указывал на пень и твердил:
– Змея, змея, я дотронулась до змеи!
На пне, свернувшись кольцом, лежал большой уж. Его весенняя серебристо-черная кожа сверкала, а брюхо было тускло-желтым. Связной увидел ужа и, несмотря на треск сыпавшихся по сторонам мин, захохотал.
– Та це ж вуж! – сказал он, давясь от смеха, и тут только заметил, что переводчик – женщина. Он шагнул с дороги, ударом ноги отшвырнул ужа и побежал дальше.
Переводчик улыбнулся смущенно и поправил сбившуюся пилотку. Уж повис на кусте шагах в десяти. Он удивленно вытягивал свою бесконечную шею и двигал безвредным язычком, затем медленно, с достоинством пополз вниз…
Она заведовала кафедрой немецкого языка в институте иностранных языков. Однажды ее вызвал директор.
– Любовь Ивановна, нужен человек, в совершенстве владеющий немецким языком. Работа будет трудная. На фронте.
Она задумалась. Она гордилась своими учениками. Это были очень способные молодые люди. Взять хотя бы Нину Костромину: на третьем курсе она владела языком лучше, чем иные студенты-выпускники. Но ведь директор сказал, что нужен человек, в совершенстве знающий язык, а Нина при всей ее одаренности не обладает безукоризненным произношением. Она слишком форсирует «х» в начале слова и путает взрывное «б» с глухим «п». Сергей Владычин неплохо говорит, но более силен в пассивном языке. Нет, они не овладевали языком быстро и напористо, со временем они будут его знать в совершенстве, но пока еще даже у лучших были свои крошечные недочеты. Она могла рекомендовать многих из них на любую работу, но ведь это фронт…
– Сергей Николаевич, считаете ли вы, что я в совершенстве владею немецким?
– Что за вопрос, Любовь Ивановна!
– Ну, так вот, поеду я, – сказала она твердо.
Директор с изумлением посмотрел на нее, а затем решительно заявил, что она уже немолода – это раз, институт не может остаться без квалифицированного преподавателя – это два…
– Ну вот, поэтому я и поеду – это три, – заключила, улыбаясь, Любовь Ивановна.
Директор набрал воздуху, словно намеревался произнести целую речь, но вместо этого бросился пожимать ей руки.
…Вначале все было трудно. Трудно было заворачивать портянку так, чтобы она не сбивалась в комок, трудно было лежать под бомбами в придорожной канаве, трудно было забираться в грузовик, становясь на колесо и рывком перекидывая ногу через борт, трудно было вскакивать ночью и мчаться на машине куда-то, а затем до утра разбирать полустершиеся документы, среди которых лишь редко попадалось что-нибудь ценное. Очень многое было трудно пятидесятилетней женщине, которая не хотела ни единым жестом показать, что ей трудно, что она нуждается в помощи… Затем она сделала маленькое, но чрезвычайно важное для себя открытие! Лучше не стараться делать все так же ловко и быстро, как делают мужчины, а приспосабливаться к своим возможностям. Оказалось, что в грузовик можно взобраться не только при помощи легкого рывка, можно навалиться животом на борт и перекатиться в кузов – не очень красиво, но зато не задержишь машину. Оказалось, от бомб тоже можно спастись, не залезая в канаву, – достаточно упасть где попало на землю, закрыть глаза и зажать уши. И когда встанешь – все уже кончено, а ты цел. Оказалось, что под минным обстрелом необязательно двигаться вперед легкими перебежками, по слуху улавливая направление полета мины (все равно не угадаешь), можно просто ползти; пройдет некоторое время – и обязательно доползешь.
Любови Ивановне казалось, что ей делают поблажки; редко посылают на передовую допрашивать пленных, а ждут, когда их переведут во второй эшелон, и тогда только вызывают ее. Она пошла к начштаба и сказала:
– Я немолодая женщина, и здесь мне будет совсем трудно, если буду думать, что не нужна.
С тех пор ее стали посылать всюду, куда требовало дело.
Она не могла научиться только одному: называть командиров по званию, она ко всем, даже к самому командующему, обращалась по имени и отчеству.
Она удивляла и трогала своей наивностью. Когда на деревню, где она временно остановилась, налетели три «Хейнкеля» и в избе заплакал ребенок, она воскликнула:
– Что они делают! Здесь же дети!
Другой раз, когда командующий отчитывал адъютанта, она сказала:
– Вы лучше напишите ему все это, Николай Анатольевич, а то он не запомнит.
Она ходила в галифе, тяжелых яловых сапогах и большой пилотке, которая лежала на ее прямых с проседью волосах словно старомодная шляпа.
На участке одной из армий нашего фронта разгорелся первый летний бой. Гитлеровцы стремились вернуть крупный военный поселок, который служил им опорным пунктом и зимой был вырван из их рук. Им удалось оттеснить наши части на окраину, но сами в поселке они не смогли укрепиться из-за шквального огня советских минометов и полковой артиллерии. Они бросали силы, не считаясь с потерями.
Наше командование приказало не отдавать поселка, чего бы это ни стоило. На третий день боя пришел приказ от командующего группой срочно прислать переводчика. Очевидно, были захвачены какие-то документы.
Любовь Ивановна выехала на командный пункт. Он находился на опушке леса, почти примыкавшей к военному городку. В этот день немцам удалось засечь командный пункт, и они обрушили на него минометный огонь. Любовь Ивановна стала пробираться к землянкам командного пункта.
Мины заставили ее ползти. Затем ее испугал уж. Она сказала себе, что нехорошо было останавливать бойца, который, верно, бежал по важному делу, и, поправив пилотку, поползла дальше. Мины свистели не переставая, но первое острое чувство опасности прошло. Ей казалось теперь, что мины вообще разрываются там, где нельзя никого поразить. Но когда она приблизилась к землянкам командного пункта, то увидела, что трава словно покрыта черной пудрой и земля изрыта неглубокими черными лунками. Вслед за тем с разных сторон послышался характерный треск, и пять или шесть мин разорвались совсем рядом. Осколки долго еще звенели, и она увидела, как куст впереди нее сразу лишился всех листьев. Она припала лицом к черной, воняющей порохом траве. Мины рвались с равными промежутками в две-три секунды. Когда она подняла лицо и попробовала дышать, ей показалось – воздуха нет! Была вонючая, душная дымчатая масса, которая закладывала нос и горло, словно ватой. Она снова уткнулась лицом в землю. Трава тоже пахла порохом, но была влажной, и это дало ей облегчение. В промежутках между разрывами мин она слушала, как бьется на виске кровь, и думала, что еще жива. И затем решила – раз жива, надо двигаться дальше: ее ждут, а она и так потратила много времени.
«Я все-таки старая женщина», – почему-то подумала Любовь Ивановна, поднялась и, растопырив руки, почти не видя, побежала к землянке.
– Куда, стой! – окликнул часовой странную фигуру в перекошенных ремнях, сбитой на нос пилотке, из-под которой торчали длинные серые волосы.
– Я переводчик, – сказала она, забыв пароль.
Какой-то человек за ее спиной проговорил:
– Пропустите.
В землянку падал косой свет из узкого окошка, в луче кружились пылинки. В землянке было много народу, – она не могла сказать сколько, – люди входили и уходили. Из-за стола поднялся высокий плотный человек с расстегнутым воротничком на толстой красной шее.
– Переводчик? Вот скажите нам, что в сей бумажке нацарапано? – Он протянул ей смятый лист бумаги в желтых пятнах крови и грязи. – У нас тут есть «немцы». Вон комиссар даже стихи наизусть знает: ейн, цвей, дрей, фир, пионире хейсен вир, – он захохотал, открыв большой рот, полный крепких неровных зубов. – А вот этих закорючек не видывал.
– Это готическая пропись, – сказала она и хотела добавить, что теперь в Германии по приказу Гитлера опять вернулись к готике, но в этот момент чей-то резкий голос крикнул:
– Огонь!
И вслед за тем в землянке все закачалось и задрожало. Заплясали пылинки в луче; посыпались комья земли.
– Огонь… огонь… огонь! – выбрасывал тот же голос, словно срывал злобу этим выкриком.
Раскаты перешли в сплошной гул. Она увидела человека, которому принадлежал голос. Он сидел на нарах, зажимая между ухом и плечом телефонную трубку. Морщась, выкрикивал он команду, в то время как его руки делали быстрые пометки в командирской книжке. Рядом с ним сидел другой человек – молодой, с темной дубленой кожей лица и странно белой бритой головой. Он тоже держал трубку и негромко настойчиво вызывал:
– Роза, Роза, Роза, говорит Соловей, говорит Соловей, слушай, Роза!
«Соловей и роза», – подумала она, и ей стало смешно и как-то сразу привычно, даже уютно.
– Где я могу работать? – спросила она.
– Вот здесь, за столиком, – ответил большой плотный человек, как она теперь поняла – полковник.
Большими руками он разом снял со стола все лишнее: бумаги, чертежи, четвертинку спирта и отпиленные стаканчики 45-миллиметровых снарядов, заменяющие рюмки. Затем он поставил консервную банку кверху донышком, насыпал немного сухого спирта и зажег.
– Ну, вот вам кабинет, – сказал он улыбаясь.
Прищурившись и отстранив листок, как это делают все дальнозоркие люди, она разобрала первые слова:
– «Во изменение приказа номер…» Я не разберу, что тут – тринадцать или…
– Неважно, тринадцать. Дальше, – сказал полковник, и в голосе его не было прежней мягкости, он звучал сухо, отрывисто.
– «Во изменение приказа номер тринадцать отказаться от прямого воздействия на Н. и направить основной удар на МО, в стык между 22 И. Д. и 24 И. Д. для флангового обхвата». И. Д. – это, очевидно, инфантери дивизион – пехотная дивизия. Так ведь? – спросила она.
Но полковник не ответил. Одну секунду он стоял, наклонив голову с упрямыми шишками лба. Пальцы, которыми он упирался в стол, побелели от силы нажима. Затем он повернулся к бритоголовому.
– Начсвязи, дай мне Болотова.
– Проект… Проект… слушайте, говорит Соловей. Есть, – связист протянул трубку полковнику.
– Болотов, слушай, задержи ребятишек. Не медли. Не пойдете, я говорю! Понятно? Что? Сейчас не пойдете. На стык брось всех собачек. Не упускай из виду. Пошли туда глазастых. Пусть смотрят. Сообщай каждые полчаса. Что? Говори ясней. Жалко, что зря готовились? Мне самому жалко. Держи связь с правым братом…
Любовь Ивановна слушала с удивлением. Сначала ей казалось, что он шутит, но полковник мало походил на шутника – лицо его стало недобрым, даже складки на шее озлились, – и ей не верилось, что этот человек несколько минут назад так добродушно смеялся своей же шутке. Она не все понимала из их разговора, но чувствовала, что виной тому строчка документа, которую она перевела, что в ней заключено что-то очень важное, от чего зависит, может быть, судьба этого боя. Гитлеровцы готовят сюрприз, который надо разгадать и предупредить. Она заметила, что, когда полковник сказал: «Выступать не будете», – комиссар просыпал табак из скрученной папиросы. У нее появилось чувство вины: она внесла смуту в четкую работу этих людей.
– Понятно, комиссар? – спросил полковник. Тот кивнул головой. – Садись с товарищем переводчиком, будешь ему терминологию объяснять. Сейчас два; максимум в шесть перевод должен быть у меня.
Он сказал это комиссару, но Любовь Ивановна отнесла к себе и ответила:
– Есть.
Она взяла документ. Мятый листок бумаги, исписанный торопливой неразборчивой рукой, был выпачкан в крови и земле. Ей стало страшно. Она вынула словари, обмакнула перо в чернила – это были машинальные жесты; она чувствовала, что не в силах приступить к документу.
В уши настойчиво лезли голоса людей:
– Роза, Роза, слушай, говорит Соловей…
– Бондарин, вытягивай «танюшу» в лаптях. Держи огонь по тропке…
Ей представилась «танюша», большая-большая пушка на колесах. Любовь Ивановна постаралась выключиться из этого мира, вообразить, что сидит в своем московском кабинете, но эта хитрость помогла ей только еще раз написать первую фразу.
В землянку то и дело заходили люди. Они все о чем-то возбужденно спрашивали полковника и, получив его ответ, мрачнели лицами. Затем влетел высокий человек с бледным высоким лбом и красивым, с горбинкой, носом. На висках его висели крупные капли пота, плащ-палатка за плечами была изодрана в клочья, но глаза радостно блестели. Он бросился на нары, вытащил огромный клетчатый платок и стал осушать темя, лоб и шею.
– Едва вылезли… Ох, и дали же нам, – говорил он, тяжело дыша. – Ну как, товарищ начальник, скоро дашь приказ выступать?
– Об этом пока забудь, Сорокин, – ответил за полковника комиссар. – Болотов уже предупрежден… Тут такая морока получается!
– Да как же так, – с болью сказал Сорокин, – я ребят на взводе второй день держу. Наших десантников там погнули, ребята ждут не дождутся за них ответить, а ты – «забудь».
– Да куда ты атаковать будешь, – резко крикнул полковник, – ты знаешь – куда?
– Как, разве есть изменения? – растерянно произнес Сорокин.
– Вот то-то и оно, что «разве», – мягко добавил полковник.
Комиссар подсел к Сорокину и начал тихо ему что-то объяснять. Тот осунулся, на его немолодом лице выступила, верно за долгие дни и ночи скопленная, усталость. Только длинные тонкие пальцы с прежней нервной силой теребили плащ-палатку.
Любови Ивановне стало очень жалко этого бледного немолодого человека: так он огорчился. Она невольно поставила себя на его место и поняла, как нелегко давалось ему то жесткое волевое напряжение, в котором он держал себя до прихода сюда. Она не все понимала, из их разговора ей было ясно одно: что-то произошло. И это «что-то» может сделать ненужными все их усилия, риск, гибель бойцов, о которых говорил Сорокин. От нее ждут, чтобы она помогла обезвредить это «что-то», на ее плечи возложена часть их трудных усилий. Теперь ей не хотелось больше выключаться из этой среды, создавать себе искусственную обстановку. Она больше не чувствовала себя пришлым человеком – пусть орет в трубку связист и лопаются мины за стеной, это ей больше не мешает – напротив, собирает ее волю, ее внимание.
Она старалась разгадать строй почерка, которым был написан документ, чтобы его беглость не мешала ей при дальнейшей работе. Надо было понять, как пишущий сокращает слова, какие буквы у него выпадают от скорописи, как он мешает готику и латинский, – ведь почти ни один немец не придерживается строгой готики. Это было необходимо для разгадки тех слов и даже целых фраз, которые оказались стертыми, размытыми так, что только след букв синел на бумаге. Документ был написан второпях, листок лежал на колене или фуражке, по краям нажим карандаша слабел, и строки съезжали.
Затем она занялась наиболее пострадавшими местами документа. Если даже удастся разобрать лишь отдельные слова, то это будет огромным облегчением. В контексте они сразу вытянут за собой смысл всего темного места. Ей помог огромный опыт работы над архивами, где нередко едва заметный значок скрывал целую фразу. И она имела право сказать сейчас, что эту работу не мог бы осилить никто из ее лучших учеников.
Комиссар уже давно с беспокойством следил за переводчиком. Он не мог понять, почему она крутит, вертит, чуть ли не нюхает этот листок и все не приступает к работе.
– Успеем ли мы к сроку?
Она улыбнулась ему, как улыбалась своим юным ученикам, когда они слабели духом перед встающими на их пути трудностями, казавшимися им непреодолимыми.
Комиссар успокоился. Он привык к тому, что если боец говорил: «Сделаю», – то оно так и будет.
Луч, проникавший в узенькое окошко, сперва побелел, затем исчез вовсе, но окошко осталось таким же светлым, только свет этот не рассеивался. За окошком лежала белая ленинградская ночь.
Комиссар увидел, что щеки женщины поблекли, а тени под глазами обозначились еще сильнее.
– Не хотите ли немножко капель? – спросил комиссар. – Для бодрости.
– Каких капель? – не поняла она. – Валерьянки?
– Да нет, наших фронтовых. Комиссар достал из-под стола четвертинку и наполнил стаканчики от 45-миллиметровых снарядов.
Ее удивило, как громко забулькала жидкость. В землянке было необычайно тихо. Полковник сидел, согнувшись над картой. Начсвязи по-прежнему находился у аппарата и проверял связь, но голос его звучал приглушенно. Люди входили и выходили, но все звуки были какими-то осторожными, вкрадчивыми. Стояла ночь. Но никто не спал, кроме высокого бледного человека – Сорокина, который в неудобной позе – одна нога подогнута, другая выброшена вперед, – опершись на локти дремал на нарах.
Комиссар подвинул ей стаканчик.
– Что вы, я никогда не пью вина, – сказала она, сильно покраснев, но все же выпила, поперхнулась и уронила стаканчик, машинально сделав испуганное движение, чтобы помешать ему разбиться.