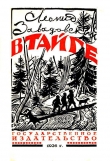Текст книги "Ранней весной (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Поселок тянулся вдоль шоссе, обсаженного тополями. Надо было поторапливаться. Все вокруг начинало приобретать тот подозрительный дымчато-багряный отсвет, который служил предвестником куриной слепоты. Тени деревьев на дороге и сами деревья начали меняться местами, я боялся наступить на тень, думая, что это дерево, и смело шел на дерево, принимая его за тень. А сама дорога под месяцем круто взмыла вверх, и я невольно откидывался назад, чтобы восстановить прямой угол между мной и ею. Спасаясь от этого заколдованного мира, я с ходу вломился в какую-то дверь, проскочил незапертые сени и оказался в черной горнице.
Там находились старуха, молодая солдатка с младенцем на руках и средних лет усталая женщина с ярко-синими глазами.
– Раненый? – с состраданием спросила старуха.
Я объяснил им, кто я такой и зачем приехал в городок.
– Раздевайтесь, товарищ командир, – сказала старуха. – Я вам валеночки дам. – Она достала с печи пару разношенных, драных валенок. – Нехорошие, а все же тепше будет.
Я с наслаждением сунул ноги в их колючее тепло. Ноги сразу согрелись, но остальному телу стало будто еще знобче, меня так и трясло.
– Проходите сюда, товарищ командир, здесь печка топится, – сказала старуха, распахнув дверь в другую комнату.
Коричневый, грациозный, как цирковой конь, доберман-пинчер выскочил из комнаты и забегал по избе, вскидывая плоскую змеиную голову с длинной острой мордой. Откуда такой красавец в крестьянской избе? Это был аристократ высшей марки: дрожь волнами пробегала по его узкому, нервному телу. Когда я захотел его погладить, он брезгливо фыркнул, обнажив мелкие острые зубы.
Еще более поразил меня вид комнаты. Полка с книгами, ковер, широкая тахта, письменный стол, заваленный бумагами, фотографии в рамках. Я не решался войти.
– Проходите, проходите, – сказала старуха, заметив мое замешательство. – Их нет…
Я понял, что «их» – значит хозяев, и осторожно прошел к железной печурке. В комнате действительно было очень тепло. Плотный ласковый жар обкладывал тело со всех сторон, словно закутывал в нагретый мех. Около печки лежал штабелек сухих березовых дров. Старуха открыла дверцу и, растревожив угли, сунула полено, мгновенно занявшееся веселым, трескучим пламенем.
– Здесь… у нас… – говорила она, шевеля огонь в печке – бригврач с женой живут… Он сейчас в отъезде. На передовую, сказывают, полетел…
«Ну и отлично, – подумал я. – По крайней мере мне не придется отыскивать себе другое пристанище».
– Он строгий человек, справедливый, – продолжала старуха. – У них ни крику, ни ругани, ни-ни… А как она что не по его сделает, он ей объясняет. Спокойно, так, чтоб она поняла. Терпеливый человек. Иной раз нам слышно: он час и два объясняет, а голоса никогда не повысит. Она, правда, иной раз заплачет, а он обратно объяснит, что плакать не надо. И так все ровно у него получается. Заслушаешься…
– Бывало, он ей всю ночь объясняет, – вмешалась женщина с синими глазами. – Прямки удивление, сколько человек слов знает…
– Да, милая, образованием у него какое! Что она перед ним есть? – вмешалась солдатка. Тьфу, и только! Приехала сюда с медицины своей и ничего не может. Кабы не он, ее бы на фронт укатали. Я слышала разговор промеж них, он ей объяснял…
– А уж живут богато! – вздохнула старуха.
Пес, проскочив мимо солдатки, беспокойно заметался по комнате, обнюхивая пол, вещи, и жалобно скулил. Мое присутствие доставляло ему почти физическое страдание. Его длинный нос, верно, остро чувствовал тревожный запах дорог, идущий от моей одежды, запах, столь противный и чуждый духу этой комнаты. Мне стало не по себе.
– Уф, отогрелся! – сказал я и пошел к двери. По дороге я бросил взгляд на фотографии, украшавшие письменный стол. Одна из них, судя по ромбам на петлицах, изображала самого бригврача. Сухощавое, скупое лицо, редкие волосы на прямой пробор, тонкий хрящеватый нос. Подобранное и невыразительное лицо. Но чем дольше я смотрел на карточку, тем сложнее становился образ бригврача. Что-то скрытое и страстное было в его тонком, тесно сжатом рте и слишком светлых острых глазах.
Другая фотография принадлежала женщине, очевидно жене бригврача. Совсем юная, лет двадцати двух, чуть вздернутый нос, густые светлые волосы.
Я уже был в дверях, когда мне неудержимо захотелось еще раз взглянуть на фотографию жены бригврача. Я обернулся. Странное лицо. Казалось, его не вмещает рамка. Оно выходило из рамки и наполняло комнату огромной, доброй, беззащитной и вместе задорной улыбкой. Меньше всего ее можно назвать красивой: большеротая, большеглазая, курносая. Но, быть может, это и есть самая лучшая красота, когда в каждой черточке сквозит хорошая душа?
– Присаживайтесь кушать, товарищ командир, – раздалось за моей спиной и я покинул комнату бригврача.
Старуха подала на стол чугунок с борщом. Мы похлебали из общей миски. Хотя борщ был жидкий – вода с черными капустными листьями и разваренным бураком, – мне показалось, что я никогда не ел борща вкуснее. Едва я покончил с едой, как меня стремительно потянуло в сон. Хозяйка заметила, что я клюю носом, и принялась стелить постель. Она накидала на пол соломы, сверху положила два тулупа, а на укрытие дала толстое стеганое одеяло.
Я разулся и, натянув одеяло на голову, впервые за последние дни погрузился в настоящий глубокий сон.
Очнулся я от бьющего в глаза света и услышал встревоженный голос старухи:
– Вошли… попросились на ночь. Ну, я пустила, человек больной все ж ки…
– Надо было документы спросить, – произнес хриповатый женский голос.
– А чего мы в документах понимаем! – отозвалась старуха.
– Опусти фонарь, – произнес другой голос, тихий и мягкий.
Пятно света качнулось на моем лице и сползло в сторону. Я открыл глаза.
Надо мной склонились две молодые женщины. В позе женщины, склоненной над спящим, всегда есть что-то материнское. На меня пахнуло двойным очарованием молодости и материнства. Правда, я быстро сообразил, что до их молодости мне нет никакого дела, а материнством тут не пахло. Полуослепленный фонарем, снова направленным мне в лицо, я все же мгновенно уловил их черты. Одна была полная, с красноватой кожей, серо-зелеными глазами навыкате, – пристальные и тусклые, они выражали брезгливое недовольство. Зато огромные темно-карие, с голубоватыми чистыми белками глаза второй светились мягким любопытством и состраданием. Единственно в расчете на эти глаза решил я бороться за свое место в избе. Конечно, я сразу узнал милое, задорное, доброе лицо жены бригврача.
Все время, пока длилось взаимное разглядывание, мои руки самовольно скребли зудящее тело. Но тут меня отпустило, и я в нескольких словах объяснил свои обстоятельства. Краснолицая потребовала документы, но жена бригврача одернула ее:
– Оставь, не надо!
Ворча, краснолицая погасила фонарь, и обе молодые женщины ушли в другую комнату, Я слышал, как они там раздевались, смеялись, пили чай. Затем из двери потекла сизая струйка табачного дымка. Мне тоже захотелось курить. Я встал и, постучавшись, слегка приоткрыл дверь. Женщины сидели в креслах за круглым, столиком в теплых байковых халатах, поджав под себя ноги. Курила старшая.
– Простите, у вас не найдется немного табаку?
Старшая сделала такой жест, точно хотела отдать мне чинарик.
– Одну минуту! – поспешно сказала жена бригврача, спрыгнула с кресла и достала пачку «Золотого руна».
Я было шагнул вперед, чтобы принять дар, но она испуганно вскрикнула:
– Нет, нет! Я сама!.. – Издали, вытянув руку с поголубевшими жилками в локтевом сгибе, она протянула мне табак.
Этот вскрик отвращения был вполне естествен, и все же я почувствовал себя обиженным.
– Не бойтесь, – сказал я. – Контузия, в чем бы она ни проявлялась, не передается окружающим. Вам, как врачу, это должно быть хорошо известно.
– Простите, – пробормотала она. – Бога ради, простите…
Я засмеялся и вышел, притворив за собой дверь. Кажется, подруга выговаривала ей за чрезмерное смирение. Во всяком случае, я расслышал фразу: «Ты забываешь, кто ты такая!» – «Ах, оставь!» – с досадой ответила жена бригврача.
Утром в полусне я видел, как старшая из подруг, толстая, краснощекая женщина, прошла через комнату совсем одетая, в треухе и ватнике, и хлопнула входной дверью. Теперь дверь хлопала беспрестанно. Хозяйки готовили теплое пойло для коровы, выносили корм птице. В просвете мелькал кусочек голубого морозного утра, петух с поджатой ногой, парок, идущий от чего-то выплеснутого во двор. Одеяло защищало меня от холода. Привыкнув к хлопанью двери, я снова ненадолго заснул.
Проснувшись уже окончательно, я обнаружил, что в госпиталь идти слишком рано. Чтоб скоротать время, я принялся курить. Но эти ароматные, медом пахнущие самокрутки выкуривались удивительно быстро: видимо, трубочный табак не годится для папирос..
Не зная, чем заполнить томительные часы ожидания, я медленно натянул сапоги, умылся, одел ремни и вновь принялся сворачивать ароматные, на одну затяжку, папиросы.
– Товарищ лейтенант, хотите чаю? – послышался из-за двери мягкий голос жены бригврача.
Я с радостью откликнулся на приглашение. Закутавшись в пушистый шерстяной плед, она полулежала на кровати в своем вчерашнем байковом халатике, голова повязана шелковой косынкой. На круглом столике перед ней стояли термос и чайный прибор. Едва я переступил порог, пес кинулся ко мне, но тут же трусливо отпрыгнул назад и заскулил с тоской и злобой, будто ему разом отдавили все лапы; затем подошел к изголовью кровати и, раздвоив взгляд янтарных глаз, уставился со страхом на меня, с жесткой угрозой – на хозяйку.
– Сразу видно, чей это любимец, – заметил я.
Жена бригврача улыбнулась, кивком указала мне на кресло и подвинула стакан с крепким дымящимся чаем. Теперь, при дневном свете, я увидел ее несколько иной… Она была и похожа и непохожа на свою, верно довоенную, фотографию. Конечно, тогда она выглядела юнее, но дело не только в этом. В ее нынешнем облике утратилась та бесшабашная, добрая и щедрая легкость, что так привлекала на карточке.
– Вы не в Первом медицинском учились? – спросил я, не зная, как начать разговор.
Глаза ее округлились и заблестели.
– Да! Откуда вы знаете?
– Я не знал этого. Просто я сам когда-то учился там.
– Вы медик?
– Нет, я проучился всего один курс.
– А что вы кончали?
– Я ничего еще не кончил. Учился на историческом, а когда институт эвакуировался, ушел на фронт.
– А вы помните кого-нибудь из Первого медицинского? – живо спросила она.
– Ну, еще бы! Гаврилу Иванова, он читал анатомию, Арцыбышева – физика, Ильина – биолога…
– А практическую анатомию у вас вела Нина Владимировна?
– Нет, Лев Сергеевич.
– О! Кровожадный Лев! Его ужасно все боялись! А Кошелева вы помните? – Лицо ее разрумянилось, стало очень юным и очень похожим на фотографию.
– Конечно! Но у нас лабораторию вел Савич. А как звали того старичка, который ассистировал на лекциях по химии? У него все из рук валилось. Мы называли его опыты добыванием стекла из пробирок.
– У нас тоже так острили! Яков Михайлович он был совсем старенький, а все не хотел уходить на пенсию. Мы устроили ему торжественные проводы, преподнесли цветы, подарки. Он ужасно плакал. А при вас шла борьба Брагина с Гудковым?
– Да! У нас весь институт разделился на две группы – кто за Брагина, кто за Гудкова.
– Это и нам досталось по наследству. Брагин ушел в Тимирязевку, а брагинцы остались. И все-таки он был не прав!
– Почему? – воскликнул я с азартом и тут же рассмеялся. – Не хватает, чтобы мы с вами поссорились из-за Брагина!
Она тоже засмеялась..
– Какое чудное было время! Ах, какое чудное время! – Ее небольшой чистый лоб прорезала сурово-важная морщинка. – Здесь, на фронте, как-то особенно хорошо думается о прошлом…
Она уютно куталась в пушистый шерстяной плед, подбирая его руками вокруг себя; чувствовалось, что ей тепло, надежно и покойно в этой протопленной комнате, в этой большой мягкой кровати, в нежном байковом халатике.
– А вы давно здесь? – спросил я.
– Нет! Мы только в сентябре сдали госэкзамены. И то это ускоренный выпуск. Я приехала сюда с тремя подружками. Мы вместе поступали, вместе зубрили, вместе готовились к экзаменам. Нас хотели оставить при кафедре как отличниц, но мы ни в какую – только на передний край!.. Мы так гордились, когда настояли на своем. И надо же – нас направили на Воронежский фронт, где работал мой муж… – Она бросила короткий взгляд на карточку бригврача. – Подружки мои разъехались по медсанбатам, а меня муж не пустил.
– Как не пустил?
– Видите ли, – она слегка покраснела, – ему до зарезу нужен был ординатор в палату для выздоравливающих… Вы не подумайте, – добавила она поспешно, – он тут совсем по-походному жил, это когда я приехала, он раздобыл откуда-то все эти хорошие вещи, даже собаку завел…
От ее милого, доверчивого, такого домашнего облика повеяло на меня вдруг чем-то неприятным и чуждым. Мне вспомнилась та, другая женщина, в темном ночном поезде. Она до нитки обобрана войной, она лишилась мужа, родителей, крова. И вместе с тем не потеряла ничего, быть может даже приобрела ту удивительную щедрую доброту, что способна приютить и согреть всякого, кому одиноко и плохо, что сохранила ее легкой, цельной и прозрачной, как самый чистый родник. Она доживет до того великого праздника, когда встретятся все разлученные, сбудутся все надежды… А эта, такая же молодая и крепкая, не знала никаких горестей и потерь. Она окружена удобствами, у нее сильный любящий муж, готовый защитить ее от всех бед и напастей, – и все-таки она бедна и грядущий праздник не для нее.
Конечно, я ничего не сказал ей: надо же кому-нибудь работать и в палате для выздоравливающих!
– Вы знаете, – словно издалека донесся до меня голос, – у нас такая трудная палата, ужасно много работы! Ведь мы работаем без выходных дней, и потом – ночные дежурства… Так устаешь…
Голос оборвался. Затем она спросила тихо, серьезно и робко:
– Вам не нравится то, что я говорю?…
– Нет, отчего же…
– Я плохо поступила, да?.. Я должна была уехать с моими девочками?.. – Губы ее дрогнули, смялись, она заплакала, сначала тихо, беззвучно, потом, зарывшись лицом в подушку, бурно, отчаянно, неудержимо.
Я смотрел на ее вздрагивающие плечи, на тонкую, детскую шею, обнажившуюся между воротником халата и подобранными под косынку волосами, и не знал, чем помочь этому внезапно прорвавшемуся горю.
Противно отфыркиваясь и не спуская с меня косящего глаза, пес потянулся к ней длинной мордой. Я замахнулся на него, пес взвизгнул и, струясь гибким телом, отполз прочь, но вдруг, забыв все заботы, стал с щелком и чуфыканьем ловить какую-то нечисть на своей гладкой шкуре.
– Дайте мне воды, – произнесла она тяжелым от слез голосом.
Я налил воды из графина и протянул ей стакан. Она жадно, выстукивая дробь зубами, выпила воду. Затем достала маленький носовой платок, утерла глаза и щеки и смешно, по-детски, высморкалась.
– Я ничего не могла поделать, – сказала она беспомощно. – Муж такой умный, сильный, волевой человек. Он всегда прав, всегда настоит на своем. Он знает столько веских, убеждающих слов. Я давно догадывалась, но только сейчас поняла, совсем поняла, что эти слова ничего не стоят… Он хочет для меня того, чего никогда не хотел для себя. Он прожил очень трудную жизнь, почти мальчиком участвовал в гражданской войне, был под Хасаном, Халхин-Голом, в Финляндии. Он крупный клиницист, из-за него спорили два института, а он все бросил и уехал на фронт… Но он так меня любит, так за меня боится… А мне так нехорошо сейчас, стыдно. Стыдно перед товарищами по институту, перед моими подругами, стыдно перед той, какой я была раньше!..
– Один человек сказал мне недавно: самое страшное – выпустить судьбу из рук, прожить не свою, а чужую жизнь.
– Вот и у меня такое чувство. – Она приподнялась на кровати. – Это не я, это не моя жизнь…
– Вам в самом деле так больно? Или это… пройдет?
Она ничего не ответила, только чуть побледнела.
– Не сердитесь и простите меня, – сказал я вставая. – Мне пора. Желаю вам всего доброго, а главное – настоящего. Сейчас наступление, на передовой нужны врачи…
Что-то блеснуло в ее глазах, и на миг она снова стала очень похожа на свою карточку. Пес крутился около постели, он совсем изошел тоской и злобой. Она выбросила тонкую, обнажившуюся из-под широкого рукава халата руку и не больно, а ласково-пренебрежительно сжала его уши на плоском затылке. Он заскулил и отполз прочь, дрожа.
– Знаете что, – сказала она с какой-то робкой душевностью, – давайте встретимся после войны. Наши в медицинском уговорились собраться в первый субботний вечер после войны…
– На великий праздник? – спросил я, улыбнувшись своим мыслям…
Около половины второго я переступил порог госпиталя.
– Вы, все-таки опоздали? – встретил меня военврач словами, лишенными всякой окраски. – Что же, мне ничего не остается, как отправить вас обратно в часть. Он протянул мне запечатанный конверт. – Теперь от вас зависит, свидимся мы с вами через месяц или нет.
– Надеюсь, что нет.
Я пожал его сильную теплую руку и вышел из кабинета.
Когда я брел к городу, за горизонтом привычно погромыхивало, белесое, нагрузшее снегом небо озарялось слабым румянцем, но гул и отблеск наступления уже не будили во мне прежнего тоскливого чувства.
На другой день я навсегда покидал Анну. Близ вокзала меня кто-то окликнул. Я оглянулся. Мимо меня мчалась по шоссе трехтонка, в ее кузове, дружно приваливаясь друг к дружке на выбоинах и ухабах, грудилось десятка три бойцов и офицеров. Машина удалялась быстро, но все же я успел приметить чье-то молодое улыбающееся лицо под низко надвинутой на лоб ушанкой. Потом показалась рука в перчатке и махнула мне раз и другой. Я тоже поднял руку и помахал неузнанному человеку. Машина подошла к развилке, где под прямым углом друг к другу торчали две стрелы: одна «На Воронеж», другая – «На Архангельское». Шофер чуть притормозил и круто свернул на Воронеж, к передовой. И мне почему-то подумалось, что это была жена бригврача. Но, может быть, я и ошибся.
1957
Ранней весной
Ранней весной 1943 года я возвращался в Москву из Сталинграда, куда ездил по поручению газеты. Наша старенькая, давно потерявшая окраску теплушка находилась в самом конце длиннющего, в километр, товарняка, набитого пленными немцами в седовато-зеленых шинелях и пилотках, натянутых на обмороженные уши, и румынами в шинелях цвета конского навоза и в мохнатых шапках; все они были взяты в последние дни битвы в районе тракторного завода. Теплушка наша предназначалась для работников обкома партии, направлявшихся на места, но когда после двухдневного томления мы наконец отчалили от разбитой платформы Бекетовки, то небольшая группа обкомовских инструкторов и агитаторов растворилась в массе пассажиров, заполнивших вагон своими тюками, мешками, баулами, чемоданами. В большинстве это были женщины, эвакуировавшиеся в Сталинград с Курщины, Тамбовщины, Воронежа, Ленинграда и попавшие из огня да в полымя. Настигнутые войной в Сталинграде, они провели дни яростной битвы в Бекетовке или в Сарепте, в меру своих сил и возможностей работая на оборону.
Среди них была одна, родом курянка, не первой молодости, со свежим, розовым лицом, высокой грудью и живым ясным взором. Всю оборону перемогла она в землянке, на краю заводского поселка «Красный Октябрь». Даже в Сталинграде не много было таких мест, что приняли бы на себя столько огня, бомб, снарядов, мин, как этот малый клочок земли. Поселок начисто сгорел, в огне расплавилась кухонная утварь, железные кровати, ветер развеял черный прах, в который обратилось все добро обитателей поселка, даже самая земля словно переродилась: изжеванная снарядами, перенасыщенная металлом, облизанная огнем, она стала как окалина.
– Что же вы не ушли оттуда? – спросил женщину кто-то из попутчиков.
– Вовремя не поспела, а потом немец отрезал…
– А я вас знаю, – вмешался в разговор парень с черной повязкой на глазу. – Вы нам молоко носили, вас тетя Паша зовут.
– Верно! – обрадовалась женщина. – Вы, стало быть, с четвертой минометной. То-то мне ваша личность будто приметная!
– Откуда же молоко-то бралось? – спросил кто-то из глубины вагона.
– У тети Паши там коза была, – с улыбкой сказал одноглазый. – Потому и не ушла, верно, что козьим молочком нас поддерживала.
– Да будет тебе! – отмахнулась тетя Паша. – Какое с козы молоко!..
– Как же вы козу там держали, кормили-то чем? – приставал все тот же голос.
– В землянке, где же ее держать! А кормилась травкой; сенца я малость заготовила; бойцы хлебушка подбрасывали.
– И все это под огнем? Непонятно!
– И мне, милый, непонятно, – чистосердечно призналась тетя Паша. – А было…
– Тетя Паша, а куда же она девалась, кормилица-то наша? – спросил одноглазый и обвел вагон единственным оком, будто рассчитывая обнаружить козу среди тюков, чемоданов, баулов.
– Убило ее осколком, когда немцы к литейной рвались…
Это был один из многих разговоров, возникавших между пассажирами нашего вагона. Люди обнаруживали неожиданные связи, открывали знакомых, вспоминали вместе пережитое. Конечно, я далеко не сразу разобрался в моих спутниках. К тому же состав обитателей нашего вагона был текуч, одни люди входили, другие выходили на многочисленных станциях, разъездах, а то и просто во время внезапных остановок среди пустого поля. В этот первый вечер путешествия лишь полная, добродушная тетя Паша выделилась для меня характерностью своего особого существования.
Почти все обкомовские работники покинули вагон еще в первую ночь. Многие из них спрыгивали прямо на ходу, что не представляло большой опасности, поскольку поезд тащился со скоростью десяти – пятнадцати километров в час. И все же эти прыжки во тьму мартовской ночи, не озаряемой ни единым огоньком, выглядели довольно волнующе.
Почтенный, уже немолодой, как правило, человек в брезентовом плаще поверх овчинного полушубка, с туго набитым портфелем под мышкой, приоткрывал дверь и, вглядевшись в волглую тьму, узнавал по каким-то неуловимым, одним старожилам ведомым признакам место своей командировки, подбирал полы дождевика и, коротко кивнув остающимся, кидался в черную тьму. Делалось это так просто и деловито, с таким отсутствием колебаний, что каждый из нас чувствовал: пойди состав куда с большей скоростью, партийные работники Сталинграда будут так же спокойно подбирать полы дождевиков, коротко кивать товарищам и кидаться в ночь.
Под утро осталось лишь двое, державших путь в более отдаленные районы области. Один из них, инструктор сельхозотдела, крупный человек с мясистым носом и пухлым, сочным ртом, то и дело заводил разговор о чае.
– Вот доберусь до места и сейчас же попрошу самоварчик спроворить. До черта хочется чаю, крепкого чаю! – Он так смачно произносил слово «чай» своими пухлыми, сочными губами, что казалось, будто он уже прихлебывает с блюдца горячий, крепкого настоя напиток.
Пить в самом деле очень хотелось. В обкоме нам дали по буханке сыроватого, с вкусной поджаренной корочкой, хлеба и четыре ведра вареной миноги на всех. Миноги хороши под лимоном или уксусом как закуска, но в качестве единственного блюда они не особенно приятны, тем более в дороге. Жирноватые и соленые, они возбуждали острую жажду, которую плохо утоляла прогорклая вода из паровоза или тепловатая мутная вода редких станционных колонок.
Мысль о чае навела пожилого инструктора на поэтические воспоминания.
– Бывало, до войны, пробираешься зимой в глубинку, на перекладных… Намерзнешь, аж сердца своего не слышишь. И только добрался до первой избы – сейчас чаю! Глянь, уж хозяйка несет пузатика тульского, бочка припотели, сам шипит, свистит, как паровоз. Я всегда с собой китайский чай высшего сорта возил, и пока душеньки чайком не распаришь, никакого дела не начинаешь… Эх, не умели мы ценить жизнь! Иной раз начальство завернет тебе командировочку, клянешь ее в душе, а тут бы… – Он вдруг замолк, глянул в приоткрытую дверь вагона и, громко шурша жестяным плащом, поднялся. – Золотово уже… – проговорил он. – Скоро сходить.
Его товарищ, молодой, со скромным лицом и редкой бородкой, отпущенной, верно, для солидности, поднял на него тихие голубые глаза.
– Погодил бы до станции, Афанасий Григорьевич!
– Нельзя, брат, у меня сев. Это тебе не членские взносы собирать, – подмигнул ему Афанасий Григорьевич.
– Опять ведь швы разойдутся, – тоскливо проговорил молодой.
– Да нет, теперь крепко зашито!
– Ну, тогда и я с тобой, – сказал молодой и поднялся, неловко расправляя ногу.
– Это зачем же? – удивился Афанасий Григорьевич. – Тебе от станции ближе.
– Через Воронково доберусь.
Молодой инструктор, слегка волоча ногу, подошел к своему товарищу и стал в дверях. Они о чем-то заспорили, понизив голос. Видимо, старший отговаривал его от прыжка, а молодой кротко, но упрямо настаивал.
Они еще отодвинули дверь, и за их фигурами широко открылся простор – серое небо с редкими голубыми промывами, черная земля в глянцевитых плоских лужах. На этом просторе не было ничего живого: ни дерева, ни куста, ни даже жухлой прошлогодней травы, лишь куски ржавого железа, гильзы от снарядов и патронов, въевшиеся в землю немецкие каски, похожие на ночные горшки, жестяные коробки мин, равнодушный, мертвый металл. Порой возникал то обгорелый, черный как сажа немецкий танк или бронетранспортер, то фюзеляж зарывшегося носом в землю «юнкерса», то накренившееся набок орудие. И снова россыпь патронов, гильз, стаканчиков от снарядов, бесформенных железных останков. Трудно было поверить, что земля эта когда-нибудь будет вновь рожать хлеб, что за пределами взгляда, но совсем недалеко, вновь слаживается жизнь и наращивается жилье вокруг голых очагов, что есть там люди, способные проводить сев и даже платить членские взносы. Но партийные работники в брезентовых плащах, готовящиеся к прыжку на эту обеспложенную землю, служили лучшим доказательством того, что поле великой битвы вскоре вновь станет обычной крестьянской пахотой.
– Не по-партийному рассуждаешь, брат! – донесся до слуха голос пожилого инструктора. – Христосика разыгрываешь!
Младший пожал плечами, и на этом у них разговор кончился. Оба подобрали плащи, крепче зажали портфели, видимо готовясь «сойти». Но тут, грозя расплющить вагон, поезд начал круто и резко тормозить и наконец стал, грохнув всеми буферами.
– Разъезд! – произнес кто-то неуверенно.
– Зря спорили, Афанасий Григорьевич, – заметил младший инструктор и осторожно, помогая рукой своей раненой ноге, первым спустился на неподвижную землю. За ним, так же неторопливо и осмотрительно, сошел Афанасий Григорьевич. И едва они скрылись из виду, словно шквал налетел на наш товарняк, в вагон хлестнуло ветром, пахнуло жарким дыхом двух паровозов, и мимо нас замелькали платформы воинского эшелона, груженные танками, артиллерией, грузовыми машинами, снова танками и «катюшами», и снова пушками в каплях смазочного масла. Затем вдруг посмерклось, и частые, как из пулемета, просверки стали отсчитывать пробегающие мимо нас вагоны с пехотой. Последним проскочил, вытянув за собой шлейф ясного утреннего света, маленький вагончик с часовым на задней площадке.
Замерло вдали дыхание тяжелого состава, а мы все не трогались.
– Видать, еще эшелоны пойдут, – высказал предположение одноглазый парень.
Но вот из всех вагонов товарняка посыпали военнопленные в зелено-седых, как плесень, и навозных шинелях, на рысях пересекли железнодорожный путь и затемнели кочками на бугре за полотном.
Вновь намчавшийся воинский эшелон отрезал нас от этого непривлекательного зрелища. И снова мелькали платформы с орудиями, танками, «катюшами»; могучая техника, победно сработавшая на решающем участке второй мировой войны, мчалась вдогон за отступающим противником. Восторженно, нежно, гордо и радостно провожали мы взглядом громадные орудия, танки с иссеченной броней, таинственные «катюши», такие грозные в бою, а сейчас зачехленные, похожие на матрацы, теплушки с не видной нам пехотой, и слезы навертывались на глаза, и хотелось кричать, петь от счастья нашей молодой победы.
А там, под вихрем летящего эшелона, на корточках, спустив штаны, по-солдатски неторопливо опрастывались остатки великой армии…
Наше неспешное, но все же неустанное, плавное продвижение вперед кончилось. Путь был одноколейный, и мы должны были то и дело уступать дорогу мчащимся на запад эшелонам с техникой и войсками. Мы двигались от разъезда к разъезду, и на каждом подолгу замирали. Случалось, мы сутками томились на станциях, где были устроены трофейные склады: там стояли колонны пятитонных «бюссингов» и приземистых мышиного цвета «мерседесов», высились штабеля немецких мин, ящиков со снарядами и патронами, целые горы седел из эрзац-кожи. Лошадей немцы съели еще в начале окружения и собирались было приняться за седла, когда советские войска избавили их от забот о хлебе насущном. Трофейная техника грузилась на платформы и уходила на запад, и ей мы тоже уступали дорогу. На этих рельсах, раскаленных от безостановочного движения тяжелых поездов, наш состав был самым неважным и ненужным. Но мы, пассажиры прицепного вагона, не могли досадовать на бесконечные задержки: ведь мы уступали дорогу нашим будущим победам.
А потом нас стали теснить и другие поезда. В Сталинград шли платформы с углем, машинами, стройматериалам цистерны с нефтью, холодильники с продуктами. И мы словно путались под колесами этих работающих на войну и восстановление эшелонов.
Непредвиденно затянувшееся путешествие вызвало к жизни особый вагонный быт. Постепенно у нас выделилась прочная, постоянная группа пассажиров, связавшая себя с этим поездом до конца пути. Где наступит этот конец, мы еще не знали, вагон должны были отцепить или в Борисоглебске, или в Мичуринске. Как-то само собой получилось, что старожилы заняли левую от дверей половину вагона, а случайные попутчики располагались в правой. Левая половина могла считаться плацкартной: там имелись узкие нары; те же, кому недостало места на нарах, соорудили себе на полу подобие ложа из оказавшегося в вагоне сена и собственных вещей. Появились даже занавесочки, отделявшие одно «купе» от другого. Занавески вывешивались только на ночь, днем мы жили по-семейному, с общим котлом. Это тоже сложилось как-то само собой. Дорожные запасы у всех были крайне скудные, никто не рассчитывал на столь долгий путь, да едва ли и можно было запастись большим в разрушенном, живущем на жестком пайке Сталинграде. Если у меня оставалось около ведра осточертевших мне миног, то не было ни кусочка хлеба, а у тети Паши, напротив, кроме калабашки черного хлеба да серых лепешек, не было никакой другой еды. Так же примерно обстояло дело и у других пассажиров: один был богат луком, другой – твердой как камень черной колбасой, третий – еще какой-нибудь незатейливой снедью. Объединив наши запасы, мы пользовались довольно разнообразным и вкусным столом.