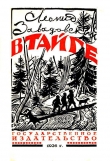Текст книги "Ранней весной (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
С интересом следя за этим молчаливым поединком, я вдруг понял, что хладнокровие Николая Семеновича было напускным – его толстые уши стали вишневыми от прилившей к голове крови, – а спокойствие Пал Палыча вполне безыскусственным.
Пока я привязывал леску, крутя тонюсенькие петельки и тут же упуская их, пальцы одеревенели. Пал Палыч зашел в воду, захватил в охапку водоросли, резким движением выдернул их и бросил на берег вместе с песком, илом и чуть ли не десятком запутавшихся в траве плотичек.
– Вот это ловля! – засмеялся Пал Палыч. – Семерых одним махом!
– Совести у вас нет! – плачущим голосом сказал Николай Семенович. – Рыба хорошая, умная. Зачем же пугать ее?
– А я не пугаю – я ловлю.
– Да что это вам, балаган, что ли? Ведь уйдет рыба!
– Нет, лучше я уйду! – Пал Палыч подмигнул мне и, закинув на плечо удилище, зашагал вверх по реке.
Непоседливость и легкомыслие Пал Палыча, обнаружившиеся после того, как он ночью показал себя таким молодцом, неприятно меня удивили. Но, видимо, в ловле на удочку он не находил той остроты удовольствия, что в битье рыбы острогой.
Мы ловили еще часа три или четыре, но Пал Палыч не возвращался. Небо облилось закатом, затем пригасло, и синеватая тень земли легла по горизонту. Вода в озере побелела, погустела, как сметана, и, будто утеряв привычную стихию, чайки с громкими, паническими криками носились над береговой кромкой.
Рыба по-прежнему терлась, билась в осоке и камышах, но клевать перестала. Подул холодный ветер. Мы стали собирать наш улов: два полных ведра. Кроме того, оказалось, что самых крупных плотиц Николай Семенович спускал в сачок, – на глаз их там было не меньше полусотни.
– Неплохо! – заметил я.
– Это что! – отозвался Николай Семенович. – Вы бы посмотрели в прошлые годы!..
Я еще никогда не встречал рыболова, который бы не считал, что в прошлые годы и рыба была крупнее, и уловы богаче, но до сих пор не могу понять: говорится ли это из боязни спугнуть удачу или по странной игре человеческой памяти?….
– А где же рыба… этого? – спросил Николай Семенович.
– Да, наверно, тут, вместе с нашей.
– Ладно, пошли!
И, захватив тяжелые ведра, мы двинулись в обратный путь.
3
Едва мы подошли к нашему домику, как увидели Пал Палыча. В голубоватых прозрачных сумерках новолунья он читал стихи, стоя перед копной прелой соломы. Приблизившись, мы обнаружили в копне небольшую фигурку Любы; она так умялась в солому, что издали была совсем неприметна.
Спеши! И радости поток
Нас захлестнет, но не разделит!..
– Тоже скажете! – знакомо отозвалась Люба, но в голосе ее не было вчерашней небрежной лени, в нем звучала заинтересованность, не без примеси кокетства.
– Жаль, если он ей голову закрутит, – проворчал Николай Семенович. – Она девушка хорошая, чистая.
Это замечание не имело никакого отношения к рыбе, и я с удивлением посмотрел на своего спутника. Николай Семенович нахмурил торчкастые, похожие на усы брови, откашлянул в кулак и быстро прошел в сени.
Перед ужином Пал Палыч объявил, что сегодня состоятся танцы. Оказывается, он обнаружил в доме старый патефон с набором пластинок. Видимо, тут все было решено еще до нашего прихода. Детей уложили спать пораньше, а Катя и Люба принарядились: надели крепдешиновые платья, шелковые чулки, туфли на высоких каблуках. К обычным серьезным запахам нашего жилища примешался тонкий аромат чего-то женского: пудры, духов.
Катя мило смущалась своего праздничного обличья, будто не имела на него права. Она все отводила глаза и без причины прыскала коротким застенчивым смешком. Подтянутая и чинная Люба, напротив, исполнена какой-то торжественности: танцы – серьезное дело в восемнадцать лет!
Я понял, что сегодня она не поедет к своему саперу, и мне стало немного не по себе, словно и моя вина была в том, что нарушился обычный лад здешней жизни.
Но вот захрипел, заиграл патефон, мужской рыдающий голос запел что-то об одиноком цыгане, Пал Палыч подхватил Любу, и в ее повлажневшем взоре отразилось такое глубокое наслаждение, что неприятное чувство разом покинуло меня.
Верно, и бабка Юля подметила трогательное выражение счастья на лице дочери.
– Танцуйте, танцуйте; милые… – тихим, добрым голосом проговорила старуха.
Катерина перевернула пластинку так быстро, что Пал Палычу и Любе не пришлось прерывать танца. Теперь звучала бравурная, веселая мелодия, и движения танцующих стали быстрыми, отрывистыми. Пал Палыч танцевал прекрасно, он так легко и уверенно вел свою партнершу по тесной избе, заставленной лавками и кадушками, точно они находились в бальном зале. Люба раскраснелась, глаза ее стали далекими, отсутствующими.
Но вот погасла в жестяном хрипе мелодия – пора менять иголку, Пал Палыч поцеловал Любе руку, та ответила ему благодарным взглядом.
– Эх, только по рюмочке нам не хватает! – воскликнул Пал Палыч, обводя избу блестящими глазами. И тут он приметил на тесно заставленном подоконнике горлышко бутылки. – Да вот она, голубушка! – Он подбежал к подоконнику и ловким жестом извлек бутылку.
– Это моя водка! – раздался мрачный голос Николая Семеновича. Он сидел на обычном месте, в темном углу, и курил трубку, пуская дым в трещину разбитого окна.
– Вот и чудесно! – отозвался Пал Палыч. – Товарищи дамы, к столу! – И с необыкновенной быстротой он извлек из шкафчика граненые стаканы, стопки, резким ударом кулака по ребру донца вышиб пробку и разлил водку по «рюмкам».
Конечно, и Люба и Катя чинились, уверяли, что «в рот ее не берут», но сокрушительному напору Пал Палыча нельзя было противостоять. Он даже бабку Юлю заставил выпить, чем ужасно рассмешил старуху. Он только сам почему-то не выпил, хотя старательно потчевал всех.
И снова заиграла музыка…
Я танцую плохо, но, подогретый водкой, решился пригласить Катю. Она долго отказывалась, делая испуганные и сердитые глаза, серьезно уверяла, что «ее дело пожилое», вырывала и прятала за спину руки, когда я пытался поднять ее со стула, но в конце концов, залившись краской, согласилась и протянула мне маленькую твердую шершавую руку. Танцуя, Катя все смотрела себе под ноги, выбирая, куда их лучше поставить, и ставила так, что я то и дело отдавливал ей пальцы, и тут же, опережая меня, говорила: «Извините, пожалуйста».
А бабка Юля, стоя у печи, глядела на нас так весело и жадно, точно сама собиралась пуститься в пляс, и, утирая смеющийся рот рукой, приговаривала:
– Ишь сатанята!..
Конечно, вполне законно отнестись с иронией к рыбаку без удочки, но мне в этот миг невольно подумалось: а что принесли этим людям мы с Николаем Семеновичем? Сколько народу прошло через этот домик, но, кроме, рыбы, никто здесь ничем не интересовался. А вот Пал Палыч оказался совсем другим, и, верно, он останется у хозяев в памяти теплом и весельем, которые внес в их жизнь…
Так думал я, отдыхая после очередного мучительного танца с Катей. Пал Палыч и Люба могли, казалось, танцевать бесконечно. Сейчас он вел ее мягким, крадущимся, кошачьим шагом вальса-бостона и что-то шептал на ухо. Люба отстранялась от его шепота, закидывала голову назад, обнажая нежное, тонкое, будто прозрачное горло. Вдруг она высвободилась из рук Пал Палыча и, сурово глянув на него, отошла к стене.
– Ну и пожалуйста! – приглушенно, с досадой сказал Пал Палыч. – Я приглашу Катю!
Он повел Катю, и под его умелой рукой Катя стала двигаться куда плавнее и грациознее, нежели со мной.
И вдруг все как-то засуматошилось. Захлопали двери, гоняя по избе уличную студь. Забегала в сени и назад бабка Юля. То задуваемый, то вздуваемый порывами ветра, меркнул и ярко возгорался венчик пламени в лампе.
– Катькин позор заявился, – пренебрежительно сказала Люба.
– Надеюсь, мы ничего плохого не делали? – обеспокоенно проговорил Пал Палыч, поспешно выпуская Катю.
– Да пусть войдет, чего людей зря смущает? – строго сказала Катя.
Но он вошел сам, не дожидаясь приглашения, небольшой, рыжий, с отчаянными глазами. Какие бы чувства ни владели, этим человеком, они не были добрыми. Но он не успел обнаружить того, что нес сквозь ночь и непогодь к этому дому, укрывшему его любовь. Обескураживающая, ласковая решительность Пал Палыча мгновенно опутала пришельца, сбила с толку, усадила за стол, принудила выпить столько, чтобы отмякло сердце.
Он, верно, и сам не мог понять, как случилось, что он ест и пьет в этом доме, и чокается с женой, и осторожно шевелит пальцем волосики спящей дочери, пляшет, ударяя оземь коленом до живого хруста кости…
Но всему бывает конец. И поздний час как-то сам собой погасил музыку и шепнул людям: «Пора и честь знать». Мужу Катерины надо в обратный путь, сквозь ночь, непогоду и дорожную непролазь. Чего он добился своим приходом? Он будто чувствует, что его обманули, и в глазах его появляется давешнее: затравленно-отчаянное. Робким и судорожным движением берется он за шапку, но Пал Палыч не дает ему уйти.
– Оставайтесь, – уговаривает он, ласково обняв его за плечи. – Ну куда вы пойдете в такую темень?
Тот исподлобья, но все же с надеждой глядит на лица своих родичей, вновь ставшие отчужденными, замкнутыми. Катерина стелет постель, к мужу повернута ее спина.
– Да оставайтесь же в самом деле, утречком вместе и пойдете! Товарищи, нельзя же гнать человека!..
Признаюсь, я с некоторым трепетом следил за этим отважным вмешательством в сложную, тонкую, трудную жизнь чужих людей. Но все обошлось до странности просто.
– А мне что, пусть остается, – вдруг как-то очень покойно сказала Катерина.
– Дай-кось тюфяк, – так же спокойно и деловито подхватила бабка Юля, – на лавках постелю.
Через несколько минут все улеглись, бабка Юля погасила лампу, и я сразу услышал рядом с собой кроткие и тихое дыхание Пал Палыча. Он засыпал мгновенно, как ребенок.
Ночью я проснулся, разбуженный чьим-то голосом.
– Ты что, сдурел?!. Ребенка разбудишь!.. – услышал я незнакомый, напряженный, странный голос Катерины.
В ответ возня, затем срывающийся шепот мужчины:
– Муж я тебе или не муж?
– Уйди, слышишь!.. Я думала, ты человек… Уйди!..
– Кать!..
– И мыслить об этом забудь… Никогда… теперь – никогда!
Тишина, затем резкое бранное слово сквозь зубы. Человек, освещая себе путь зажженной спичкой, метнулся к двери, и я на миг увидел бледное, под шапкой рыжих волос, лицо; дверь захлопнулась, отрезав свет, и в темноте сдавленно, осторожно и зло зарыдала женщина…
Утром не было и речи о неудавшемся примирении, все делали вид, будто ничего не произошло. Лишь когда дочери ушли на работу, бабка Юля сказала Пал Палычу:
– Эх ты, миротворец! – но это прозвучало не укоризненно, а печально.
4
День выдался скверный. Ветер, задувший еще накануне, пригнал к берегу лед, и плотва, чтоб не задохнуться, ушла из прибрежных заводей в открытую воду. Казалось, зима решила в последний раз помериться силами с весной. Берега зеленели молодой травкой, ольшаник весь закурчавился листвой, а с озера напирали ледяные валуны в шершавом крупитчатом снегу, дыша разящей, стужей. Обломки льдин выползали на берег и громоздились друг на дружку. Низкое серое небо над озером медленно расслаивалось, все ниже припадая к воде. Светлая еще полоса берега ужималась на глазах, и когда мы добрались до речки, граница света оттянулась к подножию деревьев, а затем посвинцовел и накрытый тенью молодой убор ольшаника. Весна отступала вдаль, за горизонт.
Холодно и неприютно было на реке. Ветер стегал по воде, покрывая ее трепещущей рябью, раскачивал голые прутья кустарника, трепал молодой березняк на другом берегу речушки. Деревья сомкнули свои набухшие, готовые лопнуть почки, они казались обглоданными, мертвыми. Потемнела, съежилась осока, полег камыш, где замолк знакомый, волнующий стрекот. Клева, конечно, не было. Нам попалось лишь несколько тощих, с тусклым селедочным блеском уклеечек, да и тех мы покидали назад в реку.
Мы медленно двигались от устья к железнодорожному мосту, выбирая среди нависших над водой старых ветел места поукрытее, но все без толку. Наконец Николаю Семеновичу посчастливилось. На маленьком чистом пятачке среди листьев кувшинок, почти у самого берега, он одну за другой вытащил около десятка очень крупных, набитых икрой чернух. Это дало нам заряд бодрости еще часа на три бесплодного лова. Пал Палыч, наиболее нетерпеливый из нас троих, успел дойти до моста и вернуться обратно, но без успеха.
Пошел мокрый, довольно густой снег. Едва касаясь земли, он тут же таял, и в течение нескольких минут берега закисли.
– Ну, теперь уж не на что рассчитывать, – сказал Пал Палыч, ежась от стаивающего за шиворот снега.
– Ясное дело, – согласился Николай Семенович, вытаскивая подлещика.
– Я прошел до самого моста, хоть бы раз клюнуло! – сказал Пал Палыч, обращаясь ко мне.
Он явно хотел, чтоб я составил ему компанию на обратный путь, но тут Николай Семенович вслед за подлещиком вытащил полосатого окунька, и я сказал Пал Палычу, что хочу еще половить.
– Желаю удачи! – с обычным доброжелательством ответил Пал Палыч и, подняв воротничок куртки, зашагал прочь от берега.
И мне почему-то подумалось, что мы его больше не увидим. Он исчерпал для себя круг здешних радостей и так же легко, как появился накануне, исчезнет, не утруждая себя условностями расставания.
Но я ошибался.
Вернувшись вечером домой, мы застали всю семью за поисками. Стоя на лавке, Люба обыскивала печь, перебирая тюфяки, одеяла, подстилки; Катерина шарила под буфетом, бабка Юля обследовала кровать.
Обшаривала все углы смешная, рассеянная дочка Катерины в длинном, не по росту, зипунишке. Не менее старательно действовал ее меньшой братишка. Он, видимо, не знал, что ищут, и с радостным видом приносил бабке то спичечную коробку, то огарок свечи, то котенка. В благодарность получал несильный подзатыльник и с новым рвением принимался за поиски.
Малыш тоже искал. Но он искал грудь матери, которая, занявшись розысками, совершенно забыла о нем. Наш приход ее отрезвил. Отряхнув колени, она села на постель и взяла младенца на руки. Тут он сразу нашел, что ему нужно, и отдался своему делу, равнодушный ко всему на свете.
И как будто бесцельно, только мешая людям, с рассеянно-отвлеченным выражением слонялся по избе Пал Палыч. Вид его странной непричастности ко всей этой суматохе сразу навел меня на мысль, что он – пострадавший.
– Что тут у вас стряслось? – спросил я Пал Палыча.
– У меня пропал ножичек, – ответил он больным голосом.
Ничтожный размер бедствия так не соответствовал усилиям людей и огорчению пострадавшего, что мне захотелось ответить шуткой, но меня перебил Николай Семенович.
– Экая досада! – серьезно сказал он.
Такая участливость Николая Семеновича, настроенного недружелюбно к Пал Палычу, удивила меня. Но в этом сказалось, верно, уважение профессионала к орудию промысла: в походной обстановке нож – первое дело, особенно же для рыболова или охотника.
Николай Семенович тоже включился в поиски. Наперво он ощупал собственную одежду, затем исследовал подоконник, где хранилась наша еда, потом полку с посудой, наконец осмотрел карманы наших плащей и курточек, висящих около двери.
– Крепко же вы его потеряли, – сказал он, усевшись за стол, достал свой великолепный, о пяти лезвиях, нож и стал нарезать хлеб к ужину.
– Ну, нет его и нет! – стоя на коленях у кровати, под которую только что заглядывала, сказала бабка Юля. Ее лицо было красно от прилившей крови. – Хочешь, возьми наш ножик!
– Какой, кухонный? Ну что вы! У меня нож был в ноженках. Такой небольшой изящный ножичек в кожаных ноженках, – говорил Пал Палыч, жалобно морща свой узкий рот.
– Сроду у нас такого дела не случалось! – огорченно вздыхала бабка Юля. – Сколько народу перебывало… Экая беда, прости господи!
Мне стало неловко перед старухой и ее дочерьми за всю эту грубую кутерьму. Было ясно, что они ищут уже давно, обшарили каждую щелку, знают, что ножичка им не найти, и продолжают свою бесцельную работу лишь из щекотливости и смущения.
– Ну, бог с ним, в конце концов! – сказал я. – Тоже, фамильная драгоценность!..
– Простите, но это мой ножичек, – сказал Пал Палыч почти надменно.
– Но почему вы так уверены, что потеряли его именно здесь? Вы могли обронить его на реке, по дороге на реку…
– Я слишком внимателен к вещам, чтоб со мной это могло случиться, – последовал ответ.
Все же и бабка Юля и Люба восприняли мое вмешательство как сигнал к прекращению поисков. Люба опустилась на лавку и сладко потянулась, бабка Юля, со скрюченной от частых поклонов поясницей, заняла свое обычное место у печи, прижавшись спиной к ее теплу. Дочка Катерины, подражая взрослым, тоже перестала шарить по избе, подошла к бабке и стала рядом, по-взрослому подперев щеку рукой. Только братишка ее никак не мог угомониться и уже нес в кулачке какую-то новую находку, когда мать сердито прикрикнула на него:
– Цыц ты! Замри!
И этот резкий окрик открыл мне, как нехорошо сейчас хозяевам, как неприятна им эта пропажа. Хоть бы Николай Семенович подал голос! Но, верный своему обычаю невмешательства, он молча готовил ужин. Зато Пал Палыч сказал с упорством, которому все нипочем:
– Может быть, дети взяли?
– Сроду за ними такого не водилось! – сурово ответила бабка Юля.
Но с добросовестностью старого человека она наклонилась к стоящей рядом внучке и вывернула враз карманы ветхого зипунишки. Мимо старухиной руки выпал, звякнув колечком, ножик. Пал Палыч радостно вспыхнул, поднял ножик, вынул его из ножен, словно желая удостовериться, что ножик не пострадал, вложил назад и спрятал в карман.
– Ты зачем чужое взяла? – грозным голосом произнесла бабка Юля и страшновато выдохнула: – А-а!
Длинной, коричневыми жилами перевитой, плоской и тяжелой рукой бабка наотмашь ударила девочку по лицу. На розовой округлой щечке возникли вмятины, от них лучиками побежала белизна, затем белизна резко и быстро затекла пунцовым. Как будто кленовый лист выжгли на щеке ребенка.
Катерина не сделала ни одного движения, чтоб защитить дочь, – бабка вела дом, – но что-то окаменело в ее лице.
Бабка подняла руку и так же резко, от локтя кистью, хлестнула девочку по другой щеке.
– Не брать чужого!.. Не брать чужого!..
Девочке, наверно, было очень больно, но она не заплакала и даже словечка не молвила в свое оправдание. Это можно было принять за упрямство, за какую-то очерствелость маленькой души или за «характерность», как определяла бабка ведущее семейное начало, но скорей всего она просто пыталась постигнуть смысл происходящего.
Видимо, она взяла ножик, чтобы поиграть с ним, затем положила в карман и забыла. И теперь в ее маленьком мозгу устанавливались новые связи; чужая вещь не становится своей оттого, что полюбилась тебе, за это стыдят и больно бьют. Эта внутренняя работа, в которой постигалось новое, поглощала все силы ее крошечного существа, вытесняя слезы.
– Не смей брать чужого! – и бабка снова подняла руку.
– Ой, не надо! – воскликнул Пал Палыч, сморщив лицо.
– То есть как это не надо? – сурово спросила старуха.
– Подождите, – торопливо заговорил Пал Палыч. – Может быть, я сам впотьмах сунул ножик к ней в зипунишко. Он же висел у двери, рядом с моей курточкой!
– Надо было раньше думать! – зло крикнула Люба.
И все же настоящий смысл запоздалого заступничества Пал Палыча не сразу дошел до меня, в первый миг я почувствовал даже облегчение. Но затем я увидел глаза девочки. Два круглых больших глаза с расширенными зрачками были обращены на Пал Палыча с выражением тягостной, недетской ненависти.
– Нет, – громко произнес вдруг Николай Семенович, – я сам видел, как она играла с ножичком. Ты ведь играла ножичком? – добрым голосом обратился он к девочке.
– Иг-рала… – послышался скрипучий шепот.
– То-то! – облегченно сказала бабка Юля и, взяв внучку за светлый вихор, дважды или трижды с силой дернула книзу, приговаривая: – Не брать чужого!.. Не брать чужого!..
Видимо, девочка уже усвоила эту истину: сосредоточенное и, как мне казалось, затаенно-упрямое выражение исчезло с ее лица, ставшего простым, детским и плаксивым.
– Не буду, баба! – заревела она, и бабка отозвалась умиротворенно:
– Ну, ступай… Погоди, дай нос высморкаем!
Девочка высморкалась в бабкин подол, и через минуту жизнь в нашем тесном жилище настроилась на обычный лад. Катерина кормила младенца, бабка Юля раздувала самовар с помощью старого валенка, а маленькая «грешница» обучала котенка тому благостному закону, который накрепко вколотила в нее добрая бабкина рука. Она клала на пол клубок шерсти и, когда котенок вцеплялся в него лапами, трепала его за шкурку, приговаривая:
– Не брать чужого!.. Не брать чужого!..
Люба молча обряжалась в дорогу. Она натянула ватник, обмотала голову платком, несколько раз закрутив его вокруг шеи; видимо, она собиралась к своему саперу.
– Как, вы уезжаете? – обратился к ней Пал Палыч. – Но мы же уговорились…
Люба молча сняла с крюка велосипед.
– Поезжай, поезжай, дочка, – теплым голосом сказала бабка Юля. – Он поди заждался.
Толкнув передним колесом велосипеда дверь, Люба вышла в сени. Пал Палыч посмотрел ей вслед и вздохнул. Хлопнула входная дверь. Пал Палыч закурил сигарету, вид у него был отсутствующий.
– Николай Семенович, – неожиданно сказал он, подойдя к столу, – вы-то ведь знаете, что девочка… стащила нож?
Николай Семенович в эту минуту вскрывал банку консервов, сделанную, по всей видимости, из кровельного железа, – так взмокло и покраснело от напряжения его большое, толстое лицо. Он ответил лишь после того, как лезвие ножа ровно заскользило по кромке донышка.
– Нет.
– Но вы же видели, как она играла с ножиком?
– Это неважно, – медленно и словно нехотя произнес Николай Семенович.
– Но, простите?! – впервые на лице Пал Палыча я увидел не восторженное, а вполне серьезное, даже несколько тревожное изумление. – Тогда я вас не понимаю… Это же черт знает что такое!.. – начал он с неуверенным возмущением – и осекся.
На него в упор были наставлены два темных, с желтоватыми белками, два много видевших на своем веку, натруженных, по-солдатски зорких, добрых и беспощадных глаза. И грузный, тяжелый, равнодушный ко всему, кроме рыбы, консультант по судакам сказал со странным выражением нежности и злости:
– Вы не заметили, как посмотрела на вас девочка, когда она уже отстрадала свою невольную вину, а вам вздумалось играть в благородство? То-то и оно! Не всякая наука по силам ребенку… Еще придет для нее время, когда она научится ненавидеть таких, как вы… – И совсем тихо добавил: – Ничтожный, жадный, ласковый паразит…
– Ах, вот как! – только и сказал Пал Палыч с каким-то неясным и задумчивым выражением. Да, задумчивым: в его тоне не чувствовалось ни гнева, ни обиды, ни возмущения, ни даже сожаления, лишь чуть-чуть – усталость. Та усталость, которую испытывает путник, слишком рано поднятый с привала. – Когда тут проходит «кукушка»? – вежливо и спокойно спросил он бабку Юлю.
– Теперь уж на рассвете, раньше не будет, – не подворачивая головы, ответила бабка.
– А сколько до города?
– Километров десять.
Пал Палыч неторопливо оделся, нахлобучил кепку, поднял воротник щеголеватого пальто и подошел к двери. Теперь уж я видел его как сквозь увеличительное стекло: он явно надеялся, что его остановят. Не дождавшись этого, он толкнул дверь. Ночь глянула в лицо Пал Палычу темнотой и холодом. Аккуратно притворив дверь, он разделся и сел на кровать.
– В конце концов каждый имеет право на постой, – без всякого вызова или бравады сказал Пал Палыч и, взбив подушку, улегся спать.
Николай Семенович уступил мне половину своего тюфяка, и я прикорнул у теплого бока соседа…
Утром Пал Палыча уже не было в избе, видимо он уехал с первой «кукушкой». Уехал, забыв расплатиться за ночлег. Но все, чем он пользовался у нас: сапоги Николая Семеновича, бабкин плащ и ватник, моя удочка, запасные крючки, банка с мотылями, перчатка, – все было аккуратно сложено на лавке, являя с полной очевидностью, что уголовной ответственности Пал Палыч не подлежал…
1954