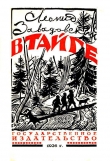Текст книги "Ранней весной (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Шатерников вернулся от начальника подива в холодной ярости, его красивое лицо, горело, словно натертое снегом.
– Успели накапать?.. – бросил он в самое лицо Ракитина, сидевшего на нарах с кружкой кипятку.
Ракитин отставил кружку и поднялся.
– Я раз и навсегда запрещаю вам разговаривать со мной в таком тоне! – сказал он громко, не стесняясь присутствия посторонних. – Вам, что-нибудь нужно от меня? Потрудитесь говорить вежливо и спокойно.
Шатерников резко повернулся и вышел из блиндажа.
Только на другой день, когда они мчались на попутной машине в Вяжищи, Шатерников снова заговорил с Ракитиным. Пряча лицо от ветра в поднятый воротник полушубка и не глядя на Ракитина, он сказал:
– Мне хочется понять, одно. Как у вас хватило… – Шатерников замялся, и Ракитин, ожидавший услышать резкость, предостерегающе вскинул брови.
Шатерников отстранил ото рта заиндевевший воротник. Желание сорвать сердце боролось в нем с желанием понять, что же все-таки произошло.
– Как у вас хватило… решимости? – проговорил он, морщась, словно от зубной боли. – Неужели вы так уверены были в своей правоте?
«Мы еще будем друзьями!» – подумал Ракитин.
– Скажите, вы были уверены, что нельзя посылать танки без автоматчиков?
– Я это просто знал!
– И я просто знал. Для меня это такая же азбучная истина. Когда я увидел, что наносится ущерб делу, которому я служу, у меня тоже не было сомнений, как поступить…
Шатерников снова закрыл лицо воротником и не произнес больше ни слова. А когда они спрыгнули на околице Вяжищ, он сказал ленивым голосом:
– Слушайте, Ракитин, может вы один сходите к Князеву? Я вас здесь подожду.
«Как странно, – думал Ракитин, шагая к избе, где помещалось „хозяйство Князева“. – Шатерникову с его мужеством и отвагой не хватает смелости встретиться с Князевым…»
Батальонный комиссар Князев был на месте и радушно встретил Ракитина.
– А, начальство! Получайте трофеи, загребайте жар чужими руками! – Он указал на огромный, туго набитый мешок. – Чтоб вам не потонуть в этом хламе, мы сделали реестр и краткий обзор наиболее интересных материалов. Держите! – И Князев протянул ему папку.
Даже при беглом знакомстве с содержимым папки Ракитин понял, что отдел потрудился на славу: тут было чем поживиться и газете, и составителям листовок.
– Ну вот, можете, значит, работать! – сказал он весело.
– Только под вашим руководством! – ответил шуткой Князев. – Да, кстати, где ваш напарник? Он бы понес мешок…
– Если вы имеете в виду капитана Шатерникова, – сухо сказал Ракитин, – то, смею вас уверить, он годится на большее, чем таскать мешки.
– Да бросьте вы меня разыгрывать! – замахал руками Князев.
И тогда Ракитин рассказал Князеву обо всем, чему сам был свидетелем во время боя за высоту.
– Но поймите, дорогой мой, и наше положение, – став серьезным, сказал Князев. – Работа новая, хочешь, чтобы тебе помогли и посоветовали. И вот приезжает инструктор фронта… Фронта!.. А толку от него как от козла молока!.. А что там за история вышла с листовкой? – вдруг спросил он.
Ракитин пожал плечами.
– Просто хотели выпустить листовку, а потом раздумали.
– Знаю я, как раздумали! – захохотал Князев. – Верно, Шатерников сработал?.. Видите, дорогой мой, нельзя быть политработником нашармачка, – дело такое, что всего человека требует… умного сердца требует… да и смелости, черт возьми!..
«А ведь он прав, – подумал Ракитин. – Но как сказать такое взрослому, самолюбивому, знающему себе цену человеку? И разве я отвечаю за Шатерникова?.. Да, отвечаю! Не знаю, как это случилось, но я отвечаю за каждого, с кем сводит меня служба войны. И уклониться от этой ответственности – все равно что нарушить присягу…»
– Я не хочу, чтобы вы уподобились мешочнику, – прервал его мысли Князев. – Сегодня вечером наша машина пойдет в Вишеру за бумагой, я пришлю вам этот мешок с бойцом.
Ракитин поблагодарил, пожал Князеву руку и с папкой под мышкой вышел из избы. Шатерников в одиночестве сидел на куче черной, прошлогодней соломы и ел хлеб с маслом. Масло замерзло, и он не намазывал его на хлеб, а подцеплял кончиком ножа и отправлял в рот. Когда Ракитин подошел, Шатерников подвинул ему масло.
– Я угощаю вас маслом, – сказал он церемонно.
– Спасибо.
Некоторое время они молча жевали, затем Шатерников вяло спросил:
– Ну, что там?..
– Все в порядке. Выписки из материалов в этой папке, а трофеи пришлют вечером машиной.
– Обо мне он не говорил? – с той же ленцой спросил Шатерников.
– Говорил! – Ракитин, почувствовал, что бледнеет, он не ожидал, что так быстро решится на этот разговор.
– Что же именно?.. – протянул Шатерников, ковыряя ножом масло.
– Он говорил, что для политработника вам недостает ни понимания, ни знаний, ни даже смелости, а главное – умного сердца…
Щеки и лоб Шатерникова покрылись хлопьями румянца.
– Вы, очевидно, разделяете его мнение?
– Да!.. Поверьте, я говорю из доброго чувства… Неужели вам самому, сильному, волевому человеку, не ясно, что покамест вы политработник только по должности?
– Да вам-то какое дело? – не столько с гневом, сколько с удивлением вскричал Шатерников.
– Если б вы действительно были политработником, вы бы не задали такого вопроса.
Шатерников не ответил и занялся своим вещевым мешком, он сложил туда остатки провизии, туго стянул горловину лямками и повесил мешок за спину.
А у Ракитина было тяжело на душе, хотя он считал, что поступил правильно, сказав Шатерникову все начистоту. Несмотря на все происшедшее между ними, Шатерников был ему дорог, хотя и по-иному, чем прежде, когда он смотрел на него со слепым юношеским обожанием.
– Когда мне дадут батальон, – нарушил молчание Шатерников, – там у меня мальчики вроде вас будут по струнке ходить! – Но в тоне его не было злобы.
Ракитин с любопытством взглянул на Шатерникова. Тот с отчужденным видом высматривал что-то в конце длинной и пустой деревенской улицы.
– А что, – повернулся он вдруг к Ракитину, и глаза его блеснули, – пошли бы вы ко мне комиссаром?
– Я не умею по струнке ходить.
– Знаю! – Шатерников широко улыбнулся. – То-то в вас и дорого.
– Что ж, я бы пошел, – серьезно сказал Ракитин.
– Не отпустят вас, – вздохнул Шатерников. – А жаль! Эх, и повоевали бы мы с вами – на всю железку!.. – Вслед за тем он вскочил и замахал руками, чтобы привлечь внимание проезжавшей мимо машины…
И вот они снова трясутся в кузове грузовика, и свистит ветер в ушах, и где-то краем неба проходят немецкие бомбардировщики, и тревожно шутят попутчики, и Шатерников спокойно обозревает в бинокль небо. Все это было совсем так же, как и недавно, несколько дней назад, а Ракитину кажется, будто целая жизнь легла между их отъездом и возвращением.
Часа через три, промахнув пост регулировщика, машина въехала в Малую Вишеру. Они слезли неподалеку от белого двухэтажного здания, где помещалось политуправление.
– Ну, пойдем докладывать по начальству? – улыбнулся Шатерников.
– Мне надо сперва вернуть мешок кладовщику.
– Я провожу вас, – сказал Шатерников.
Они пошли рядом.
1957
Путь на передний край
1
Это случилось перед самым наступлением. Словно рок преследовал меня. Девять месяцев таскался я по ужасному бездорожью Волховского фронта, зяб до костей в железной коробке передвижной радиоустановки, ночевал в сырых или промороженных блиндажах, ползал на брюхе по болотам с картонным рупорком в руке, болел цингой, а в канун прорыва ленинградской блокады был отозван с фронта. В поезде услышал я о взятии Мги и Синявина. Сколько раз предсказывал я немцам разгром, ждущий их под Ленинградом, а когда этот разгром действительно произошел, меня на Волховском фронте не оказалось. Пусть я был только радиосолдатом, но, как и каждый солдат, я мечтал о наступлении.
На Воронежском фронте, куда меня перевели, было затишье, но ни для кого не являлось секретом, что фронт готовится к наступлению. Контузило меня в ночь, когда, предваряя настоящее наступление, двинулся в атаку радиоотряд нашего фронта. В эту ночь все передвижные радиостанции, все переносные радиоустановки, все рупоры фронта сообщали немецким войскам об уничтожении армии Паулюса.
Немцы то отвечали нам стрельбой из пулеметов и минометов, то переставали стрелять и как будто прислушивались. Я вел передачу с ничьей земли через картонный рупорок, каким обычно пользуются затейники в летних парках. Дело шло к концу, когда меня, словно подземным толчком, выбросило из небольшой плоской воронки, хлестнуло, землей и снегом и, как молотком, стукнуло по каске. Очнувшись, я не обнаружил на себе никаких повреждений, боли также не испытывал, и голова в косо повернувшейся каске была совсем ясной. Правда, эта ясная голова отвешивала странные короткие поклоны немного вбок, словно хотела то ли поцеловать, то ли укусить мое левое плечо. Но наутро – я переночевал у разведчиков – голова перестала дергаться, и врач из медсанбата одобрил ее поведение, сказав: «Молодцом!» Впрочем, он не ограничился этим и надавал мне множество советов, которые я пропустил мимо ушей. Сказать по правде, я поначалу здорово испугался: я всегда боялся контузии больше, чем ранения, и сейчас, считая, что все обошлось, не хотел думать о возможных последствиях. В политотделе я ничего не сказал о своем приключении и стал работать дальше.
Долгое время мне казалось, что все в порядке. Правда, порой меня охватывал невыносимый зуд во всем теле и, сколько я ни бегал в поезд-баню, сколько ни прокаливал белье и обмундирование в санпропускнике, зуд не утихал. Однако я упорно не признавался себе, что зуд этот нервный и связан с контузией. Не примирился я и с тем, что стал хуже видеть и ориентироваться в темноте. Но однажды, возвращаясь поздним вечером из столовой, я не мог попасть в избу, где помещался наш отдел. Я знал точно, что изба находится рядом: вот плетень вокруг огорода, вон чернеет деревянный домик уборной, а в темном и каком-то красноватом небе маячит на шесте скворечня. Но только я делал шаг вперед, как уборная и скворечня скачком менялись местами, плетень отваливался куда-то в сторону и вниз, и я не мог нащупать его вытянутой вперед рукой. Но и поймав наконец плетень, я не много выиграл. Я брел, как слепой, то и дело хватаясь за его ребристую поверхность, брел очень долго и оказался наконец в поле, обдуваемом жестким воронежским ветром. Где-то далеко позади остались узкие прорези света в затемненных окнах нашей избы, скворечня исчезла в темноте неба, зато прямо перед собой я увидел вдруг с тыла уборную. Я двинулся в обратный путь, но потерял плетень и почему-то оказался среди сохлых стеблей и листьев прошлогодней кукурузы. Гоголевский дед не испытывал бо́льших мук на заколдованном месте, чем я на задах нашего дома. Около часа длились мои странствия, пока я не ввалился в пустой хлев при доме. Оттуда я добрался до избы уже без труда.
– Где вы пропадали? – подозрительно спросил меня начальник отдела майор Казанцев. – Столовая давно закрыта.
Я пожал плечами.
– Алла вывихнула руку, – продолжал Казанцев, а надо срочно перепечатать последние материалы допросов. Мы обращались к соседям, но все машинистки загружены…
– Давайте я сделаю.
Там много – страниц двадцать через один интервал..
– Срок?
– К утру материалы должны быть на столе у главного.
– Успею.
– Мне, право, неловко, – завел Казанцев. Все будут спать, один вы… – У него была несчастная штатская привычка, взвалив на человека какое-либо докучное поручение, тут же каяться.
Печатал я на машинке плохо, и все же вдвое лучше любого из своих товарищей, ибо пользовался обоими указательными пальцами, они же – только одним. Казанцев дал мне для бодрости толстую плитку трофейного шоколада, приказал будить его при каждой надобности и улегся спать в той же комнате, где под клеенчатым чехлом стоял Аллин четырехъярусный ундервуд. Машинка, помимо обычного верхнего регистра, имела еще два регистра для заглавных и строчных букв латинского алфавита. Нам это было необходимо, потому что мы имели дело и с русским, и с немецким текстом, но работать на этой машинке было крайне сложно: регистры постоянно путались.
Я успел только сдернуть чехол с машинки, как Казанцев, высунув из-под одеяла свой широкий щекастый профиль, проговорил:
– Шесть экземпляров, – и зарылся в подушку.
«Что ж, шесть так шесть», – с ожесточением подумал я.
Этой пустячной, хоть и утомительной работой мне хотелось проверить, насколько я владею собой. Я не имел права ни путать, ни сбиваться. Садясь за машинку, я был собран, как командир перед боем.
Текст был мне привычен – стандартные вопросы и примерно такие же стандартные ответы. Большинство наших работников, ведущих допрос, строго придерживалось инструкции. Считаете ли вы эту войну справедливой? Как вы относитесь к Гитлеру? На чьей стороне будет победа? И далее в таком же роде.
Все шло благополучно, пока мне не попался допрос солдата Мейера из строительного батальона, подписанный старшим инструктором капитаном Напалковым. Мне доводилось встречаться с Мейером, грустным большеносым венгерским евреем, когда я вместе с Напалковым ходил допрашивать пленных. Убедившись с первых же слов, что солдат Мейер ни в какой мере не определяет моральный облик немецкой армии, я не стал допрашивать его. Но, видимо, службист Напалков не мог примириться с тем, что оказался один не допрошенный нами пленный. Я печатал допрос, а перед глазами маячила тощая фигура в полувоенной одежонке: узенький мальчишеский пиджачок, штаны из седого солдатского сукна, обмотки, башмаки с кривыми носами.
– Зачем вы напали на нашу страну? – спрашивал Напалков.
– Я не нападал, господин офицер. Я был в строительной команде.
– Значит, вы считаете, что война против Советского Союза – несправедливая война?
– О, конечно!
– Считаете ли вы, что виновник войны – Гитлер?
– О да!
– Так почему же вы не уничтожили вашего Гитлера, если знали, что он погнал вас на несправедливую войну?
– Как же мог я, бедный еврей из Секешфехервара уничтожить такую важную персону?
Дальше Напалков предлагал пленному написать обращение к своим товарищам с предложением сложить оружие.
– Простите меня, господин офицер, но у моих товарищей нет никакого оружия, кроме заступов.
– Вы солдат германской армии, – убеждал Напалков, – ну и пишите своим немецким товарищам.
– Немецкие солдаты не считают нас товарищами…
– Я вас не неволю, – закончил допрос Напалков. – Но если вы решите написать обращение, то не забудьте проставить номер части, ваше воинское звание, указать награды и ордена.
С каждой строкой этого странного допроса мною все сильнее овладевал смех. Боясь разбудить Казанцева, я душил его в себе. Но не в силах совладать с собой и вскочил и через комнату, где, положив поверх одеяла забинтованную руку, спала толстощекая Алла, выбежал в сени и оттуда во двор. Я упал на шершавый, ноздреватый сугроб и стал хохотать до слез, до изнеможения. А потом мне вдруг стало невыносимо грустно. Не военнопленный Мейер породил эту грусть – ему неправдоподобно, сказочно повезло, – но в нежданно охватившей меня печали нашлось место и для него. Мне мучительно жалко было его сгорбленной фигуры и грязных тонких рук; жалко было капитана Напалкова с его непоколебимой серьезностью и наивностью, с его старательным и плохим немецким языком; и майора Казанцева, которому врожденная мягкость никак не дает стать заправским кадровиком; и Аллу с ее вывихнутой рукой и полными губами, которым все время нужно целоваться; и особенно себя, лежащего на шершавом сугробе, под темным красноватым небом; и скворечню, качающуюся на ветру; было мне жалко и плетень и сарай. О чем бы я ни подумал – о близком или далеком, живом или неодушевленном, – все рождало во мне боль и жалость.
Я вернулся в избу, к машинке, но меня и тут точила мысль, как мог я раньше так грубо жить, не замечая, насколько хрупок окружающий меня мир. Эта мысль мешала сосредоточиться, строки расплывались у меня перед глазами, я то и дело ошибался и должен был во всех шести экземплярах стирать ластиком неверно выбитую букву.
Я постарался сосредоточиться. Движения мои стали замедленными, как под водой. Я не доверял себе и нарочно взял всего себя на тормоза. Я называл каждое простое движение, которое должен был произвести, с тем чтобы оно стало сознательным проявлением воли и расчета, чтобы исключить вмешательство проснувшихся во мне темных сил: «Я беру бумагу… подкладываю копирку… еще листок бумаги… еще копирку… вставляю в машинку…»
Спать мне не хотелось, и я вспомнил вдруг, что и предыдущие ночи я тоже, в сущности, не спал. Лежа с закрытыми глазами и мерно дыша, я призывал сон, но вместо сна приходили странные видения, такие же реальные и зыбкие, как настоящие сны, но не настолько владевшие сознанием, чтобы я не ощущал творящегося вокруг меня: храп Напалкова, перешептывания Аллы в сенях с очередным кавалером и жирный чавк прощальных поцелуев, струи холода из двери, когда Алла входила в избу…
Работа подвигалась медленно. Уже над черной Аллиной шалью, заменявшей штору, обозначилась сизоватая полоска рассвета, а передо мной еще высилась груда допросов. Но я не торопился и продолжал столь же методично продвигаться вперед. Болели виски и затылок, но жалость к окружающему, недавно переполнявшая меня, бесследно прошла. Мне хотелось одного: поскорее кончить и улечься спать. Но вот и последняя страница. Я осторожно ставлю точку и немедленно вынимаю листы. Неужели все? Нет, не все. Я ошибся и последний листок копирки вставил не той стороной: шестой экземпляр отпечатался на обороте пятого. Я усмехнулся и заплакал. Я понимал, что это глупо – плакать из-за одной страницы, когда их перепечатано двадцать шесть. Но не мог остановиться. К тому же я боялся, что проснется Казанцев. Я ополоснул лицо из кадки, перепечатал испорченный лист, аккуратно прибрал работу и лег спать.
Я спал лучше, чем все последние ночи, но сквозь сон чувствовал все же, как болит голова. А потом началось обычное полузабытье: я спал и вместе с тем слышал, как приехал Напалков, как Казанцев говорил обо мне какие-то добрые слова и как они потом что-то искали, и эти их поиски слились с ощущением, что кто-то трясет меня за плечо и голосом Казанцева спрашивает:
– Куда вы дели оригиналы?
Я вскочил.
– Где оригиналы допросов? – повторил Казанцев.
– Там же, где и вся работа, – ответил я.
– По-вашему, это так, а по-нашему, нет! – запальчиво сказал Казанцев.
Я прошел к столу и выдвинул ящик. Он был пуст, если не считать стопки чистой бумаги и нескольких листов копирки. Я заглянул в стенной шкаф, обыскал другие наши хранилища. Тщетно.
– Вы, надеюсь, помните, товарищ техник-интендант второго ранга, что это секретные материалы? – произнес Казанцев.
– Ничего не понимаю, они не могли пропасть, я их спрятал… – пробормотал я.
– Алеша, – мягко сказал Напалков. – Пойди умойся, позавтракай, а бумаги найдутся.
Сидя в столовой и корябая ложкой железную миску с перловой кашей, я мучительно пытался вспомнить, куда сунул бумаги. В том, что они целы и спрятаны в надежном месте, я не сомневался. Но ведь бумаг нет…
– Бумаги нашлись, – были первые слова Напалкова, когда я переступил порог нашего отдела. – Вы их и в самом деле хорошо запрятали – под подушку Казанцева…
У нашего начальника была привычка класть на ночь папку с текущими и наиболее важными делами себе под подушку. Но как ухитрился я так распорядиться бумагами и почему он не проснулся при этом?
– Алеша! – послышался из другой комнаты голос Казанцева. – Зайдите на минутку!
При этом обращении я совсем пал духом. Казанцев, человек безнадежно штатский, больше всего на свете хотел казаться настоящей военной косточкой Он изо всех сил цеплялся за все внешние атрибуты фронтового бытия, требовал, чтобы мы вставали при его появлении и садились не раньше, чем он гаркнет, покраснев от удовольствия: «Садить-с!» Единственный из всего политотдела, не ленился он произносить мое неудобоваримое, уже отмененное в армии звание – техник-интендант второго ранга: из-за переезда с фронта на фронт я не успел пройти переаттестацию. Лишь когда мы изредка в послеслужебные часы пили разведенный спирт, он позволял себе называть меня «товарищ Былинин» или – верх шутливости – «Былинкин». Но «Алеша» – это уж было слишком. И я сразу исполнился предощущением неотвратимой беды.
– Алеша, – сказал Казанцев, когда мы вместе с Напалковым вошли к нему в кабинет. – Зачем вы скрыли от меня свою контузию?
Я взглянул на капитана Напалкова, он слегка кивнул. Я должен был этого ждать: если не Напалков, так Круглов, не Круглов, так Бреннер – кто-нибудь из них рано или поздно должен был оказаться на том участке, где меня контузило, и все узнать. Казанцев выжидательно и грустно глядел на меня. Но я молчал, как-то сразу обессилев.
– Вам надо отдохнуть, показаться хорошим врачам, полечиться, – начал Казанцев.
– Вот потому я и скрыл, – произнес я устало. – Я не хотел, чтобы меня перед самым наступлением выгнали с фронта.
– Перед наступлением? – повторил Казанцев. – Вы что, пользуетесь информацией генштаба?
– Ладно уж, Михаил Петрович, каждый писаришка знает, что наступление начнется не сегодня-завтра.
Я назвал его по имени-отчеству не из желания задеть, а потому, что с удивительной отчетливостью вдруг почувствовал: моей военной службе пришел конец. И это штатское обращение невольно легло мне на язык.
Напалков проводил меня на станцию узкоколейной дороги. Я должен был «кукушкой» добраться до Усмани, оттуда рабочим поездом до Графской, а уж в Графской пересесть на пассажирский, идущий в Анну, где находился фронтовой госпиталь. Я очень мало, всего с месяц, прослужил в «хозяйстве Казанцева», как в шутку называли наш отдел, не успел ни с кем близко сойтись, и все же мне было жаль расставаться и с самим Казанцевым, и с толстой влюбчивой Аллой, и с Кругловым, выезжавшим на передний край не столько для инструктажа, сколько для того, чтобы «пострелять фрицев», и с молчаливым полиглотом Бреннером, и особенно с Напалковым, казавшимся мне прежде сухим службистом. Я смотрел в его серые серьезные глаза и всем сердцем чувствовал, что теряю доброго и верного человека, который мог бы стать моим другом.
– Вот… возьмите… – говорил Напалков, суя мне в руку какой-то сверток. – Тут я кое-что взял в столовой вам на дорожку… А это от Казанцева. – Он протянул мне толстую плитку трофейного шоколада. – Как поправитесь, обязательно назад к нам. Мы ваше место никому не отдадим.
– Спасибо…
Мы обменялись рукопожатием, хотели поцеловаться, но как-то не получилось, и я вскочил на подножку.
Напалков долго махал мне вслед.
Теперь, когда то, чего я так опасался, случилось, мною овладело странное нервное спокойствие: я больше не дергался, до головокружения задерживая воздух, утих даже зуд, ни на миг не дававший мне покоя. Принимая этот нервный спад за выздоровление, я подумал, что врач, пожалуй, сочтет меня симулянтом и отошлет назад. Мне представилось мое возвращение в «хозяйство Казанцева» в самую горячую, запарочную пору наступления, и меня охватило такое острое чувство счастья, что все мое непрочное спокойствие разом рухнуло. Я поднялся, вышел в тамбур и долго стоял там, прижавшись лбом к холодному, обледенелому стеклу.
В Графскую я добрался лишь к утру и засел там надолго. Немцы сделали налет, разбомбили пустой товарняк. Какие-то женщины в ватниках, жакетках, платках и ушанках работали на расчистке путей. Еще трудился там трактор, зацепляя тросом вагонные колеса и оттаскивая их в кювет. Шел мокрый снег, дул ветер, захлестывая подолы женщин вокруг ног, затрудняя их и без того усталую, медленную поступь, и мне подумалось, что расчистка путей не кончится никогда. Я пришел в помещение вокзала, до отказа набитое разными проезжим людом, военным и гражданским, выбрал местечко у батареи и прилег на бетонный пол, подложив под голову вещевой мешок. Уснуть я не мог. Все происходившее передо мной почти не касалось сознания, захлестнутого до краев живым, бурным потоком пережитого.
…Когда год назад я бросил институт на последнем курсе и явился в военкомат, мною владело радостное и твердое чувство верно сделанного выбора. Я участвовал в боях под Вязьмой, там же впервые пришлось мне допрашивать пленных. Наверное, это и послужило причиной, почему меня вызвали в Москву. Здесь мне устроили экзамен по языку и навесили кубари.
– Цель каждого бойца на переднем крае – убитый враг, ваша цель – враг, добровольно сдавшийся в плен, – говорили мне в политуправлении. – Такова ближняя цель. Дальняя же и конечная цель подготовить немецких солдат, являющихся частью немецкого народа, к принятию тех справедливых общественных и социальных форм, которые войдут в жизнь после нашей победы, подготовить их к новому бытию, очищенному от заразы гитлеризма…
Разговор происходил в декабре 1941 года. Немецкие войска были разгромлены под Москвой, но они по-прежнему сжимали Ленинград кольцом блокады, в их руках находились Прибалтика, Белоруссия, почти вся Украина. Каждому была ясно, что борьба предстоит долгая и кровопролитная, что угроза, нависшая над страной, далеко не устранена и мощь германской армии не сломлена. И в эту трудную пору партийный мозг армии думал над тем, как будут строить свою жизнь освобожденные от фашизма немцы. Меня поразило величие этой мысли, этот великолепный прогляд в будущее, и, хотя я готовился не к такой войне, я с гордостью взялся за новое дело…
…Удивительно отчетливо помнилось мне, как я, новичок политотдела, шел ночью по берегу Волхова тропинкой, петляющей среди обглоданных снарядами кустов и обезглавленных деревьев, из разведроты в Селищево. Я попал в разведроту в поисках свежего трофейного материала: писем, солдатских книжек, железных крестов, фотографий. Ребята не хотели меня отпускать, немецкая разведка частенько совершала вылазки на этот берег реки, но я убедил их, что мне необходимо быть в Селищеве. Мне хотелось проверить себя ночью, одиночеством, опасностью. Я шел, сжимая в руке старый, паршивенький наган, и кровь шумела во мне от радости – таким здоровым, сильным, готовым ко всему я себя чувствовал…
А затем я с захватывающим чувством счастья вспоминал, как вел радиопередачи из обитого жестью «ЗИС-101», когда его железная шкура гудела под градом осколков немецких мин и снарядов; как летал на ночные бомбежки, чтобы скинуть немцам газеты; как выкликал из ничейной земли через рупор лозунги и всякие обидные для Гитлера слова; как просиживал ночами над листовками или газетными статьями, а под утро мчался на разболтанной полуторке сквозь узкую, простреливаемую горловину в расположение нашей армии, глубоко вклинившейся в оборону противника…
Случись со мной то, что случилось, хоть несколько позже, я, быть может, не стал бы роптать. Но ведь я даже не видел результатов своей работы. За те девять месяцев, что я пробыл на Волховском фронте, немцы стояли прочно, наши попытки прорваться на Любань – Чудово успеха не имели, и мне не довелось увидеть ни одного немца, добровольно перешедшего на нашу сторону. Правда, у многих пленных, взятых в районе Киришей, оказались наши листовки, припрятанные в бумажник про черный день. Это кое-что значило, и можно было поверить начальнику отдела, который говорил, что вся наша письменность сработает враз, при первом же успешном наступлении. Но этого наступления я не дождался.
…И вот теперь, отстав от товарищей по курсу, я должен вернуться в институт. Чего я добился? У меня нет на счету ни убитого, ни сагитированного немца, я не испытал счастья победы…
Удар станционного колокола вывел меня из забытья. Я вздрогнул и открыл глаза. Был уже поздний вечер, день давно миновал. Все высыпали на перрон: прибыл поезд на Анну. Я с трудом поднялся с холодного пола и пошел к голове сборного поезда мимо спальных вагонов прямого сообщения, теплушек, дачных вагончиков прошлого века с избяными окошками.
– Товарищ лейтенант! – окликнула меня проводница. – Заходите, тут вагон для командиров.
Но я казался себе сейчас самозванцем на войне, и у меня не хватило духу войти в вагон дли настоящих командиров. Я сел в другой вагон, у которого на крыше торчала труба, схожая с самоварной. Из трубы летели красные искры. Это был обычный дачный вагон, только посредине были сняты скамейки и стояла железная печурка. Вокруг нее на дровах сидели бойцы; на их темных, покрытых зимним загаром лицах играл отсвет огня. Березовые мерзлые дрова оттаивали и приятно попахивали ранним весенним лесом. От дыма печки и самокруток, отблесков пламени воздух был багряно-сумрачным и чуть дрожал; все в вагоне как-то мягко и зыбко струилось: фигуры людей, вещи, скамейки.
Бойцы негромко беседовали, щедро дымя едким, крепким самосадом. Мне тоже захотелось курить. Я вытащил пачку «Кафли», неловко скрутил папиросу и закурил. В багряно-сумрачном, призрачном освещении вагона, в укромности сухого тепла меня оставили все мысли о прошлом и будущем, сейчас я жил короткими желаниями минуты. Докурив папиросу, я ощутил жажду, но не хватало духу выйти в ветреную черноту ночи. Я стал думать сперва о бачке в душном и грязном зале ожидания, потом о станционной колонке, обвитой бугристыми зелеными обледенелостями, похожими на замерзшие водоросли, затем о черной, пахнущей жестью и гарью воде из паровоза. Эти мысли, напряженные и бессильные, были прерваны звонким женским голосом:
– Ох, все ж ки успела!..
Голос был удивительный – необычайной прозрачности, свежести, и молодости, хоть угадывалось, что принадлежит он не девушке. Налитость, установленность, ширь и полнота звука обнаруживали его зрелость.
– Успеешь, коль поможем!.. – обрадованно прыснул один из бойцов.
Тон был дан. Посыпались соленые шуточки. Обладательница красивого голоса неплохо защищалась. Она делала вид, что принимает двусмысленности буквально, и шутки бойцов оглуплялись. Затем, желая положить конец этому поединку, она сказала:
– Ну, ребятки, у кого хлебушек есть? У меня молоко.
– Дойная! – взвизгнул один из бойцов.
Я подумал, что следует вмешаться, как-никак я был командиром и мог призвать бойцов к порядку, но то же чувство, что помешало мне сесть в офицерский вагон, заставило меня промолчать.
Женщина и не нуждалась в защите. Переждав, когда иссякнет поток солдатского остроумия, она сказала тепло и соболезнующе:
– Как же вы соскучились, ребятки! Пади и мой где-то душенькой мается! Бедные вы мои, бедные!..
Стало тихо в вагоне. Молоденький боец, долго и тоненько заливавшийся при каждой выходке товарищей, смял смешок кашлем и тоже затих. Затем усатый сержант проговорил хрипловато:
– Нет у нас хлеба, сестренка, прохарчевались…
Я обернулся к женщине.
– У меня есть сухари. Правда, жесткие.