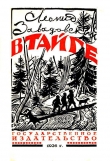Текст книги "Ранней весной (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
– Дайте ему… – слабым голосом произнесла беременная женщина, пытаясь дотянуться рукой до бутылки с чистой водой.
– Еще чего! – впервые огрызнулась на нее черненькая кондукторша.
– Дайте… Худо ему, – произнесла беременная, ей самой было очень плохо, и она остро чувствовала чужое страдание.
– На, ирод! – черненькая протянула старику бутылку.
Тот схватил ее цепкими пальцами и присосался к горлышку. Наверное, он осушил бы бутылку до дна, если бы черненькая не вырвала ее у него. Горлышко с влажным чавком выскочило из губ старика.
Прошло короткое время, и старик опять принялся за сало. Но теперь он работал как-то спокойнее и даже перестал стонать.
– Видать, отложил помирать, – заметила тетя Паша.
– Я еще тебя переживу, – пообещал старик.
Вечером того же дня, когда старик, по обыкновению, потчевался из своего мешка, мерно и сухо хрустя заушинами, с приемной дочерью одноглазого случилось что-то вроде припадка. Она вдруг тоненько и болезненно заскулила, забилась в угол вагона, и только глаза ее, прикованные к старику, сверкали страхом и ненавистью. Старик в самом деле был страшноват. Облитый зеленым светом месяца, проникавшим в неплотно притворенную дверь, он раскорячился на своих мешках и, держа в одном кулаке кусок сала, в другом – горбушку хлеба, жевал, не отымая еду ото рта. Он въедался, впивался, всасывался в сало и мякиш беззубыми деснами с остервенелой жадностью вурдалака.
Одноглазый парень долго не мог успокоить девочку. Он прижимал к себе ее голову, гладил тонкие, испуганно сцепленные пальцы и говорил, говорил. Наконец девочка затихла, свернувшись калачиком. Уснули и другие пассажиры.
Тишина. Только раскачивался, скрипел вагон, будто жалуясь, что устал мотать старое тело по бесконечным путям сквозь ночь и непогодь; устали колеса спотыкаться на стыках рельсов, устал трястись облезлый, рассохшийся остов. А паровоз не признавал его жалоб, он сердито гудел, прорезая тьму, и длинный состав покорно влекся за ним со всей своей человечьей начинкой. Проснулся я оттого, что кто-то толкал меня в плечо. Я открыл глаза и смутно разглядел силуэт одноглазого парня.
– Ссадим старика, пока люди спят, – прошептал он.
Я прислушался к стуку колес – поезд медленно, с натугой одолевал подъем.
– Может, все-таки дотерпим до станции?
– Не по-сталинградски это, – зло зашептал одноглазый, – когда еще будет станция! Не хотите, управлюсь без вас.
Я вспомнил сверкавшие ненавистью и ужасом глаза девочки и поднялся.
Все остальное происходило в молчании. Старик не пытался звать на помощь: он понимал, что ни одна рука не подымется на его защиту. А мы хотели сделать свою работу тихо, чтобы не тревожить наших спутников. Провозились мы с ним довольно долго. Старик был туг, костист и тяжеленек. Наконец нам удалось подтащить его к дверям вагона. Одноглазый парень чуть отвалил дверь, в образовавшуюся щель проникла тусклая, рассветная хмарь. Держа старика за локти, мы спустили его на медленно уплывавшую из-под колес землю. Он было присел, но тут же вскочил и побежал за вагоном, отставая с каждым шагом.
– Вот и умники! – послышался за нами спокойный, певучий голос тети Паши. – Давно бы так. Худая трава с поля вон!
Оказалось, никто в вагоне не спал. И по лицам наших спутников мы поняли, что они одобряют наш поступок.
Одноглазый парень подошел к мешкам старика, поднял их и встряхнул. Один мешок был полон, непочат, в другом что-то плюхнулось и округлилось на дне калабашкой хлеба. Одноглазый парень задумчиво поглядел на мешок, затем взгляд его побежал по лицам спутников. Кто-то отвернулся, кто-то шумно вздохнул. Единственное око парня задержалось на девочке. Она лежала, оборотив лицо в сторону, кулачок под худенькой щекой. Мне кажется, он на секунду заколебался, мешки со снедью словно затяжелели в его руке. Но тут же, разозлившись на свое короткое замешательство, он размахнулся и швырнул мешки в открытую дверцу. На миг они словно провисли в воздухе, рядом с вагоном, и враз исчезли.
– Вот и порядочек! – с облегчением произнесла тетя Паша. – Будто свежим ветерком продуло.
И впрямь – словно кончилось наваждение. Все разом заговорили, а черненькая кондукторша, лихо взвизгнув, завела на весь голос свой излюбленный «Ленинград-городок»…
А следующей ночью нас разбудил страшный, долгий, внезапно оборвавшийся крик. Зачиркали спички, выхватывая из темноты всклокоченные головы, встревоженные лица; кто-то пытался зажечь свечу, но она гасла, задуваемая тянувшим в щели вагона ветром. Затем раздался властный голос тети Паши:
– Мужчины, марш отсюда!..
Толкая друг друга, спотыкаясь о чемоданы и корзины, мы перебрались на другую половину вагона. Потолок озарился трепещущим светом, быстро сбежавшим вниз, – это наконец-то разгорелась свеча. Я увидел странно выломанное под тощим одеяльцем тело беременной женщины, острые углы колен и мертво откинувшуюся в подушку голову. Простыня, натянутая тетей Пашей и черненькой кондукторшей, скрыла от нас роженицу.
Всю ночь за этой простыней творилась какая-то мучительная работа. Но криков больше не было. Был слабый, сквозь зубы, стон, тяжкое, истомленное дыхание. Казалось, кто-то из последних сил взбирается на гору, и, едва достигнув вершины, срывается вниз, и снова карабкается в упрямой смертной муке. Порой из-за простыни появлялась то тетя Паша с сурово поджатыми губами, то зареванная черненькая кондукторша; они рылись в своих вещах, чего-то доставали и вновь скрывались за простыней.
– Папа Коль, а почему ей так плохо? – спросила девочка одноглазого парня.
– Так ведь человек на свет производится, не кочан капусты, – серьезно ответил одноглазый. – Надо, чтобы все в аккурате было, ножки, там, ручки, глазки, целая, понимаешь, механика.
– А женщинам всегда так больно? – задумчиво спросила девочка.
Одноглазый подумал, потом сказал:
– Это боль счастливая, женщины ее не боятся…
Час шел за часом, а желанное освобождение не наступало. Все, что творилось за простыней, оставалось скрытым от нас, но мы безошибочным чутьем угадывали, что дело плохо. Одноглазый парень наклонился ко мне:
– Опросить бы этих, которые на переднем крае, может какие меры нужны?
– Какие меры?
– При эшелоне есть медпункт, врач…
– А как вы туда доберетесь?
Парень прислушался к дружному перестуку колес и неуверенно проговорил:
– По крышам…
– А врач тоже по крышам пойдет?
Парень ничего не ответил и отстранился в тень.
Из-за простыни долетел тихий, спотыкающийся голос:
– Если я его ребенка не сохраню… жить не буду…
– Ученый человек, а чего городишь! – сердито отозвалась тетя Паша. – Я этих младенцев без числа приняла и твоего приму за милую душу. Ты только тужься, тужься посильней, он и выскочит.
– Рано у меня началось… – проговорила женщина.
– А и хорошо! Которые в дороге родятся – самые счастливые люди выходят. Меня вон мамка в телеге родила. А нешто я несчастливая?
– Вы добрая.
– Вот я и говорю. Коль добрая, значит счастливая.
И тут второй раз вспыхнул и, словно зажатый, смолк страдальческий, невыносимой боли крик. Из-за простыни выметнулась черненькая девчонка с каким-то размытым от слез лицом, схватила кувшин с водой и кинулась назад.
– Кричи, кричи, громче кричи!.. – уговаривала роженицу тетя Паша.
И в ответ выдохнулся тяжкий хрип:
– Не стану!..
Затем была мучительная тишина. Только колыхалась простыня, тревожимая суетившимися за ней женщинами; она то вздувалась, как парус, то бессильно опадала, и мы тщетно пытались угадать по этим признакам, что там творится. А потом раздался новый, не слышанный нами крик, простыня отдернулась, и мы увидели тетю Пашу, державшую на руках маленькое красное, живое тельце ребенка. Мы все бросились к ней.
– Если мне не изменяет память, это мальчик, – сказала артистка и вытерла слезу.
Упруго и ловко склонив свое полное тело, тетя Паша протянула младенца матери. Та приняла его, слабым движением дернула пуговицу сорочки, в пазуху вырвалась, словно белый голубь, белая, тугая, полная грудь с нежно-коричневым соском, и младенец припал беззубым ртом к источнику жизни.
Черненькая девчонка регулярно приносила нам сведения о самочувствии матери и новорожденного и при этом так гордилась, будто это она дала жизнь новому существу.
– Вы, видать, любите детей? – задумчиво спросил ее одноглазый парень.
– Да как их не любить? – искренне подивилась та.
И мне стало понятно, почему приемная дочка одноглазого, замкнутая и холодная с другими, поделилась с черненькой своей бедой. Видно, девочка бессознательно почувствовала до дна чистую искренность ее сердца. Одноглазый парень тоже сделал свои выводы. В оставшиеся дни нашего путешествия он о чем-то подолгу разговаривал с черненькой кондукторшей, часто употребляя новое в его лексиконе слово «исключительно».
– Места наши исключительные… – долетали до меня обрывки его речей. – Условия на МТС исключительные. Ну, нельзя же так исключительно любить город… В сельской жизни легче хорошую профессию приобрести.
Не знаю, что отвечала ему черненькая кондукторша, но в их простецких отношениях появилась полная значения церемонность. Вместо прежнего: «Эй, боец!», «Слышь, подруга!» – они стали величать друг друга по имени-отчеству: «Евдокия Петровна», «Николай Сергеевич» – и перешли на вы.
И пока Евдокия Петровна и Николай Сергеевич вели сокровенные беседы, девочка одноглазого сидела рядом с ними со своим обычным замкнуто-отрешенным выражением, а маленькая рука ее, будто забытая, лежала на колене черненькой кондукторши.
Расстались мы в Борисоглебске. Наш вагон отцепили, а эшелон с военнопленными ушел на юго-восток. По молчаливому уговору, мы не расходились, пока явившиеся с вокзала санитары не увели молодую мать на медпункт. За ними, крепко прижимая к себе конверт с новорожденным и светясь гордостью, проследовала черненькая кондукторша.
Я спрыгнул на площадку и как-то враз потерял своих спутников. Последним я видел одноглазого парня. Он покупал у лоточницы «пирог с хлебом» – одно из самых удивительных изобретений войны. Получив коричневый ком теста, завернутый в вощеную бумагу, он расплатился мятыми рублями – деньги вновь вошли в силу – и побежал к своему приемышу. Девочка ждала его на скамейке возле бачка с питьевой водой. Она встала ему навстречу, и в движении, каким она подалась к нему, была такая радостная, восторженная доверчивость, с какой, верно, дитя тянется к матери.
1957
В апрельском лесу
В середине апреля вспухли и замутились речушки, охватывающие с трех сторон наш подмосковный поселок, все канавы стали ручьями. Скоро пойдут щуки на икромет, начнет нереститься окунь, затем плотва, пора подумать о рыболовной снасти. Я с детства люблю самодельные удилища. Взяв поострее нож, я направился в ореховую рощицу, что за густым смешанным лесом, на пути между нашим поселком и селом Вороновом.
Идти было трудно, резиновые сапоги то разъезжались на влажной глинистой почве, то вязли в ней, как в трясине. Лишь достигнув леса, я обрел более или менее прочный упор под ногами.
Впереди меня шли рядом, не касаясь друг друга, молодой солдатик с мальчишески вздернутыми худенькими плечами и небольшого росточка девушка в куцем пальтеце и беретке. Солдат держал в руке березовый хлыстик и походя стегал им по еловым и сосновым ветвям. Девушка шла опустив голову и что-то старательно высматривая на раскисшей дороге.
Не желая им мешать, я сдержал шаг. В лесу было голо, мокро, бесприютно и все же по-весеннему хорошо. Обнажившаяся по краям дороги сырая, темная дерновина кое-где зеленела совсем живым листом подорожника или стройной травинкой, сохранившими под снегом летний, свежий убор. Синицы пробовали бедные свои голоса; они стремительно перелетали с дерева на дерево, и нависшие над дорогой веточки берез и осин дружно качались, кропя слежавшийся у их подножий снег талыми каплями.
Как ни медленно я шел, идущая впереди пара шла еще медленнее, и вскоре я почти поравнялся с ними. Они остановились, видимо желая пропустить меня вперед. Тогда я быстро прошел мимо них. Достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять, что оба они чем-то огорчены. Светлые брови солдата недоуменно и горько выгнулись на лоб, под самую ушанку, казалось, он никак не может решить сложную, врасплох заставшую его задачу; девушка, отворачивая от него лицо, прятала рот в меховой воротничок, что-то упрямое и беспомощное было в этом прячущемся движении.
Мне казалось, я хорошо знаю лес, который вдоль и поперек исходил на лыжах. В орешник можно было попасть не только с опушки, но и тропкой, перебравшись через неглубокий овражек. Я свернул с дороги и, увязая по колена, кое-как добрался до овражка. Противоположный склон, покрытый грязноватым снегом, был испещрен круглыми лунками, будто его истоптали кони, а на дне пенился и бурлил ручей, ворочая плитки льдистого сала.
Пришлось мне снова выбираться на дорогу. Раздвинув скользкие кусты, обдавшие меня потоком холодных брызг, я шагнул на закраину дороги и сразу увидел солдата и его спутницу. Девушка стояла, прижавшись спиной к столу березы, потупив голову, а солдат, коротко рубя воздух ребром ладони, в чем-то убеждал ее. Она ничего не отвечала, только изредка отрицательно встряхивала головой. Он наступал на нее, отстаивая свое, и девушка все теснее вжималась в ствол, словно хотела слиться с ним, исчезнуть в его сорочьей пестроте.
Не знаю, чего хотел от нее солдат, знаю только, что не о первом, да и не о втором поцелуе просил он ее. Вся лирика, вся нежность, строго ограниченная сроком увольнительной, творится у нас на мосту через Пахорку. Знакомство, как правило, завязывается в сельском клубе, где через день показывают кинокартины, а по субботам бывают танцы. Если найден общий язык, то средоточием вселенной становится небольшой деревянный мосток через темную, мутную Пахорку, которой отходы текстильной фабрики не дают замерзнуть даже в самые лютые морозы. Сколько раз, возвращаясь вечером автобусом из Москвы, я видел в лучах фар молчаливо приникшие к перилам мостка фигуры. Первое время я поспешно отворачивался, боясь спугнуть людей, но потом понял, что это лишнее. Они не обращали ни малейшего внимания на проезжих и прохожих. Жестко регламентированное солдатское счастье не могло считаться с пустыми условностями. Крепче обнять, жарче поцеловать подругу, позаветнее шепнуть словцо в скудные часы свидания – одно лишь это заботило их. Я не видел там несчастных влюбленных, разобщенных недоговоренностью или несладицей в чувстве. Мост был для счастливых, для тех, кто познал взаимность. И теперь я твердо знал, что видел на мосту и этого худенького солдата с острыми мальчишескими плечами, и его крошечную подругу.
Я знал, что у многих солдат, стоявших лагерем близ нашего поселка, скоро кончается срок службы и воинская часть отбывает в Москву. Несомненно, напряженное, трудное объяснение, свидетелем которого я случайно оказался, связано с предстоящей им разлукой. Конечно, можно лишь гадать, о чем они говорили. Быть может, он просил ее последовать за ним или приехать к нему, когда он обоснуется в родных местах, быть может предлагал сейчас связать судьбы, а может, напротив, просил ждать и верить, что он сам вернется к ней. Не знаю. Разговор шел о важном и непростом… Девушка то ли не верила, то ли боялась поверить солдату, то ли не решалась изменить свою жизнь ради человека и близкого, и дорогого, но все же мало испытанного временем.
– Да пойми ж ты!.. – только и услышал я его тоскливый, из сердца, из средоточия боли идущий голос.
Я хотел неприметно проскользнуть мимо, но мне это не удалось. Негодующий взгляд солдата резанул по моему лицу и вновь обратился к девушке.
Я быстро шагал вперед к опушке, светлеющей закатным солнцем. У подножия тощих, голых кустов боярышника в льдистой лунке что-то синело. «Неужто подснежник?» – подумал я. Но, приблизившись, увидел, что это всего-навсего конфетная обертка, примерзшая к земле. А вот на соседней кочке, уже без обмана, желтым язычком пламени распустился первый цветок мать-и-мачехи.
Легкие чавкающие шаги раздались за моей спиной, и мимо меня, отворотив заплаканное лицо, быстро прошла девушка. Вслед за тем послышались другие, более твердые и тоже быстрые шаги – прерывисто дыша и шмыгая носом, солдат нагнал ее, взял под руку и отвел с дороги к высокому, голому чуть не до самой маковки стволу сосны.
«Вот он я – весь перед тобой, нараспашку, нет у меня ничего потайного, ничего скрытого от тебя!» – казалось, говорили его руки, которые он то враз прижимал к груди, то широко и бессильно раскидывал.
Она робко, ищуще, жадно вскидывала тяжелые от слез глаза, глядела в него, как в ручей, прозрачный до самого дна, но слабой своей душой не решалась поверить этой зримой ей ясности и вновь, отворотившись, плакала. А затем, так и не произнеся ни слова, как-то скользнула в сторону и повлеклась прочь, вдоль дороги. Казалось, ноги сами уносили ее от судьбы, которой она желала и страшилась, к привычному ее приюту, вдалеке от больших, открытых путей жизни.
Солдат чуть помедлил и снова нагнал ее. На миг я оказался в поле его зрения, но теперь он не выразил досады, ему уж не стало дела до меня. Все его существо было обращено к маленькой фигурке, стремившейся покинуть его.
И вновь он говорил и брал ее за руку в вязаной синей варежке с красной полоской на запястье; и вновь слабым, уклончивым движением она ускользнула от его слов, глаз и рук.
Он посмотрел ей вслед, оскорбленно вскинув голову. Верно, мужское, самолюбивое проснулось в нем. Но это длилось одно мгновение. Он знал свою правду, солдат, и эта правда была сильнее обиды, сильнее всего, чем маленькая гордость ожесточает человеческое сердце, и эта правда вновь толкнула его вослед девушке.
Он нагнал ее на опушке… Дальше до самого Воронова, черневшего вдали, в низине, коньками тесовых крыш, простиралось пустое поле в осевшем, плотном снегу и ржавых проталинах. Там не было ни деревца, ни кустика, никакая жердина не торчала из земли. Чистая, неприютная голизна. И мне подумалось: если солдат не добьется желанного ответа сейчас, пока они еще не вышли из лесу, песенка его спета. Возможно, это чувство возникло оттого, что в надежной близости деревьев находили они пристанище для коротких и напряженных своих объяснений. В поле негде было сделать остановку, не за что зацепиться, – прямая глинистая дорога, бегущая по равнине, была безнадежна, как приговор.
Кажется, я не ошибся. Пройдя несколько шагов вперед, я увидел, как девушка в резком, последнем порыве прижалась к солдату, приникла к нему всем телом, оттолкнула и почти бегом устремилась в щемящую пустоту поля.
Солдат недвижно глядел ей вслед. Знать, и он понял, что это конец. И тут, не стыдясь, что его видят, он заплакал, прижавшись лбом к мокрому стволу осины. Ушанка сползла на затылок, обнажив светлую щетинку стриженных под машинку, начинающих отрастать волос. Он узнал всю тщету слов, понял, что не победить ему робкого сердца, и смирился с горькой своей участью.
Взволнованный всем виденным, я свернул на тропу, петлявшую краем леса до самого орешника. Над Вороновой садилось солнце, круглое, малиново-розовое, не дававшее отблеска ни в мутноватую облачность неба, ни на темнеющую под ним землю. Вприпрыжку, с кочки на кочку, через омутистой глубины лужи и пенистые ручьи я добрался наконец до орешника и стал нарезать удочки. Орешник мстил за себя, окатывая меня с головы до ног скопленной в ветвях щемяще-студеной влагой. Срезав около десятка гибких лесовин и очистив от веточек и сучков, я закинул их на плечо и пустился в обратный путь. Но теперь я решил выбраться на большак.
Выжимая чайного цвета влагу из податливо мнущейся дерновины, я пересек ореховый подлесок, затем поле, по которому бродили рано прилетевшие в нынешнюю весну грачи, и ступил на дорогу.
Солнце скрылось за горизонтом, и западная сторона простора и неба сумрачно потемнела. Зато противоположная высветилась почти дневной, прозрачной, с легким зеленоватым отливом голубизной – над лесом поднялась золотая, неправдоподобно круглая луна и побежала наперерез мне, цепляясь за верхушки сосен и рослых плакучих берез.
Темной стенкой надвинулась опушка, но прежде чем я ступил в ее сумрак, расцеженный льющимся от луны легким светом, я увидел две темные фигуры и с удивлением узнал в них солдата и его девушку. Я ошибся – поле не было вовсе пустым: лес, словно форпост, выставил впереди себя небольшую, пушистую сосенку. Дитя, недоросток, она стояла всего в нескольких шагах от опушки, с краю большака, и я просто не приметил ее.
И здесь, у этой сосенки, как у последнего рубежа, солдат вновь нагнал свою спутницу, теперь уже навсегда. Они обменялись местами: сейчас он стоял, прислонившись к деревцу, – тонкий стволик погнулся под упором его тела, ветки с темными иголочками охватывали его со всех сторон, торчали из-за плеч, топорщились над ушанкой. Девушка стояла на краю дороги и, заботливыми, хозяйскими жестами поправляя на солдате то пряжку ремня, то крючки шинели, говорила какие-то простые и серьезные житейские вещи. Это чувствовалось по ее озабоченному, но не тревожному лицу, по вразумляющим движениям указательного пальца, остро натянувшего варежку. Она вступила в свои права, которые этот упорный, не признающий отступления парень заставил ее принять.
Когда я проходил, мимо, что-то мелькнуло в глазах солдата, – быть может, на миг сместившиеся в мою сторону плоскости зрачков отразили свет луны. И этот короткий теплый лучик, пробежавший от него ко мне, словно сделал меня соучастником его счастливого торжества.
С радостным чувством вступил я в лес и знакомой дорогой зашагал к дому. Луна, не отставая, бежала за деревьями, она словно отсчитывала стволы берез и сосен и вдруг за поворотом дороги вывесилась прямо передо мной и замерла в недвижности, светлая и какая-то по-весеннему новая. И я пошел прямо на ее свет, думая о том милом и добром, что только что свершилось в лесу.
Признаться, недооценил я поначалу этого упрямого, стойкого солдатика. Ведь как же часто бывает в жизни, когда один шаг отделяет тебя от счастья, и ты, прошедший длинный и трудный путь, вдруг не находишь в себе мужества, убежденности, веры, чтоб сделать его, – и упускаешь свою судьбу. А он был не таков, солдат: в нем хватило и силы, и преданности, и душевной щедрости, чтоб сделать этот последний, решающий шаг и взять свое счастье!..
1958