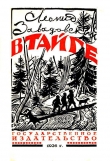Текст книги "Ранней весной (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Однако на четвертый или пятый день запасы пришли к концу, и тогда нас выручил небольшой базарчик на задах разбомбленной станции Филоново, где мы простояли двое суток. Базарчик был такой скудный, что щемило сердце: один стакан топленого молока; два крошечных, похожих на голубиные, яичка; две или три серые лепешки, тяжелые, как спортивные диски; луковица, соленый огурец да горстка подсолнухов. Деньги на этом базарчике хождения не имели. Тут шла мена: за стакан молока требовали две пары женских чулок или смену трикотажного белья, за луковицу – пару варежек, за яички – отрез материи или шерстяной платок.
Как ни бедны были мои спутники, они все же везли с собой кое-какое барахлишко; я же владел лишь тем, что было на мне: старой кавалерийской шинелью – эту шинель мне выдали в госпитале при демобилизации, – летней гимнастеркой и шароварами, кирзовыми сапогами и бельем. Излишеством было лишь одно кашне, сделавшее меня обладателем стакана топленого молока.
Приобретенные продукты мы также объединили и уничтожили в один присест. На другой день мы вновь навестили базарчик, приметно выросший и потому, видимо, сбавивший цены. Нежданно нашлось и у меня что поменять. Мать дала мне в дорогу катушку ниток и две иголки, в расчете, что одну из них я потеряю. И вот оказалось, что на этом базарчике иголки и нитки ценились чуть ли не превыше всего. Видимо, немало дыр надо было зашить этим людям, если нитки были им нужнее чулок и варежек, а иголки приравнивались к шерстяным носкам.
На этот раз мы были осмотрительнее и часть приобретенной еды сохранили впрок; к тому же неизвестно было, окажется ли базар на следующей крупной станции, да и когда еще доберемся мы до нее. Впрочем, нашего запаса хватило ненадолго, и вскоре мы стали самым ощутительным образом поголадывать. Порой, правда, нам удавалось перехватить на станциях то хлеба, то молока, но с нами ехала молодая беременная женщина, и, по молчаливому уговору, молоко и другие питательные продукты мы уступали ей. Она была очень совестлива, и нам приходилось обманом подсовывать ей лишнюю кружку молока или кусочек масла. Она много спала, и мы всякий раз говорили, что не хотели ее будить и позавтракали без нее.
Вероятно, она догадалась об обмане, и однажды я увидел ее на базаре: она продавала шелковое дамское трико с кружавчиками. До этого она на базар не ходила, и меновые операции за нее и за себя производила ее подруга, черненькая востренькая девушка, похожая на галчонка. Продавщица, которой наша спутница предложила трусики, была рослая, обхудавшая, но широкая в бедрах тетка. Она со смехом взяла трусики, казавшиеся кукольными в ее больших темных руках, распялила их, показала своим соседкам и, видимо, отпустила какую-то шутку, потому что те громко рассмеялись. Прозрачно-восковистое, со слабым румянцем на впалых щеках лицо нашей спутницы страдальчески искривилось. Она чуть откинула назад верхнюю часть туловища, свела худенькие лопатки и левой рукой стала что-то нашаривать у себя за спиной. Ее фигура сохраняла обычно совершенную гибкость и стройность, только маленький острый животик позволял догадываться о ее положении. Но сейчас, от этого неудобного движения, ее живот опустился, выпятился, и было ясно, что в скором времени она станет матерью. Вынув руку из-за спины, она погрузила ее за пазуху жестом человека, достающего деньги из внутреннего кармана. Резкий, короткий рывок – и она протянула хозяйке голубой лифчик. Та взяла лифчик и, верно, ощутив на нем тепло молодой груди, которой вскоре предстояло стать грудью матери, вдруг стала серьезной. Осторожно держа в руке эти тонкие и жалкие вещички, она другой рукой обернула в газету ядовито-красный кусок солонины и отдала нашей спутнице и покупку, и плату за нее. Та взяла солонину, но от вещей отказалась. Они заспорили. Продавщица разъярилась, она натягивала трусики на свой здоровенный кулак, прикладывала их к своей могучей фигуре, задирала юбку и показывала свои штаны из чертовой кожи, похожие на рыцарские латы. Кончилось тем, что наша спутница забрала назад трико, а лифчик оставила у продавщицы: все равно он скоро будет ей ни к чему. Солонину же, – пожалуй, единственное, чего ей нельзя было есть, – она внесла в общий котел. И тогда я понял, что побудило ее самолично отправиться на базар…
Эта солонина всех нас очень взбодрила. Черненькая девчонка даже пустилась в пляс и весь остальной вечер то и дело запевала смешную песенку, начинавшуюся словами:
Эх, поеду я в Ленинград-городок!..
Она была ленинградкой, работала кондукторшей, и любимой ее игрой было объявлять остановки трамвая, на котором она колесила по городу.
– Таврическая! – выкликала она высоким, пронзительным голосом и счастливо смеялась. – Литейный проспект! Пять углов!..
Незатейливая эта игра доставляла всем нам живое удовольствие. От ее голоса веяло суетой незатемненных улиц, азартной толчеей посадки, устоявшимся довоенным бытом.
О себе эта маленькая кондукторша ничего не рассказывала и на вопрос, как она оказалась в Сталинграде, отвечала коротко и со смешком: «Вкуировалась!» Но зато при каждом случае она заговаривала о своей беременной подруге, перед которой восторженно и нежно преклонялась. Они были почти однолетки, но черненькая оставалась девчонкой, а ее подруга уже несла в себе тайну близкого материнства. Поначалу я думал, что их связывает старая дружба, но оказалось, они познакомились в Бекетовке в ожидании поезда. Тогда-то и стала черненькая кондукторша слугой и покровителем своей новой приятельницы.
Эта молодая женщина с нежным, тающим лицом провела всю сталинградскую оборону бок о бок с мужем-военврачом. «Он был на двадцать годов ее старше, – с таинственным видом говорила черненькая кондукторша, – весь уж белый, а любили они друг дружку, как только в кино показывают. Она своего образования не докончила и состояла при нем вроде фельдшера. А он был в крупных чинах, ромбу носил. Убили его, когда уже все бои кончились. Фриц психованный застрелил. Выскочил из подвала, рядом с гастрономом, где Паулюса брали, и давай из автомата по улице строчить. Они как раз мимо проходили. Он ее собой загородил, ему весь живот так и прошило. Народ, какой кругом был, растерялся, а она скакнула вперед, вырвала у фрица автомат и на месте его уложила. Теперь она в Торжок, к своей матери едет».
К старожилам вагона принадлежал и одноглазый парень с маленькой спутницей, десятилетней девочкой. Вначале мы принимали их за брата и сестру, но оказалось, девочка – его приемная дочь. Парень был мосласт, плечист, длиннорук и большеног, его загорелое лицо наискось, со лба на скулу, пересекала черная повязка. Когда он высовывался из вагона, а делал он это частенько по живости свой натуры, ветер ударял в повязку, и черная ткань глубоко вдувалась в пустую глазницу. Парень охотно рассказывал о своем увечье. По его словам, глаз ему выхлестнуло песком при разрыве мины. Но глаз вытек не сразу, он все уменьшался, почти без боли, не теряя до конца зрения, пока не стал с горошину.
А тут как раз кончилась оборона, и в госпитале, куда он обратился, ему вынули остаток глаза. Парень считал свою потерю незначительной, куда хуже было бы, потеряй он руку или ногу. Поначалу он, правда, тревожился: кто-то ему сказал, что лишь два глаза позволяют человеку видеть в глубину, а с одним все становится плоским. Но оказалось, это враки: он не хуже прежнего различает, что находится дальше, а что ближе. Все-таки он то и дело проверял эту свою способность. Высунется в дверь и объявляет: вон подбитый танк, за ним кусты, а еще дальше роща…
Девочку он подобрал в Бекетовке перед самым отходом поезда. «Мать и не чает, что я ей внучку везу», – говорил он с доброй улыбкой. Но о судьбе девочки не распространялся и ревниво следил, чтобы к ней не приставали с вопросами. Мы знали лишь, что жила эта девочка у своей тетки в Бекетовке, в январе тетка померла, оставив девочку одну на целом свете.
Девочка была какая-то странная, она словно задумалась раз и навсегда и не могла вырваться из плена этой думы. Большеглазая, с упрямым лбом и тесно сжатыми губами, с хилым, неразвитым тельцем, она замечала только своего приемного отца. Но и с ним почти не разговаривала, ограничиваясь краткими «да», «нет», никогда к нему не ласкалась, и все-таки мы невольно чувствовали, что в ее маленькой, сосредоточенной душе лишь к нему таится глубокая, напряженная привязанность.
Однажды я услышал обрывок разговора, приоткрывший мне жестокую историю этой девочки. Дело было глубокой ночью, когда все обитатели вагона спали.
– Прямо не верится! – говорила черненькая кондукторша. – Такая махонькая, и сама из Ленинграда вкуировалась!.. Как только тебя мать пустила?
– Мамы уже не было… – послышался ровный, медленный, чуть скрипучий голос.
– Ну так папка!
– Папы уже не было, И Феничики не было. Никого не было…
– Господи! – всплеснула руками черненькая.
– Тише! – резко, по-взрослому, хоть и вполшепота, сказала девочка. – Папа Коля проснется. Он не велит мне про это говорить. Я и не говорю никогда. Я думаю.
– И думать не надо, зачем о такой страсти думать. Ты лучше думай, как с новым отцом заживешь, – горячо заговорила черненькая. – Он у тебя хороший!..
– Я сама знаю, – надменно произнесла девочка.
– Вот и умница! О плохом никогда думать не надо. У тебя столько хорошего будет в жизни, столько интересного, веселого!
– Папа Коля сказал, что у него есть дома ворон, который умеет говорить. Он много слов знает: грач, греча, гром и гребенка. А я его еще новым научу.
– Золотце ты мое! – произнесла черненькая кондукторша и вдруг как-то странно замолчала.
– Чего вы плачете? – спросила девочка.
– Кто плачет? Глупости какие!.. – незнакомым басом отозвалась черненькая.
На станции Воропоново в наш вагон энергично вскарабкалась, высоко задрав юбку под полными шелковыми коленями, крупная, статная женщина с крашеным ртом, бирюзовыми глазами и платиновой – от смеси седины с накладным золотом – головой. На ней был котиковый жакет и красивое вязаное платье: на груди поблескивал чуть облупившийся орден Красной Звезды.
Когда черненькая девчонка, живой цемент нашей компании, спросила женщину, кто она такая, вновь прибывшая, гордо тряхнув платиновой головой, ответила:
– Артистка!
Это прозвучало как-то слишком броско, почти вызывающе, и черненькая девчонка, не любившая, при всем своем добродушии, чтобы ей наступали на пальцы, ехидно спросила:
– Знаменитая?
– Да, в своей квартире! – в том же тоне отвечала артистка.
– Ну, зачем вы так? – сразу обернулась доброй стороной черненькая. – Ордена задаром не дают!
– Задаром, конечно, нет, – безапелляционно заявила артистка. – Мне, например, дали за глупость.
Все мы дружно привязались к ней с просьбой рассказать, как она за глупость получила орден. Артистка не заставила себя долго упрашивать.
– Мы выступали с концертной бригадой на Западном фронте, и в одном городке командир части попросил сыграть «Лунную сонату». Пианиста у нас с собой не было, я же умела только на аккордеоне или рояле подыгрывать одному парню, кидавшему шары и кольца, двум девушкам, стоявшим друг у дружки на голове, да еще старому дядьке, который глотал теннисные мячи, а взамен выматывал у себя из горла цветную ленту. И вот администратор говорит мне: «Выручай». Словом, – заставил меня играть. Играю и чувствую, что пот с меня в три ручья течет, до смерти боюсь соврать. Там одно трудное место есть, – еще когда я девчонкой была и подавала несбыточные надежды, всегда на нем спотыкалась. Играю, а про себя твержу: «Господи, пронеси, господи, пронеси!» И тут чувствую, что-то творится в зале, не вижу, а именно хребтом чувствую. А потом мой рояль, как пушка, забухал. «Мать честная, да что же это такое?» – но мне все это ни к чему, мне бы только не сбиться и место это проклятое проскочить. Проскочила, доиграла, отвалилась на стуле – хоть бы хлопок. Глянула в зал – ни души. Один лишь командир, что сонату заказывал, сидит и глаза ладонью прикрыл. А кругом кавардак, скамейки и стулья опрокинуты, на полу битое стекло, какие-то кирпичи, балки. Оказывается, немец налет сделал и здоровую фугаску под самые окна уложил. Все люди по щелям и укрытиям разбежались, один только этот командир остался. Он меня к ордену и представил – за проявленную доблесть и геройство. А надо бы за проявленную дурость.
Как выяснилось из дальнейших рассказов артистки, желание оправдать перед собой полученный орден привело ее сперва в осажденный Ленинград, откуда ее потом вывезли через Ладожское озеро почти ногами вперед, а затем в Сталинград, где она и застряла на все время великой битвы. Она работала в одном из госпиталей в Бекетовке и выступала в окопах.
– И аккордеон с собой таскали? – спросил одноглазый парень.
– Сперва таскала, потом он сломался, и я выступала как речевик.
– Что это значит?
– Читала стихи. Мне сказали: раз артистка, значит должна все уметь. Ну, я и читала. Это был какой-то ужас.
– Да, в окопах несладко! – усмехнулся одноглазый.
– Я говорю о своем чтении, – сухо поправила артистка.
Была еще супружеская пара: старик, в старомодном пальто с бархатным воротником и котиковой шапке пирожком, и его жена, маленькая старушка, похожая на монашенку. Они ездили в Сталинград на могилу своего единственного сына, погибшего в боях за тракторный завод. Могилы сына они, конечно, не нашли, но в тракторозаводском поселке обнаружили деревянный цоколек с надписью «Вася» – такие памятнички нередко встречались во время войны. Старики постояли у цоколька, припомнили своего Васю, положили у подножия искусственные цветы, привезенные из Москвы, и поехали назад. Как удалось им пробраться в Сталинград, было загадкой. Требовалась командировка, специальный пропуск и воинский литер на проезд, а у стариков не было ничего, кроме скорби. И скорбь помогла им одолеть все препятствия. Впрочем, это было не более удивительно, чем существование тети Паши на стыке наших и немецких позиций, чем судьба ленинградской девочки и скромный подвиг артистки.
Старики не принимали участия в общих беседах, они тихо сидели в уголке, изредка обмениваясь неслышными словами. Но зато они неизменно вносили свой пай в общий стол, строго соблюдали свою очередь в уборке вагона, мытье посуды и доставке воды. В них чувствовалась крепкая закваска жильцов коммунальной квартиры. Всякую подмену или просто помощь они отвергали. «Вы нас обижаете», – говорил старик.
Был еще один неприметный человек с каким-то смытым лицом. Как ни напрягаю я память, мне не удается хоть отдаленно припомнить его облик. Кажется, у него были маленькие, чаплинские, усики. Однажды черненькая девчонка при поддержке тети Паши пыталась втянуть его в разговор. Он уныло махнул рукой и тихо сказал:
– Не трожьте меня. Я все потерял.
Четыре пожилые колхозницы с истомленными смуглыми иконописными лицами – три с Тамбовщины, одна орловка – заключали нашу компанию. Они держались особняком, ведя промеж себя тихий разговор, в котором наиболее часто упоминались разные крупы. Крупой, пшеном участвовали они в общем котле. Менять им было нечего; все их достояние заключалось в кульке пшена.
Наше полуголодное путешествие продолжалось. Теперь мы все с большим азартом предавались распространенной во время войны игре: кто бы что съел. Чем дальше, тем пышней разыгрывалась фантазия, вспоминались какие-то невероятные блюда, особенно изощрялась артистка. Видимо, до войны эта женщина любила хорошо поесть. Ее страшно раздражало, что черненькая кондукторша неизменно заявляла со вздохом: «А я бы покушала картофельного супчику».
– Неужели вы отказались бы от украинского борща с кусочками свинины, колбасы, сосисок и с маленькими ватрушками? – спрашивала актриса, возмущенно сверкая своими бирюзовыми глазами. – Или от солянки с осетриной, красной рыбой и каперсами, или от тройной ухи?
– Нет, конечно! А все ж таки картофельного супчику я бы съела, – отвечала черненькая кондукторша.
Эта игра увлекла даже молчаливого человека, который все потерял. Однажды он подсел к нам и застенчиво сказал, что съел бы шашлычок.
– Карский или обыкновенный? – строго спросила артистка.
Молчаливый человек был согласен на обыкновенный.
– Берите карский, – еще строже сказала артистка, – он сочнее.
Но покамест, за неимением шашлыка, борща, солянки, тройной ухи и даже картофельного супчика, мы кое-как перемогались тюрей из кислого молока с кусочками хлеба и пшенной кашей на воде.
– Надо же, – проговорил однажды в глубокой задумчивости одноглазый парень, стоя у открытой двери и напряженно вглядываясь в даль, – мы, победители, голодуем, а фрицев кормят как на убой.
Услышав заветное словечко «кормят», все мы невольно подались к одноглазому парню и увидели за насыпью усевшихся орлом пленных.
– Тьфу ты! – плюнула тетя Паша. – Я-то думала и впрямь кормят.
Одноглазый с удивлением посмотрел на тетю Пашу и с характерной для него серьезностью сказал:
– Кабы не кормили, сидели б они столько!..
На втором разъезде от Армады – этот разъезд мне особенно запомнился – к нам подсел еще один пассажир.
К железнодорожной насыпи, почти цепляя ее краем, подходила большая, словно циркулем обведенная, бомбовая воронка, полная, как чаша, вешней воды. Около воронки навзничь, широко раскинув руки, будто он хотел обнять небесный овод, лежал молодой мертвый немец. Он хорошо сохранился в снегу, этот немецкий солдат в куцем мундирчике цвета плесени и таких же брюках, с разутыми длиннопалыми красивыми ногами и русой, юношески надменно откинутой в подмерзшую грязь головой. Он был почти плакатен: так не шла смерть к его цельному – ни запекшейся кровиночки, – ладному, красиво и прочно сознанному для жизни, для труда и любви телу. Казалось, он нарочно лежит тут в сохранившейся красоте своей мертвой юности – как предостережение, как упрек, как проклятие тем, кто послал его на бойню. Мы долго стояли над ним, объятые сложным и острым чувством. Пленные, которых выпустили из вагонов опорожнить и почистить пищевые котлы, подходили к воронке, подолгу смотрели на своего мертвого товарища и, обменявшись меж собой несколькими тихими словами, отходили.
– Вот бы немецким матерям на него глянуть, – произнесла черненькая кондукторша. – Они бы живо своему Гитлеру бубну выбили!
Да… тоже материн сын… – задумчиво откликнулась тетя Паша.
– А он не от бомбы погиб, – определил одноглазый. – Смерть его на краю воронки настигла, видать спрятаться хотел…
Родители погибшего Васи приблизились к воронке и молча, строго смотрели на убитого.
Коротко прогудел паровоз. Пленные подхватили свои котлы и кинулись по вагонам, мы тоже поспешили к нашему.
Поезд тронулся, и я хотел было убрать железную заржавленную ступеньку, которую мы навешивали на остановках для удобства женщин, когда на путях невесть откуда возник старик с двумя тяжелыми мешками через плечо и устремился к нашему вагону.
– Живей, папаша! – закричал одноглазый, далеко вывесившись из вагона.
Небольшой, крепко сбитый старик, одетый в короткий толстый азямчик, с седыми, в прожелти усами и желтовато-седой бородой тупым клинышком, нагнал вагон и побежал вровень с ним, вытянув вперед правую руку, а левой поправляя оползающие с плеча мешки. Он было ухватился за ступеньку, но тут же выпустил ее, поняв, что это ему не поможет.
– Кидай сюда мешки! – крикнул одноглазый.
Но старик словно не расслышал. Он молча бежал рядом с вагоном, выпучив бледно-голубые глаза, кирпичный от натуги. Снова попытался ухватиться за ступеньку и снова выпустил ее.
– Кидай мешки, слышь! – надрывался одноглазый, и остальные пассажиры присоединили к нему свои взволнованные голоса.
Странно, но эти крики не доходили до старика. Он молча бежал, и задний мешок колотил его по крестцу, словно подгоняя. А затем старик вдруг решился. Он подпрыгнул, свободная рука его ерзнула по деревянному настилу вагона, уцепилась за край, и в ту же секунду левая нога угодила на ступеньку, как в стремя. Ступенька качнулась под вагон, рука старика сорвалась, и он неминуемо полетел бы на шпалы или, еще верней, под колеса, если б одноглазый парень не поймал его за шиворот. Я вцепился в ватное плечо старика, кто-то попытался снять отягощавшие его мешки, но тщетно: левая рука старика клещом впилась в связанные узлом горловины. С огромным трудом удалось нам втянуть его в вагон…
Старик поднялся с четверенек, снял матерчатый ватный картузик и утер им лицо. От его голой, лишь над ушами поросшей желтоватым цыплячьим пухом головы медленно отливала кровь. Тонкая кожа, растянутая по твердому и круглому, как ядро, черепу побелела; белизна захватила и лоб до верхней, глубокой, как ножом прорезанной, морщины, но лицо осталось таким же красным, будто обдутым кирпичной пылью. Мешки все еще висели у него через плечо.
– Так и погибнуть можно! – возмущенно воскликнула тетя Паша, обведя всех сердитыми, добрыми глазами.
– Неосторожный вы, дедушка! – в тон ей упрекнула старика черненькая.
– Вам бы кинуть мешки!.. – втолковывал старику одноглазый.
Старик не отвечал на все эти речи. Он уже отдышался и сейчас производил впечатление странного спокойствия, которое в данных обстоятельствах легче было принять за обалдение. Оглядев вагон, он остановил свой выбор на нашей половине. Сдвинув ногой чью-то корзину, он скинул наконец-то свои мешки и уселся на них, широко расставив ноги в черных чесанках, оклеенных по щиколотку автомобильной резиной. Затем нахлобучил свой картузик, расстегнул азямчик, достал складной нож с деревянной ручкой и положил его перед собой. Развязал мешок, извлек кусаный уломок ржаного хлеба и шматок сала, нежного, чуть розоватого, с присыпанной солью корочкой. Отрезав добрый кусок, он спрятал сало в мешок, облизал лезвие ножа, сложил его и опустил и карман. Его точные, неторопливые движения обнаруживали, что старик и в самом деле был весьма мало взволнован пережитой опасностью. Это меня так удивило, что я не ранее почувствовал манящий и раздражающий запах сала, чем когда тетя Паша с умилением воскликнула:
– Ах, какое сало хорошее!..
– Сало оно сало и есть! – пробормотал старик, показав беззубые, крепкие, влажно восковистые от сала десны.
– Всю войну я такого сала не видела! – продолжала тетя Паша.
– И не увидите, – проговорил старик.
Доброе полное лицо тети Паши мучительно покраснело. Она неспроста завела этот разговор. Понимая, что новому пассажиру неведом ни устав нашего дорожного братства, ни наши горестные обстоятельства, она хотела подсказать ему, как следует поступить. Конечно же, не для себя старалась она, и каждый из нас это отлично знал. Но старику ее побуждения могли казаться корыстными.
И все же тетя Паша не захотела отступиться от своего намерения, от своего дорогого расчета. И, когда мы сели полдничать, она пригласила старика к нашей скромной трапезе, состоявшей из котелка пшенной каши и огурцов.
– Присаживайтесь, дедушка!
– Мы на чужое не заримся, – проговорил старик, и что-то вроде далекой насмешки промелькнуло в его бледно-голубых глазах.
Ночью, когда все спали, до меня долетел тихий разговор.
– Слышь, что ли, делом тебе говорю! – натужливым шепотом взывал к кому-то старик.
– Постыдился бы, старый человек! Люди услышат! – Это сказала тетя Паша.
– Не бойся, не такой уж старый! А люди спят…
– Эк тебя повело с сала-то!
– Слышь, иди сюда! Все дам: и сальца и колбаски.
– Вон что! – усмехнулась тетя Паша. – Купить думаешь!
– Я по-хорошему. Иди, сладкая!
– Знаешь, отцепись! – вдруг громко, свободно и легко сказала женщина. – Не то как хвачу между ушей! – Послышался тупой звук не то удара во что-то мягкое, не то толчка, затем – мертвая тишина…
В недобрую минуту втащили мы этого старика в вагон. Он беспрерывно ел и не столько от обжорства, сколько оттого, что его беззубым деснам трудно было прожевать тугое, подмороженное сало и твердую колбасу. Он ел не только ртом, а всем лицом: скулами, висками, бровями, даже изборожденным глубокими морщинами лбом, за ушами у него слышно хрустело, будто там все время ломалась хрупкая косточка.
Каково было изголодавшимся людям день-деньской слышать его жирное чавканье, видеть чудесную, недоступную снедь, обонять сытые, дразнящие запахи, от которых рот наполнялся сухой слюной и сосало под ложечкой! Порой старик подкреплялся и ночью, и это было совсем непереносимо, потому что в темноте воображение особенно разыгрывалось.
Вначале мы надеялись, что при такой жадности он скоро опустошит свой запас, но не тут-то было! Он ел, жевал, чавкал, а мешки оставались такими же полными. Потом забрезжила другая надежда. Пили мы, как я уже говорил, из паровоза. От жирной пищи старика мучила жажда, и он при каждой возможности носился к топке с алюминиевой кружкой в руках. И вот километрах в пятидесяти за Арчадой машинист запретил нам пользоваться паровозной водой.
– Вы мне весь паровоз выпьете! – сказал он. – А до Борисоглебска заправочные разбомблены.
Для утоления жажды оставались лишь водоемы обочь путей: канавы, полные вешней воды, болотные прудишки и просто лужи. Но пить эту воду было опасно: на полях разлагались трупы. С большим трудом выговорили мы у начальника эшелона разрешение брать на кухне литр кипяченой воды для беременной женщины и девочки. Сами мы терпели до станции или же на долгих стоянках разжигали костер и кипятили эту скверную воду. Но мы и не испытывали особой жажды. Другое дело старик, его прямо палило от жирного сала, но он не укротился и стал лакать воду из луж и канав. Тетя Паша предупредила его, что это опасно.
– Брюхо не решето, – отвечал он загадочно и продолжал заливать внутренний огонь зараженной водой.
Этот старик не только сделал для нас голод более трудно переносимым, он загрязнил теплую, дружескую атмосферу нашего путевого товарищества. Люди, ехавшие в вагоне, не были ни стоиками, ни героями. Сведенные случаем, настрадавшиеся, они невольно, в силу многолетней привычки и воспитания, соединились в коллектив перед лицом дорожной беды. Пока не появился этот старик, никто и не представлял себе, что можно существовать в этом вагоне, не делясь своим и не получая помощи от соседа. Старик показал эту возможность; он думал только о себе, и гром над ним не грянул, и земля не разверзлась. Наиболее слабые души стали задумываться над тем, правильно ли они поступили, дав себя увлечь духу общности. Стало припоминаться, чем ты сам пожертвовал и чем ответил твой сосед, и, выходило, что сосед вроде бы поскупился, а ты в дураках. Люди были ослаблены многодневным недоеданием, тяжкой, изнуряющей дорогой, и надо было удивляться не тому, что эта рознь сейчас проявилась, а тому, что проявилась она так слабо: уж больно крепким бродилом был этот старик. Возникло опасение за себя и отчуждение к окружающим.
Кое-кто стал возвращаться с рынка налегке, но с белым усом молока над верхней губой или с крошками хлеба на платье и уже не участвовал в общем столе, который поддерживался теперь главным образом усилиями черненькой девчонки и тети Паши. Как ни странно, первым изменил вагонному содружеству человек, который все потерял. Это он явился с базара в молочных усах, но с пустыми руками.
– Утрись, – брезгливо сказала тетя Паша и тихо добавила: – Вот теперь ты и впрямь все потерял, даже самого себя.
Потом отсеялись родители погибшего Васи, но на них как-то никто не был в обиде.
Что касается артистки, то она стала дольше обычного рыться в своих тряпках, но в конце концов отбирала все же какой-нибудь халатик в цветочках или рубашку и приносила с базара всякую снедь, которую тут же вносила в общий котел. Но однажды, когда мы сели полдничать и черненькая кондукторша, по обыкновению, отделила лучшие куски для своей беременной подруги, артистка, покраснев, сказала:
– Простите, у нас еще не коммунизм. Я тоже люблю масло.
– Так я же не для себя… – растерянно проговорила черненькая.
– Не надо, Дуня… – послышался слабый голос из-за простыни.
Артистка резко поднялась, прошла в угол и, опустившись на свой чемодан, разлилась в три ручья.
– Я никогда не была матерью!.. – говорила она сквозь слезы утешавшей ее тете Паше.
Не выдержал характера и одноглазый парень. У него ничего не оставалось, кроме нательного белья, и вот, обменяв свою голубую трикотажную рубашку на четвертинку топленого молока и ржаную лепешку, он все это отдал приемышу, не поделившись с остальными. Девочке и без того старались подсунуть все лучшее; она наверняка не была бы в накладе, если б ее опекун остался верен складчине, но тут действовало тлетворное влияние старика.
Люди стали раздражительны и замкнуты, даже черненькая кондукторша не заводила больше свой «Ленинград-городок». Но наконец она не выдержала.
– Не мутил бы ты народ, дедушка, – сказала она однажды старику. – Лучше сошел бы себе потихоньку. А то и до греха недолго: скинут тебя с твоими мешочками – поминай как звали.
Старик молча двигал беззубыми челюстями, разжевывая сало. Видно, он решил про себя, что ему нечего опасаться людей, не посягнувших на его мешки, хотя возможностей для этого было сколько угодно.
– Вы бы прислушались к тому, что вам говорят! – раздраженно сказала артистка.
Старик поднял свои бледно-голубые глаза, медленно оглядел ее статную фигуру и задержался взглядом на высокой груди, на которой поблескивала облупившаяся красная звездочка.
– Не трет сосок-то? – спросил он.
Одноглазого парня передернуло. Он подполз ко мне и тихо сказал:
– Надо со стариком кончать.
– Кончать?
– Ну да! Ссадить его, пусты другим поездом добирается.
– Нельзя же его среди поля ссаживать.
– Зачем среди поля? На станции. Как поезд тронется, я его мешки пошвыряю из вагона, а уж он сам за ними сиганет.
Этот план не удался: остаток дня наш многострадальний состав бодро проскакивал не только пустынные разъезды, но и станции.
Старик меж тем разнедужился. Он по-прежнему частенько подкреплялся салом и при этом стонал, корчился, хватаясь руками за живот. Он скулил и жевал, выплевывая в ладонь плохо прожеванное сало, чтобы отдышаться, и опять пихал в рот сальную кашицу и домалывал ее деснами, с натугой глотал и, захлебываясь, запивал зеленоватой водой. Мы следили за ним с каким-то жутким чувством, можно было подумать, что он решил покончить с собой этим мучительным и медленным способом.
– Пожалел бы ты себя хоть малость, – сказала тетя Паша. – Дай передохнуть кишкам, не ровен час, на тот свет отправишься.
– На-кось! – прохрипел старик. – Тебе, что ль, оставлять?
– Поставишь – не возьму. Тебя жалко: все же человек!..
Старик промолчал. Он завернул объеденную шкурку сала в газету и спрятал в мешок. Достал оттуда кусок кровяной колбасы, отрезал тонкую дольку и отправил в рот. Затем потянулся за кружкой.