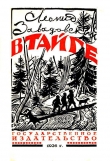Текст книги "Ранней весной (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
По пути Марья Васильевна завернула в сельмаг. Только что кончился обеденный перерыв, и у прилавков выстроились очереди. Окинув наметанным взглядом полки, Марья Васильевна сразу увидела, что ничего нового не появилось. До пастбища было недалеко: стадо паслось сразу за околицей, на вырубке. Пеструха, завидев хозяйку, сама пошла ей навстречу. Марья Васильевна пристроилась на пеньке и подоила Пеструху. Будь оно неладно – опять полведра, ни чутка больше!..
– Вова! – окликнула она дряхлого пастуха.
Дедушка Вова подошел, он был иссушен годами и легок своим почти детским телом, казалось – он не ходит, а парит над землей.
– Пеструха не голодает у тебя? – спросила Марья Васильевна.
Пастух скользнул по ней безумный, будто ослепленным взором своих выцветших белых глаз, но ответил разумно и внятно:
– Такая не заголодует. Самая отважная животина в стаде, всегда лучшую траву ухватит.
– А по клеверищу ты ее пускал?
Старик отрицательно мотнул головой.
– Я ж тебе велела!
– Нельзя! – В белом взгляде старика мелькнула далекая усмешка. – Клеверище-то колхозное!..
– Тьфу ты! Куда ни ткнись – всюду колхозное! Зажали – не дохнуть! А ты бы тишком.
– Старой я на такие дела, – вздохнул пастух.
– Водку пить – молодчик, а дело делать – старой! – Марья Васильевна подняла с земли ведро. – Ладно, я тебе ужо попомню…
– Васильевна, а как насчет четушечки? – жалобно спросил дедушка Вова.
– Чего еще?
– Четвертушечку! – простонал старик.
– Не заслужил! – и Марья Васильевна пошла прочь.
Теперь ей наконец стало ясно, почему Пеструха отстает от колхозных коров. Все дело в кормах. Колхозное стадо пасется на заливных лугах, в стойловом содержании получает сладкое приречное сено; а поселковые коровы пасутся на сухотье, а сено жрут пустое, несочное. Вот и весь секрет Макарьевны, нечего было пытать у нее…
Когда Марья Васильевна вернулась домой, Степан собирался на работу в вечернюю смену.
– Оденься потеплей, – привычно сказала Марья Васильевна и хотела снести ведро в погреб, но тут вывернулся Витька и попросил кружечку молока. У них в заводе не было, чтобы дети чего просили, – они получали то, что определяла им Марья Васильевна.
– Может, тебе еще торту шоколадного?
– Не-е, молочка бы горячего! – Витька потер себе грудь, откашлялся и по-взрослому сказал: – Заложило, весь день перхаю, похоже – простыл.
– Коли простыл, ступай в постель, – сказала Марья Васильевна и тут поймала на себе пристальный, выжидающий взгляд Степана. – Ступай, – повторила она, – я тебе подам…
Она зачерпнула кружку молока и поставила на керосинку. А когда несла молоко в погреб, долила в ведерко воды из стоявшей в сенях кадки. Сроду она так не делала, да ведь иначе кому-то из жильцов не хватит.
Когда шла назад, увидела на крыльце Степана. Он стоял в своем обычном поношенном ватном костюме, кривоносых ботинках, в кепке со сломанным козырьком. И нетребовательный же Степан! Другой на его месте давно бы новую одежду справил, а он ходит в своем обдергайчике, и горюшка ему мало. От этих мыслей забылась обида, к ней сошли нежность и доверие.
– Знаешь, Степа, чего я надумала, – сказала Марья Васильевна, тронув мужа за рукав. – Не вступить ли мне в колхоз?
– Еще чего! Мы же рабочий класс!
– Это ты рабочий класс. А я ни богу свечка, ни черту кочерга. Вон у Беляковых или Прошиных мужья на торфу работают, а жены в колхозе. Или вон Мухины. Варька до прошлого года птицефермой заведовала.
Степан тихо улыбнулся.
– Когда только ты, мать, угомонишься? – сказал он ласково. – Этакую махину тащишь, и все тебе мало. Так и надорваться можно!
– Зачем надрываться-то? – засмеялась Марья Васильевна. – Нешто Нюрка Белякова или Глашка Прошина надрываются? Как ни посмотришь, все в поселке халдырят. А коровки их с колхозным стадом пасутся…
– Вон что!.. – улыбка Степана погасла.
– Ну да! Как ни бьюсь я с Пеструхой, ничего не поделаю. На колхозной травушке да на колхозном сенце она враз в полную силу войдет. Надо же и детям молочка попить, – добавила она для Степана.
Степан поднял голову, и Марья Васильевна чуть отшатнулась: такое было у него тяжелое, угрюмое лицо.
– Занимайся домашностью, бог с тобой, а колхоз не трожь. Поняла?
– Да ты что?..
– Нечего нашу грязь по миру размазывать.
«Грязь? – вскричало в ней. – У меня все чисто, это ты, ты грязный!» Но она ничего не сказала, и Степан медленно пошел со двора.
Марья Васильевна стояла, обмерев, недвижно, как трава в затишье, затем вспомнила, что сбежит молоко, и кинулась в дом. Молоко наполовину выкипело, она подсыпала в остаток сахарного песку и отнесла Витьке.
«Остановится Степан с Парамонихой или мимо пройдет? Неужто и после такого нашего разговора вспомнится ему о вдове?..»
Марья Васильевна почти бегом устремилась на улицу. Они стояли по сторонам прочесанного Степаном тугого березового плетня и разговаривали. Заходящее солнце освещало их теплым, красноватым светом, и белое платье Парамонихи стало розовым. Марья Васильевна неотрывно глядела на них, а затем их фигуры стали будто таять в багряном воздухе, растворилось и багрянце и розовое платье Парамонихи, и над плетнем осталось лишь ее темноглазое лицо под темной копной словно ветром растревоженных волос; по плечи заволокло и Степана, лишь резкий очерк смуглой скулы да мятая кепка оставались видимы, а вот уже не стало и плетня…
«Что это со мной? – испуганно подумала Марья Васильевна, – в глазах ли мутится, в голове?»
Это с реки наплывал туман густыми, окрашенными в багрец клубами…
В доме уже все спали. Спали Колька с Витькой, спала за ситцевой занавеской Наташа, спали на тюфяках, набитых сеном, археологи, торфяники, землемеры, на сеновале спали охотники и рыболовы, спали куры на насесте и Пеструха в хлеву. Не спала только Марья Васильевна. Она управилась с дневными делами и могла бы уже улечься, но знала, что все равно не уснет. Томившая ее обида переросла в темное, глухое ожесточение. Все предали ее. Предал Степан, устранивший себя от всех ее забот и прильнувший к чужому сердцу, предали своим равнодушием дети. Все равно она от своего не отступится, докажет им, на что готова пойти ради семьи…
Марья Васильевна прислушалась к тишине дома. Из горницы доносилось дыхание спящих, порой слышался чей-то глухой ночной вздох, а то легкий стон. Все спят первым, самым глубоким сном. Окно, глядевшее из кухни на огород, казалось заклеенным черной бумагой. Марья Васильевна поднялась и тихо вышла из кухни.
Густой, плотный туман окутал землю. Здесь частенько бывали туманы, но такого она не запомнит. Туман накрыл землю, набился во все впадины, во все щели земли, паутиной облепил кусты смородины, высаженные вдоль избы, вплел свои вязкие нити в плетень, опутал все, что находилось в просторе. Туман брался на ощупь, холодный, скользкий, как банная слизь. Туман поглотил не только зримый образ предметов, он утишил, сместил, почти скрал звуки. Тарахтевший на реке мотор казался далеким, словно за краем света, гудок паровоза, отсигналившего разъезду, прозвучал с неба, а тяжкое дыхание коровы в хлеву доносилось будто из-под земли.
«Трудно будет Степану вслепую вести состав», – тревожно подумалось Марье Васильевне.
Поселок спал, только в стороне избы Парамоновой мутилось пятнышко света, то исчезая в туманной наволочи, то желтовато, мерцающе брезжа. «Не спит, гадюка, на огонек манит!.. А, леший с ней! Парамониха не помеха!»
Неслышно ступая мягкими бахилами, Марья Васильевна прошла в сени, отомкнула маленькую дверцу и вытащила из клети мотор. Прижимая его к груди, быстро прошла к реке. Она так хорошо знала нахоженную семьей тропку, что могла вслепую добраться до берега, но туман заворожил ее и привел ниже, почти к мосткам Парамонихи. На миг ей почудилось, будто на берегу мелькнуло что-то темное, живое, – мелькнуло и сразу стаяло, как возникали и таяли другие сотканные из реющей влаги образы. Чуть обождав, не мелькнет ли снова что живое, она стала пробираться к своему причалу сквозь мокрый ивняк по скользкому, будто омылившемуся глинистому берегу.
Над рекой туман достигал сметанной густоты, не видно было собственных рук, все приходилось делать на ощупь. С трудом отомкнув замок на лодочной цепи, Марья Васильевна навесила мотор и оттолкнулась от берега. Она много раз видела, как Степан заводил мотор, но сама делала это впервые. «А вдруг не выйдет?» – мелькнула мысль, и на миг она почувствовала радостное облегчение. Но вот шнур словно сам дернулся в руку, мотор чихнул раз-другой и заработал ровно и чисто. Лодка стала грудь в грудь с течением, затем понеслась против волны, невидимая во тьме и тумане.
Марье Васильевне казалось, что она плывет не по реке, а по воздуху, сквозь густые, влажно клубящиеся облака. Она не думала о том, что может врезаться в невидимый ей берег, наскочить на мостки, столкнуться с другой лодкой. Она заметила, что оказалась под мостом, лишь ощутив холод его ослизлых свай и угрожающую тяжесть настила над головой, и запоздало пригнулась, когда мост остался уже позади. Постепенно она стала управлять лодкой более осмысленно: теплый ток воздуха, опахивающий ее порой то справа, то слева, шел от берегов, и теперь, чувствуя его, она мгновенно поворачивала лодку в противную сторону.
Туман поголубел, и по нему простерся зеркальный, холодный блеск: взошла луна. Стог сена оказался единственным предметом в просторе, представшем отчетливой, зримой явью, его верхушка с шестом угольно вычернилась в тумане.
Выключив мотор, Марья Васильевна с маху врезала лодку в плоский песчаный берег. Она слышала, что охотники всегда обирают стог понизу, и решила поступить так же. В колхозе решат, что охотники забыли или поленились вернуть сено, которым устилают на ночь днище челноков, и розыска делать не станут.
Толстое, осоковатое сено было мокрым, скользким и тяжелым. Спрессованное собственной тяжестью, оно отдавало лишь мелкие пучки. Тогда, забыв об осторожности, Марья Васильевна развела руки, всем телом привалилась к стогу и, вжавшись в его теплое, будто живое нутро, выхватила из боковины охапку величиной с добрую копенку.
Она кинула сено в лодку и стала приминать его руками и коленями. Всплеск весла, раздавшийся совсем близко, бросил ее на дно лодки. Будто множество маленьких испуганных сердец забилось по всему ее телу.
Снова шлепнуло весло, толкнув лодку волной. Марья Васильевна повернула шею и косо, одним глазом, глянула вверх, в опасность. Но вокруг по-прежнему лишь клубился туман. «Щука!» – решила Марья Васильевна.
На этот раз она не заводила мотора, течение и без того быстро несло лодку назад. Снова дышали теплом невидимые берега, и снова опахнуло гнилостным холодом под невидимым мостом, но вот туман словно уплотнился в длинные космы: она угадала нависшие над рекой ивы у своего причала.
Марья Васильевна вынесла сено на берег, сложила его под ивами и понесла в дом мотор. Ей казалось, что прошли часы, но, войдя в сени и услышав привычное дыхание, храп и ворчбу спящих, поняла, что управилась очень быстро.
Затем она перетащила сено в хлев. Разбуженная Пеструха шумно задышала и потянулась к ней мордой. Марья Васильевна легонько оттолкнула это теплое, живое, мягкое и вдруг, неожиданно для себя самой, по-детски всхлипнула.
А в доме на нее напала странная оторопь. Ей казалось, что она здесь чужая. Любой из постояльцев, спавших на полу и полатях, был тут более своим, чем она, хозяйка. Такой странности на нее еще сроду не находило, она усмехнулась и почувствовала свою усмешку, как боль. В незнакомом, мучительном смятении пробиралась она среди спящих, среди нагромождения накупленных ею вещей, мимо тускло сияющего бельмом экрана телевизора к задернутому ситцевой занавеской углу, где спала Наташа. Она заметила, что скатерка, которой она накрыла телевизор, валяется на тумбочке скомканная, а на ней, будто мертвый, лежит на боку расписной глиняный конь. «Кто-то трогал телевизор. Может, сломал его? Конечно, Витькиных рук дело!..» – устало подумала она и прошла в Наташин угол.
Лунный свет, процеженный сквозь туман, лился из окошка на спящую девушку, блеклый, голубоватый, печальный. Одеяло сползло, открыв длинное, узкое тело Наташи в короткой холщовой рубашонке. Марья Васильевна подобрала с пола одеяло и хотела лечь рядом с дочерью, но что-то помешало ей. Она выпустила одеяло из рук и снова посмотрела на узкое, длинное тело дочери, на ее нежное узкое лицо со слабо трепещущими тонкими веками, в смутной надежде, что Наташа придет ей на помощь. Но дочь не откликнулась. «Лягу, и все тут!» – почти со злобой решила Марья Васильевна, и опять не смогла.
«Да что же это, господи?! А все Парамониха, все она, гадюка, виновата!» И когда Марья Васильевна говорила себе эти слова, она уже знала, что ни в чем не виновата перед ней грустная, одинокая женщина, с которой Степан в нынешнем отчуждении своем перекидывается несколькими добрыми словами. Все это был туман. Из тумана пришли никому и ничему не служившие вещи, заполнившие дом. Вынуть бы всю эту нажить из футляров, ящиков, коробок, чемоданов и сказать мужу и детям: «Берите, ваше!» Ей понятны стали слова, однажды сказанные Степаном: «Вещи должны жить, играть, радость приносить», – да поздно!.. Из тумана пришли чужие люди, занявшие свободное от вещей пространство. В тумане потерялись близкие – и муж, и дети; в последнее время до нее долетали лишь их далекие, едва слышимые голоса. Туманом порожден, в тумане творился и последний ее дикий поступок. Для чего она это сделала? Ради выгоды? Велика корысть – охапка сена! Не хотела же она из ночи в ночь обирать колхозные стога? Она даже не помышляла о том… Связать, что ли, себя со Степаном, с ускользающей от нее семьей страшным этим делом хотела она? Сказать им: вот на что я пошла ради вас! Да нет, разве достало бы у нее духу признаться в содеянном?! Все туман, туман, непроглядный, глухой туман…
Марья Васильевна прошла в кухню, опустилась на лавку у стола, склонилась на локоть и, как с ней нередко бывало после сильных или трудных переживаний, мгновенно уснула.
Проснулась она от страшного грохота, наполнившего избу, и сразу поняла, что пришли за ней. Среди вошедших она сразу признала начальника озерной охраны и председателя приречного колхоза. И еще она видела бледное, потерянное лицо Степана, жалкое от стыда и жалости лицо Наташи, потупленную Колькину голову и ничего не понимающего спросонок, ввинчивающего кулаки в глазницы Витьку. И Марья Васильевна ничего не могла сказать им. Ей оставалось одно: молча следовать за настигшими ее людьми. Покорно и обреченно шагнула она им навстречу, в их протянутые за ней руки, и все будто опрокинулось, завалилось, сгинуло, лишь звенел отчаянный Витькин крик:
– Мамку уводят!..
Марья Васильевна громко застонала и проснулась.
Медленно отливала кровь от головы, оживел занемевший висок, который она намяла о спинку скамейки. Ничего не изменилось вокруг, только с печи свешивалась беспомощная, спящая нога Степана, вернувшегося с ночного дежурства.
Марья Васильевна поднялась и бесшумно выскользнула из комнаты. Большая, грузная, размашистая, она при белом свете дня всегда рождала вокруг себя какой-то ненужный грохот. Вечно задевала попадавшиеся ей на пути предметы, что-то рушила, сдвигала, опрокидывала, мир вокруг нее всегда шумел, бренчал, скрипел, звякал, гремел. Дети еще с улицы угадывали, дома мать или нет. Вспоминая потом об этой ночи, Марья Васильевна больше всего дивилась точности и тишине своих движений. Не скрипнула половица, не пискнула на ржавых петлях дверь, не сунулся под ноги рогач или совок – неслышная самой себе, прошмыгнула она из темноты кухни в кромешную тьму сеней. Так же беззвучно проникла она и в хлев. Сена не было. Марья Васильевна пошарила вокруг себя, сунулась в один угол, и другой, села, потом легла на пол, разбросав руки по деревянному настилу. Сена не было. Она поднялась и сходила за фонарем. Желтый огонек осветил хлев. Там, где сложила она сено, были гладкие доски…
«Да что же это со мной? – прошептала она в тоске и страхе. – Может, и это мне снится?»
Она прижала фонарь к голой руке и почувствовала боль ожога. Нет, все это было в яви: в щелях пола торчали осотинки, камышовая метелочка.
Боясь поверить своей догадке, Марья Васильевна погасила фонарь и выбралась из хлева.
Дверца клетушки, где хранился мотор, тоненько пропела, то был первый звук, нарушивший безмолвие. Мотор был горячий и масленый, хотя ему давно пришло время остынуть. Она подержала на нем ладони, и тепло пошло по всему ее телу, и оно было не теплом мертвого механизма, а иным – вечным, неизменным, самым надежным в мире, теплом ее жизни.
Толкнув дверь и уже не боясь, что ее услышат, Марья Васильевна шагнула за порог.
Никогда не узнает она, как это произошло. Быть может, движимые смутной тревогой за нее, что-то угадали Наташа с Колькой и сказали отцу. Или сам Степан, всегда знавший каждое движение ее души, годы шедший с ней рядом, провидел, к чему она неизбежно придет. Но стоит ли мучиться этим? Она никогда не посмеет спросить Степана о сегодняшней ночи, это похоронено навек. Степан был на страже, он не пропустил минуты для ее спасения. Она представила себе, как, смертельно усталый после трудной, слепой, смены, прошел он в хлев и увидел похищенное сено; как болело у него все внутри, когда он тащил это сено к лодке, потом вез и укладывал его в стог, каждый миг ожидая, что его схватят, и он, в жизни не взявший чужой полушки, примет на себя стыдный и жалкий грех. Но он пронес эту ношу так же молча и преданно, как нес и любую ношу жизни.
И тут Марья Васильевна увидела, что туман, который держался всю ночь, истаял, вокруг был ясный, чистый, сквозной мир, освещенный уже не луной, а зарождающимся утром. Она глубоко, полно вздохнула, и развеялся туман, окутавший ее душу.
1960
Эхо
Синегория, берег, пустынный в послеполуденный час, девчонка, возникшая из моря… Этому без малого тридцать лет!
Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило, волны, шипя, переползали пляж до белых стен приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую, шоколадную, с синим отливом полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными голышами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стекляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные камешки, и терпеливо, шаг за шагом, обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.
– Эй чего на моих трусиках расселся? – раздался тоненький голос.
Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти не тронутом загаром теле, с пупырчатой проголубью от холода.
Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим, трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам.
– Оделась бы хоть… – проворчал я.
– Зачем? Так загорать лучше, – ответила девчонка.
– А тебе не стыдно?
– Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться, от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться…
Среди темных шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло: крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезку к своей коллекции.
– Ну-ка, покажи!..
Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое, в темных крапинках лицо, зеленые кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный, до ушей, рот, и стала рассматривать камешки.
На тонком слое ваты лежали: маленький овальный прозрачно-розовый сердолик; и другой сердолик – покрупнее, но не обработанный морем и потому бесформенный, глухой к свету; несколько фернампиксов в фарфоровой узорчатой рубашке; две занятных окаменелости – одна в форме морской звезды, другая – с отпечатком крабика; небольшой «куриный бог» – каменное колечко; и гордость моей коллекции – дымчатый топаз, клочок тумана, растворенный в темном стекле.
– За сегодня собрал?
– Да ты что?.. За все время!..
– Не богато.
– Попробуй сама!..
– Очень надо! – Она дернула худым шелушащимся плечом. – Целый день ползать по жаре из-за паршивых камешков!..
– Дура ты! – сказал я. – Голая дура!
– Сам ты дурачок!.. Марки небось тоже собираешь?
– Ну собираю! – ответил я с вызовом.
– И папиросные коробки?
– Собирал, когда маленьким был.
– А чего ты еще собираешь?
– Раньше у меня коллекция бабочек была…
Я думал, ей это понравится, и мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось.
– Фу, гадость! – она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка. – Ты раздавливал им головки и накалывал булавками?
– Вовсе нет, я усыплял их эфиром.
– Все равно гадость… Терпеть не могу, когда убивают.
– А знаешь, чего я еще собирал? – сказал я, подумав. – Велосипеды разных марок!
– Ну да!
– Честное слово! Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов: «Дядя, у вас какая фирма?» Он говорил: «Дукс», или, там, «Латвелла», или «Оппель». Так я собирал все марки, вот только «Эндфильда модели Ройаль» у меня не было… – Я говорил быстро, боясь, что девчонка прервет меня какой-нибудь насмешкой, но она смотрела серьезно, заинтересованно и даже перестала сеять песок из кулака. – Я каждый день бегал на Лубянскую площадь, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел «Эндфильд Ройаль»! Знаешь, у него марка лиловая с большим латинским «P»…
– А ты ничего… – сказала девчонка и засмеялась своим большим ртом. Я тебе скажу по секрету, я тоже собираю…
– Чего?
– Эхо… У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое как стекло, есть как медная труба, есть трехголосое, а есть горохом сыплется, еще есть…
– Ладно врать-то! – сердито перебил я.
Зеленые кошачьи глаза так и впились в меня.
– Хочешь, покажу?
– Ну, хочу…
– Только тебе, больше никому. А тебя пустят? Придется на Большое седло лезть.
– Пустят!
– Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь?
– На Приморской, у болгар.
– А мы у Тараканихи.
– Значит, я твою маму видел! Такая высокая, с черными волосами?
– Ага. Только я свою маму совсем не вижу.
– Почему?
– Мама танцевать любит… – девчонка тряхнула уже просохшими, какими-то сивыми волосами. – Давай купнемся напоследок!
Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми узкими пятками…
Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком тощее облачко, снимая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, – простор угрюмел, как перед долгой непогодью, а холодный ток с моря разом усиливался.
Тропинка, ведущая на Большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо сильно тянула вверх, сквозь густой пахучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями желоб, русло одного из тех бурных ручьев, что низвергаются с гор после дождя, рокоча и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника.
Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы.
– Эй! – крикнул я желто-синим трусикам, бабочкой мелькавшим в орешнике. – А как тебя зовут?
Девчонка остановилась, я поравнялся с ней. Ореховая заросль тут редела, расступалась, открывая вид на бухту и наш поселок – жалкую горсточку домишек. Огромное, серьезное море простиралось до горизонта водой, а за ним – туманными мутно-синими полосами, наложенными в небе одна над другой. А в бухте оно притворялось кротким и маленьким, играя, протягивало вдоль кромки берега белую нитку, скусывало ее и вновь протягивало…
– Не знаю даже, как тебе сказать, – задумчиво проговорила девчонка. – Имя у меня дурацкое – Викторина, а все зовут Витькой.
– Можно Викой звать.
– Тьфу, гадость! – Она знакомо обнажила острые клычки.
– Почему? Вика – это дикий горошек.
– Его еще мышиным зовут. Терпеть не могу мышей!
– Ну, Витька так Витька, а меня – Сережа. Нам еще далеко?
– Выдохся? Вот лесника пройдем, а там уже и Большое седло видно…
Но мы еще долго петляли терпко-медвяно-душным орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело сверкающую тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкий пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложенная из ракушечника сторожка лесничего.
Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, навешанными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных лохматых, грязно-белых пса, взвились на воздух, но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю.
– Не бойся, они не достанут! – спокойно сказала Витька.
Зубы псов клацали в полушаге от нас, я видел репьи в их загривках, клещей, раздувшихся с боб, на храпе, только глаза их тонули в шерсти. Странно, из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Но как ни кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще-радостно. Наш поход вел нас к скалам и пещерам, населенным таинственными голосами, не хватало лишь грозных стражей, драконов, преграждающих смельчакам доступ к тайне. И вот они, драконы, – эти заросшие, безглазые, с красномясым зевом псы!
И опять мы петляем орешником по сузившейся тропе, Тут орешник не такой густой, как внизу: многие кусты посохли, на других листва изъедена в паутину мелким блестящим черным жучком.
Я устал и злился на Витьку, она знай себе вышагивала своими тонкими, прямыми как палки ногами с чуть скошенными внутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой бурой травой, вдалеке тянулась кверху серая скала.
– Чертов палец! – на ходу бросила Витька.
По мере того как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше, – казалось, он вырастал несоразмерно нашему приближению. Когда же мы ступили в его темную прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был уже не Чертов палец, а Чертова башня, мрачная, загадочная, неприступная. Словно отвечая на мои мысли, Витька сказала:
– Знаешь, сколько людей хотели на него забраться, ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали. А один француз все-таки залез.
– Как же он сумел?
– Вот сумел… А назад спуститься не мог, и сошел там с ума, и после от голода умер… А все-таки молодец! – добавила она задумчиво.
Мы подошли вплотную к Чертову пальцу, и Витька, понизив голос, сказала:
– Вот тут… – она сделала несколько шагов назад и негромко крикнула: – Сережа!..
– Сережа… – повторил мне в самое ухо насмешливо-вкрадчивый голос, будто родившийся в недрах Чертова пальца.
Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы; и тут навстречу мне, от моря, звонко плеснуло.
– Сережа!..
Я замер, и где-то вверху томительно-горько простонало:
– Сережа!..
– Вот черт!.. – сдавленным голосом произнес я.
– Вот черт!.. – прошелестело над ухом.
– Черт!.. – дохнуло с моря.
– Черт – отозвалось в выси.
В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер: шептун был злобно-вкрадчивым тихоней; морской голос принадлежал холодному весельчаку; в выси скрывался безутешный лицемерный плакальщик.
– Ну, чего ты?.. Крикни что-нибудь!.. – сказала Витька.
А в уши, перебивая ее голос, лезло шепотом: «Ну чего ты?..» звонко, с усмешкой: «Крикни», и, как сквозь слезы: «Что-нибудь».
С трудом пересилив себя, я крикнул:
– Синегория!..
И услышал трехголосый отклик…
Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов. У эха быт острейший слух. Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик. Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.
– До свидания! – сказала Витька и пошла прочь от Чертова пальца.
Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошелестев ядовито-вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль, и голос вверху застонал:
– До свидания!..
Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы Чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы за собой такую вот огромную, страшную дыру. В глубине провала торчали острые ослизлые скалы, похожие на клыки великана, в них тараном било темное, с чернильным оттенком, море. Какая-то птица, распластав недвижные, будто омертвелые, крылья, медленно, кругами, падала в бездну.
Казалось, что-то еще не кончено здесь, не пришли в равновесие грозные силы, вырвавшие из недр земли гигантский каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колодцем, изострившие его дно шипами скал и заставившие море раздирать о них свой нежный язык. Весь каменный громозд вокруг и внизу был непрочным, зыбким, в скрытом внутреннем напряжении, стремящемся к переделу… Конечно, я не умел тогда назвать то мучительно-тревожное ощущение, какое охватило меня на обрыве Большого седла…
Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой и теплой каменистой глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла, стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула:
– Ого-го!..
Миг тишины, а затем густой рокочущий голос трубно прогромыхал:
– О-го-го-у!..
В голосе этом не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту. Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла.
Витька спросила:
– Кто была первая дева?
И великан, немного подумав, отозвался со смехом:
– Ева!..
– А знаешь, – сказала Витька, глядя вниз, – никому не удавалось спуститься с Большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял…
– И умер с голода? – спросил я насмешливо.
– Нет, ему кинули веревку и вытащили… А по-моему, спуститься можно.
– Давай попробуем?
– Давай! – живо и просто откликнулась Витька, и я понял, что это всерьез.
– В другой раз, – неловко отшутился я.
– Тогда пошли… Будь здоров! – крикнула Витька в пропасть и вскочила на ноги.
– Здоров!.. – гоготнул великан.
Мне еще хотелось поговорить с ним, но Витька потащила меня дальше.
Новое эхо – по словам Витьки, «звонкое, как стекло», – гнездилось в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий, пронзительный голос, даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно: провизжав ответ, эхо не замолкло, а еще долго попискивало мышью в каких-то своих щелях.