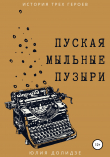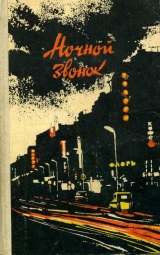
Текст книги "Ночной звонок"
Автор книги: Юрий Семенов
Соавторы: Семен Пасько,Юрий Голубицкий,Геннадий Немчинов,Владимир Измайлов,Борис Мариан
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
5
Комната, которую занимало фотоотделение, большая и светлая, была заставлена столами. Вошли без стука.
– Здравствуйте, товарищи! – поздоровался Спасов.
– Здравия желаем!
– А, Весенин! Живой! Молодцом! Ну, еще раз здравствуй, дорогой. Давно тебя не видел. Не изменился.
– Здравствуйте, товарищ майор. Вы тоже почти не изменились.
– То-то и есть, что «почти».
Отворилась узкая дверь, и через нее боком выдавился тучного сложения мужчина в погонах старшего сержанта. Глубоко сидящие глаза его смотрели угрюмо.
«Да он же под градусом, – отметил про себя Игнатьев. – Вот почему майор приказал принять спирт под личную ответственность».
– А, вот и он! Не поймешь, где у тебя, Шаповал, толщина, где ширина! А?!
– Что мне делается? – без улыбки ответил старший сержант. – Такая работа: привезут фильмы – сиди и проявляй, потом суши. Извините, понесу на просушку.
Игнатьев стоял у двери, прислушивался, присматривался, стараясь уловить главное – что же такое фотоотделение? Кто мог поднять руку на капитана Егорова? Фамильярное обращение Спасова с будущими подчиненными несколько обескуражило: очень уж запросто, по-панибратски обходился со всеми майор.
Вошла в комнату девушка, младший сержант. Майор сказал ей комплимент. И только когда Спасов, разобрав на столе фотоснимки, нахмурился и строго спросил: «Что это? Почему так низко смонтировали?» – старшина успокоился. Видно, так и нужно. Когда дело касается личных отношений, майор – рубаха-парень, а когда речь идет о службе, тут уж извините… Спрос будет самый строгий.
– Я вас спрашиваю, Весенин.
– Двухмаршрутная площадь, товарищ майор. Второй маршрут сейчас присоединим. Якубовский с Калабуховым летали.
– Для артиллерии или для штурмовиков фотосхемы?
– Сейчас все для артиллерии.
– Сколько пар ходило на фотографирование сегодня?
– Обработали четыре фильма. И еще пара истребителей ушла на задание вот в этот квадрат. То можно оставить на завтра, а это надо закончить сегодня, и как можно быстрее.
– Почему?
– Суббота.
– Ну и что?
– В клубе могут быть танцы… Могут дать концерт.
– Понятно.
Майор снял с себя гимнастерку, повернулся к стоявшему у двери Игнатьеву:
– Старшина, не к теще на блины приехал. Раздевайся, помогать будешь. А вы, младший сержант Цветкова, чего ждете? Режьте картон для фотосхем. Быстро управимся – всех отпущу на концерт. Я потрясен смертью блестящего офицера, капитана Егорова… Вы, конечно, больше травмированы… Вы жили и работали вместе с ним, знали его лучше, чем самих себя. Но не будем походить на мокрых куриц. Данью уважения к его памяти должна стать безупречная работа всего личного состава отделения. Война еще не окончена, от нас требуется точность, трудолюбие… Думаю, высказался я довольно ясно. Начнем.
В комнату вбежал сержант. Увидев незнакомых для него старшину и склонившегося над фотосхемой другого военного с гимнастеркой в руке, он неловко козырнул.
– Что-то я тебя не припомню, сержант. Как фамилия?
– Миронов, товарищ майор.
– Откуда узнал, что я майор?
– По погону. На гимнастерке.
– Чем занимаешься?
– Калькированием. Маршруты переношу на кальку.
– Для этой площади уже сделал?
– Нет, не успел, товарищ майор.
– Так вот, сержант Миронов, бери под свое покровительство старшину Игнатьева, укажи маршруты на карте, пусть скалькирует, а мы посмотрим, что у него получится. А ты сам… Пронумеруй кадры на пленке, начнем печатать.
Игнатьев снял гимнастерку, засучил рукава рубашки, подошел к столу. Миронов протянул ему пачку прозрачных листов.
– Вот, старшина, скопируй дорогу от этого квадрата до этого, и все, что прилегает к ней, тоже. Тушь – черная, перо, рейсфедер… Бери, что понравится. Понятно?
– Понятно. Для чего все это?
– Не все умеют читать фотосхемы, вот и приходится расшифровывать. Чтобы любой командир в пехоте, артиллерии мог разобрать, что к чему.
– Ясно.
Игнатьев переносил на кальку отрезок дороги, а сам думал: «Вот, видно, здесь, при переносе разысканных вражеских объектов с фотосхемы на кальку, и происходит рождение ошибки. Ошибка выдается за непогрешимую истину бомбардировщикам, те летят и сбрасывают бомбы в стороне от объектов, которые надо разбомбить. Может быть, Миронов допустил тягчайшую ошибку и, чтоб не нести ответственности, убрал капитана? Нет, едва ли. Какой-то открытый он, этот белобрысый сержант Миронов. А если он? Тогда я ничего не понимаю в людях. Впрочем, надо поговорить с ним».
Старшина оторвался от кальки, подождал, пока Миронов тоже поднял голову от схемы, поманил пальцем к себе.
– Не получается, старшина?
– Почему не получается? Получается. Я только хочу спросить: давно здесь служишь?
– Два года.
– Почему в обращении ко мне пропускаешь одно слово?
– Какое?
– Товарищ.
Миронов озадаченно посмотрел на Игнатьева, пожал плечами, сказал:
– У нас так принято. Если для вас важно, чтоб было «товарищ», мне не трудно… Между собой мы попросту…
– Ладно, я подумаю, сержант, важно это или не важно, – сказал старшина и склонился над картой. Вновь по кальке побежало перо, оставляя черные следы.
«Нет… не может такой. Смотрит в глаза чисто, без тревоги. Неужели Весенин? Или тот лаборант с заспанным лицом и звероватым взглядом глубоко сидящих глаз? Девушка, конечно, исключается. Хотя почему? А вдруг он обманул ее, и последовало возмездие? Нет, глупость вы порете, старшина Игнатьев. Сперва надо познакомиться со всем процессом подготовки фотосхем, установить опасные узлы… Первый есть снятие, маршрута со схемы на кальку. А потом?..»
Миронов склоняется к старшине:
– Счастливый вы человек, товарищ старшина.
– С чего взял?
– Только, как говорится, порог отделения переступили – и пожалуйте на концерт и танцы.
– Но может и не быть ни того, ни другого.
– Все будет. Уже объявление вывешено возле клуба.
– Прекрасно. Вообще ты прав, я – счастливый человек.
– А ну, братва, песню. Нашенскую, – сказал Спасов.
И зазвучала тихая, проникновенная, чуточку грустная песня о том, что у воздушных разведчиков служба совсем будничная, их вроде и нет, а вот бомбы рвутся над вражескими окопами, взлетают на воздух дзоты и доты по их снимкам и разысканиям. Игнатьев чертил, а сам украдкой поглядывал на Весенина, Миронова, Шаповала, Цветкову, на юного дешифровщика по прозвищу Штурманенок, на пожилого лаборанта Косушкова. Стоял перед старшиной вопрос: «Кто?» А рядом и второй вопрос: «А что, если мы с подполковником Тарасовым ошиблись, и сюда не за чем было являться?» Ответа не было. Ни на тот, первый вопрос, ни на второй.
Работа над фотосхемой закончена. Майор поднял руку:
– Внимание! Все в порядке. Все свободны, кто желает – может идти в клуб. Дежурным по фотоотделению назначаю…
– Я могу остаться… Я не танцую. И пакет в штаб снесу, – сказал Шаповал.
– И я не пойду на вечер. В мои годы вроде бы и не к лицу на танцульки бегать, – сказал Косушков.
– Добро! – сказал майор. – Дежурство возлагаю на обоих. За старшего вы будете, Косушков.
– Слушаюсь.
6
Фотоотделение располагалось на отшибе, в бывшем помещичьем доме. Ближе к штабу корпуса и службам тыла подходящего помещения не нашлось.
Все бы ничего. И комнат достаточно, хотя и запущенных, и зал есть, где можно, не мешая друг другу, монтировать схемы, снимать с них копии, сушить снимки, хранить пленку, одно неудобство – столовая далеко, в трех километрах. Сходит человек три раза в день туда и обратно, и уже наполовину уменьшилась его работоспособность. А если и ночью поработает, то на следующий день он как выжатый лимон. Покойный капитан Егоров обратился к командованию с рапортом: «Так и так, нужно что-то предпринять». Командование к рапорту отнеслось внимательно, было решено организовать котловое довольствие на месте. Так в фотоотделении появились две девушки – повар Катя и помощница Шура. До этого они работали в офицерской столовой.
Кулинарами они были меньше чем средними, готовили не ахти какие разносолы, но все были довольны: не надо топать в такую даль. А то однажды выпал дождик, и все отделение осталось без ужина: дорога пролегала по низинке, почва – жирный чернозем, ног не вытянешь. В полдень, по жаре, когда все изнывает от зноя, тоже мало удовольствия шагать в столовую.
Словом, теперь у фоторазведчиков было все под боком. Поздно лег, рано встал, есть вроде не хочется. Ничего. Садись, дешифрируй или проявляй, суши пленку, печатай снимки, твоя порция супа или котлет тебя дождется.
Катю и Шуру подселили к младшему сержанту Маше Цветковой. Сперва Маша возмутилась: «Что, нет других комнат? Меня надо стеснить?» – но потом сдалась. В конце концов будет с кем поговорить, поделиться радостями и сомнениями, однако поставила условие:
– Хорошо, девушки. Вместе станем жить. Только просьба: если мне потребуется о чем-нибудь посекретничать с моим суженым, вы уж не пяльте на нас глаза…
– Суженый? – подняла брови Катя. – Это не тот ли, с которым ты обедала у нас в столовой?
– Он самый. Когда к Днестру вышли наши войска, он хотел расписаться со мной, да я не согласилась.
– Это как же?
– А так же… Где наша армия сражается с фашистами? Уже за границей. Я и хочу расписаться там… Скажем, в Берлине.
– Не выйдет, – сказала Шура.
– Что «не выйдет»?
– Берлин. Мы – другого направления.
– Направление, направление… Мало ли куда какую воздушную армию перебрасывают. Возьмут и бросят туда. А не выйдет… Так я согласна расписаться в Бухаресте, Будапеште, Вене… Вена – исторический город. Там жили. Моцарт, Штраус…
– Маша! А ты ведь здорово придумала. Завидую тебе. А вот ребеночка… Того дома надо записывать. На родине. Где родились его мать и отец, где похоронены бабушки и дедушки…
– Конечно, – согласилась Маша. – Придем в Вену, распишемся и махнем куда-нибудь на танцы. Вальсировать. У Штрауса много вальсов… «На прекрасном голубом Дунае» знаете? А еще «Сказки венского леса», «Прощание с Петербургом». Вообще, Штраус написал пятьсот вальсов.
– Зачем пятьсот?
– Это его бы спросить… Еще он написал полтора десятка оперетт.
– Откуда ты про все это знаешь? – тихо спросила Катя.
– У меня отец музыкант. На скрипке играл. Для отдыха, для себя – валторной увлекался. Когда он понял, что скрипачки из меня не получится, он посоветовал мне посвятить себя музыковедению. Вот я и зубрила все, что относится к музыке…
– А как мог отец определить, что скрипачки из тебя не выйдет?
– Пальцы у меня пухленькие и короткие. Как обрубки. Мама говорила, что такие пальцы были у моего дедушки.
– А почему ты начала зубрить с иностранных музыкантов? – спросила Шура.
– Начинала я со своих. Глинка, Даргомыжский, Верстовский, Чайковский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов. Потом Прокофьев, Шостакович, Хренников, Дунаевский…
– Господи! Да в музыке этой голову свихнуть можно.
– Не свихивают же люди.
– Скажи, Маша… Когда по радио звучит музыка, ты можешь определить, что это и откуда?
– Кое-что могу. Вот оперы, например, – «Иван Сусанин» Глинки, «Евгений Онегин» Чайковского, «Аскольдова могила» Верстовского, «Князь Игорь» Бородина, «Хованщина» Мусоргского… Они уникальны, их не спутаешь ни с чем. «О дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить…» – только у Бородина.
– Чего же ты на фронт пошла? Ты и в тылу нужна была бы…
– А вы чего пошли?
– Мы – другое дело, – сказала Катя. – У меня в семье ни одного мужчины, а нас, сестер, пять. Отец за год до войны умер. Вот я и пошла… Чем могу, тем и помогаю. Сперва медсестрой была, раненых с поля боя вытаскивала. Когда саму в третий раз ранило, попросила не комиссовать, а направить хоть куда-нибудь, лишь бы воевать.
– Я курсы официанток закончила. После выпуска спросили – не пойду ли я к летчикам, я и согласилась. Вот и кормлю. Вернее, кормила. А теперь вас буду кормить, – тихо проговорила Шура.
– Ясно. Вы просто героини. Героини! Устраивайтесь. О музыке, музыкантах, о нас самих еще поговорим…
Но, как часто бывает в военной жизни, о музыке, композиторах, о самих себе говорить было некогда. Младший сержант Цветкова с утра до вечера пропадала в лаборатории, а если выкраивалась свободная минута – бежала на свидание к своему «суженому». Шура и Катя весь день возились с приготовлением пищи. Людей в фотоотделении вроде бы и немного, а заход один и тот же – что для ста человек, что для десяти.
Потом гибель капитана. Она всех потрясла. И хотя разговоров о Егорове избегали, думать о его смерти думали. Разговаривать же о музыке… Это было как-то противопоказано.
Старшина Игнатьев обратил внимание и на девушек. Шуру и Катю он сразу же вычеркнул из числа подозреваемых.
Когда после окончания работы над фильмом Маша вбежала в комнату, – теперь не «в свою», а «в нашу», – Катя и Шура вертелись перед стоявшим на полу небольшим зеркалом и разглядывали на себе легкие летние платья и выходные, на высоких каблуках, туфли.
– Отставить! – скомандовала Маша. – Сейчас же одеться по форме.
– Почему? – недоуменно спросила Шура. – Лето же… В этой шкуре жарко.
– Не сочиняйте. В форме вы просто царицы, а в этих воздушных файдешинах – просто кисейные барышни… Вас ни один уважающий себя солдат не пригласит на танец. И носить эту форму до самого последнего часа войны, до последнего победного выстрела…
– Ой, – вздохнула Катя, начала стягивать с себя платье, из которого, собственно говоря, выросла. Она провозила его с собой три года. За это время стала выше ростом, чуточку раздалась в плечах. Катя села на койку, посмотрела на подруг, спросила: – Интересно, какой это будет день? День победы? Солнечный или пасмурный, вторник или среда, воскресенье или суббота?
Шура обернулась:
– Почему забыла про понедельник, пятницу и четверг? Знаете, девочки, день победы будет самым великим праздником. Слезы радости и горя смешаются… У нас по маминой линии и по папиной ушло на фронт десять человек, а сейчас в живых только трое… И я четвертая.
Катя и Маша ничего на это не сказали. Да и что можно сказать? Путь к победе – это страшная, необыкновенно длинная дорога. Река крови, страданий и потерь.
– Ладно. Давайте собираться, – сказала Маша. – Майор идет на вечер…
На мужской половине тоже шли сборы: начищались сапоги, подшивались свежие подворотнички, гладились гимнастерки, а Миронов долго пытался натянуть на ноги унты, принадлежавшие старшине-дешифровщику по прозвищу Штурманенок, но из этого ничего не вышло: унты были на три номера меньше, чем было нужно, – и он зашвырнул их под топчан, надел прекрасные хромовые сапоги, на голову напялил шлемофон, тоже принадлежавший Штурманенку, посмотрел в зеркало.
– Скверно, – скептически поджал губы Миронов. – Старшина, правда плохо?
– Почему же? Оригинально.
– Оригинально, это да, но глупо.
– Возьми форменную фуражку, раз не любишь пилотку.
– Придется, – согласился Миронов, примерил фуражку. – Порядок. Солидности прибавляет. Если товарищ старшина не любит ходить на вечера в одиночку, могу быть гидом…
– В одиночку ходить не люблю, но вынужден от твоих услуг отказаться.
– Что так?
– Невыгодный ты попутчик. При такой твоей экипировке я проигрываю. Что значит моя пилотка в сравнении с твоей фуражкой! Один «краб» может поразить в самое сердце любую девушку.
– Э, старшина… Мы так не договаривались, это запрещенный прием. Не разводи грязь на сухом месте.
– Да нет, я серьезно… Впрочем, оставим. Идем. Девушки уже собрались, ждут нас, и майор с ними.
Старшина Игнатьев, Штурманенок и Миронов присоединились к майору Спасову и девушкам все вместе пошли к клубу. Минут через пять направился туда и Весенин. А у клуба – столпотворение: военные, гражданские, детвора. Старики и старухи стояли поодаль, молча наблюдали хору, молдавский народный танец. Миронов сразу же, как только пришли, включился в круг. Игнатьев подивился легкости, с какой щеголь сержант выделывал разные коленца. Казалось, в это время Миронов забыл обо всем, кроме танца.
«Интересно, и жизнь у него будет легкой, или это проявление беззаботности?» – подумал Игнатьев. Мысль эта исчезла так же вдруг, как и родилась. Игнатьев внимательно всматривался и вслушивался в толпу. По настроению, которое царило сейчас здесь, на площадке возле клуба, по той уверенности, умиротворенности, спокойствию, что были написаны на лицах старух и стариков, детворы, всех танцующих и наблюдавших за хорой, Игнатьев понял, что народ уже готов к переходу на мирную жизнь. К естественному людскому состоянию. Без крови и слез. И верит он, народ наш, что исход войны предрешен, нет в мире силы, способной помешать победе советского оружия над коричневой чумой. Народ – олицетворение мудрости. И в первые дни войны, когда мы отступали, теряли города и села, народ верил в конечную победу, и вера эта передавалась армии. Через письма, посылки; сама атмосфера труда в тылу заставляла людей сражаться до конца. Под Москвой, на реке Молочной, за Ростов, Харьков, в великих битвах за Сталинград и на Орловско-Курской дуге. И вот мы далеко на западе.
От этих мыслей Игнатьеву стало легко и весело.
После хоры девушка-организатор объявила по мегафону:
– Вальс. Дамский.
Шура повернулась к старшине:
– Пойдемте, Игнатьев?
– С удовольствием, – старшина улыбнулся – широко, доверительно. И настроение у него было хорошее, и само приглашение – «Пойдемте, Игнатьев» – понравилось ему. И уже серьезно добавил:
– Только вот получится ли… С начала войны не танцевал. Все перезабыл.
Ничего старшина не перезабыл. Это Шура почувствовала с первых шагов. Кавалер вел легко, мягко, предупредительно.
Старшина вел партнершу, а сам боковым зрением наблюдал за всем происходящим на площадке. Штурманенок танцевал с Катей, Спасов с какой-то девушкой в цветастой юбке, Цветкова с незнакомым для Игнатьева капитаном. Все в ней было олицетворением счастья. Улыбка сияла на ее лице.
– С кем это наша Машенька пребывает на седьмом небе? – пошутил Игнатьев, наклонившись к уху Шуры.
– С капитаном Мартемьяновым…
– Кто он?
– Разведчик. В штабе служит. Мы на него работаем. И на майора Коробова. Все схемы через них проходят. Они давно дружат. Он расписаться с ней хотел, да Маша отказалась.
– Не понимаю.
– Оригиналка. Хочет расписаться в Вене. Чтоб было чем дома хвастаться.
– Почему в Вене?
– Там большие музыканты жили… Штраус. Он пятьсот вальсов написал. А она по музыке пошла…
– Но мы можем и не попасть в Вену.
– И что ж? Решить-то можно так?
– Конечно, можно. Это не возбраняется.
Потом был концерт. Музыка, балет, песни. И художественное чтение. Было что посмотреть и послушать. Рядовой батальона аэродромного обслуживания буквально озадачил Игнатьева. Он читал стихотворение Константина Симонова «Убей немца». Читал просто, в какой-то замедленной манере, будто он нетвердо знал строфы, но это-то и подкупало. Стихотворение воспринималось особенно остро. И еще была тревога: вдруг этот баовец не вспомнит следующее четверостишие? Будет жаль и его, и всего вечера. Нет, не забыл солдат, таков был продуманный прием чтеца.
«Да, да, – подумал про себя старшина. – Так и нужно читать. Здорово получается. Впечатляет».
Потом трио девушек из того же батальона аэродромного обслуживания спело о том, что идет война, что мир – мечта каждого советского человека, но весь народ станет счастливым лишь тогда, когда на родной земле не останется ни одного фашистского захватчика.
7
Утро выдалось веселое, мягкое. Пахло травами и еще чем-то неуловимым. Игнатьев, умывшись по пояс, долго вытирался полотенцем, прислушивался к голосам птиц. Над домом, где располагалось фотоотделение, пролетел аист и скрылся за ближайшим холмом.
На пороге своей комнатки появилась младший сержант Цветкова.
– Доброе утро, товарищ старшина, – поприветствовала она Игнатьева.
– Доброе утро, – ответил тот. – У вас так заведено, или еще почему?
– Что?
– Да никто на зарядку не вышел.
– Легли поздно.
– Для меня все здесь внове. Не могли бы вы, Маша, меня просветить? Хотя бы схематично нарисовать весь процесс обработки данных воздушной разведки.
– Пожалуйста. С утра летчики улетают в разведку. Или на бомбометание. На одном из самолетов устанавливается аэрофотоаппарат. Пленка у нас в ящиках, что в углу комнаты. Заметили?
– Да, да, обратил внимание.
– Аппараты эти всегда устанавливал сам капитан Егоров. Недавно застрелился…
– Я слышал. Говорят, из-за женщины…
– Нет, у него жена есть. Врач, в санчасти работает.
– Что же его заставило пустить себе пулю в лоб?
– Кто его знает… Несколько срывов было в фотоотделении. Началось это, еще когда к Днестру подходили. – И Маша замолчала.
Игнатьев не стал расспрашивать о Егорове, о срывах, начавшихся на подступах к Днестру. Он даже сделал вид, что самоубийство есть самоубийство, акт малодушия, что же о нем много толковать. Сказал:
– Пошли, Маша, дальше. Установил капитан Егоров аппараты, и что следует за этим?
– Летчики возвращаются с задания, мы снимаем кассеты, везем сюда проявлять. Делают это Косушков и Шаповал. Проявляют пленки и сушат. Потом Косушков печатает снимки. Если фильмов много, помогаю я. Миронов и Весенин составляют снимки перекрывающимися местами, получается маршрут полета. Тогда начинается дешифрирование. Тут все отдается в руки Весенина. От него зависит почти все: что обнаружит на снимках, то и есть данные разведки…
– А если он допустит ошибку?
– Смотря какую. Если пропустит огневые точки, могут поплатиться в пехоте или наши же летчики; пропустит, скажем, танки, особенно если замаскированные, немцам убытка нет – техника сохранится. А нам эту технику выбивать надо. Выбивать. Если неправильно смонтируют или фотосхему задержат, то весь труд насмарку.
– Да… Здорово. Спасибо, Маша. Немного светлее стало в голове. Ну, я пойду.
«Второе горячее место. Весенин… Неправильное дешифрирование – и пожалуйста: понапрасну летят бомбардировщики, зря бьет дальнобойная артиллерия. Нагоняй Егорову. Но только зачем все это Весенину? Спасов – с самого начала войны. Весенина знает тоже с той поры. Нет, что-то у меня ум за разум заходит. Пожалуй, самое верное – проверить, кто с какого времени в части. Не совпадут ли срывы с чьим-либо появлением…»
Игнатьев подшил свежий подворотничок, почистил сапоги бархоткой, прошел в общую комнату. Весенин сидел за столом, ворожил над фотосхемой. Игнатьев заглянул через плечо. На фотоснимках светлые и темные полосы, квадраты и прямоугольники, какая-то рябь…
– Скажите, Весенин, зачем вы обвели эти места тушью? – шепотом спросил Игнатьев.
Весенин задрал голову, поморщился, как от яркого солнца, сказал:
– Точки – это зенитные установки. А вот тут, неподалеку, – бензохранилища.
– Что это за полосы? И вот эти квадратики?
– Полосы – дороги, а кубики на них – автомашины. Видно, наши разбомбили мост, и, пока саперы налаживают переправу, машины ждут… Товарищ майор! Сообщите в штаб: в квадрате «Б-16» мост разрушен, там сейчас затор – автомашин десятка два… Могут послать парочку штурмовиков.
Спасов подошел к столу Весенина, взял лупу, склонился над снимком.
– Верно, затор. В обход они не прорвутся?
– Нет, я искал. Тут насыпь, а слева – кусты. Не пройдут.
Дверь резко распахнулась, и в комнату стремительно вошел полковник и с ним старший сержант.
– Ну как, Весенин, много разыскал?
– Кое-что есть, товарищ полковник. – Весенин не поднялся, только оторвал взгляд от фотосхемы, указал глазами на майора. Дескать, есть и постарше чином.
– А, Спасов! Привет! – обрадовался полковник. – Рад тебя видеть. Мне только что шифровкой сообщили, что тебя сюда перевели, а ты уже тут как тут. Ну, теперь и бремя с моих плеч долой. Вечером забегай ко мне, посидим, поговорим. А сейчас я на телефон сяду. Всем хозяйством вылетаем. Штурманы у меня в штабе собрались, ваших данных ждут, наземная разведка уже дала, а вы задерживаете. Весенин, давай.
Через минуту полковник передавал:
– Денисов, скажи штурманам, пусть отмечают. Западнее Васлуя на развилке дорог – шесть тягачей с пушками и живой силой до ста человек. Чуть южнее – в посадке – замаскированные танки, числом до двадцати. По дороге Васлуй – Негрешты – колонна автомашин и тягачей – до сорока. Теперь дай распоряжение истребителям прикрытия и нашим пилотам: пусть перенесут к себе на карты следующие зенитные точки противника и соответственно изменят маршруты. Западнее Хуши, в трех километрах – четыре зенитные установки. Затем еще пара точек западнее развилки дорог. Это в квадрате четырнадцать. Пометил? Скажи истребителям прикрытия, пусть попытаются ликвидировать, но далеко не отходят.
Весенин встал, подошел к полковнику, ткнул пальцем в карту, лежавшую перед ним, сказал:
– Тут, товарищ полковник, в квадрате «Б-16» затор машин. Перед мосточком. Пусть пара «ИЛ»-ов или истребителей пройдутся, чего оставлять?..
«Нет, Весенина, пожалуй, надо исключить. Мог бы и не говорить о заторе. – И Игнатьеву вспомнился высокий берег Днестра, круча, на которую преступник, как видно, без особого труда втащил тело Егорова… – Мог бы справиться с этим Весенин? Мог. Силища видна в каждом мускуле. Но… Не такой человек Весенин».
Полковник, закончив передавать, бросил трубку на рычаг, сказал:
– Спасибо, товарищи, за службу. Но схемы Коробову все равно пошлите. Что-нибудь пригодится для артиллеристов. И для наших соколов схемы не будут лишними на завтра. Учтите.
– Учтем, товарищ полковник! – козырнул майор Спасов. – Сегодня же доставим в штаб.
Полковник ушел. Игнатьев нагнулся к Весенину.
– Кто такой?
– Заместитель командующего корпусом Юрганов.
Работа в фотоотделении кипела вовсю, а с улицы доносились призывные автомобильные гудки и крики:
– Эй, фотослужба! Еще пару фильмов забирайте!
На улицу вышел Игнатьев. Какой-то старшина, видимо механик, передал ему кассету. Игнатьев взял ее осторожно, словно бомбу.
– Новичок? Не бойся, не взорвется. Покурить найдется?
– Возьми в правом кармане, там сигареты.
– Сигареты? Где добыл? – удивился старшина.
«Вот, черт возьми, – выругался про себя Игнатьев. – Не учел, надо на табак перейти, им же сигарет не дают…» – И объяснил:
– Знакомый майор дал, когда из части сюда направили.
Из открытого окна комнаты крикнули:
– Эй, старшина, неси кассету!
Игнатьев поднял глаза, увидел в окне Косушкова. «Как раз, – подумал он, – время и познакомиться. Сейчас попрошусь в лабораторию».
Игнатьев вошел в комнату, передал Косушкову кассету.
– Может, помочь?
– Натаскай чистой воды. В коридоре два бака стоят.
Игнатьев захватил ведро воды, принес в фотолабораторию.
– Посмотреть можно, как проявляешь?
– Можно, да только ничего не увидишь. Обожди лучше на свету, не люблю, когда лишние в лаборатории. Буду печатать, тогда посмотришь.
«Дельно, – подумал старшина. – Подождем печати…»
Он понемногу осваивался: таскал воду со двора, промывал фотоснимки, открывал банки с клеем, переводил на кальку заснятые маршруты. К нему привыкли, и уже только и слышно было: «Игнатьев, помоги фильм развесить…», «Товарищ старшина, добеги до штаба, схемы сдай разведотделу», «Игнатьев, куда ты пропал? Готовь стол для снимков», «Промой отпечатки, раскладывай с Цветковой».
«Ну и работка, – вздыхал про себя Игнатьев, отирая пот. – Неужто каждый день они, как в котле?»
Они не стреляли, не метали гранат, не выскакивали из окопов с криками «Ура!», но где-то на передовой ухали орудия, посылая по их данным на вражеские огневые точки снаряд за снарядом; гудя, шли бомбовозы, и штурманы, склонившись над их фотосхемами, нажимали на гашетки, оторвавшиеся авиабомбы с воем неслись на голову врага. В штабах генералы просматривали их схемы, радиограммы с их данными, следили за перегруппировками войск противника и рассчитывали, куда двинуть свои дивизии, где нанести сокрушительный удар. Вот почему, думал Игнатьев, каждый из них чувствует себя необходимым в огромном боевом организме. Да и он сам, попав к ним, не успевает сделать одно, как надо приниматься за другое. Но ни на минуту его не покидал вопрос: так кто же из них? В каком звене длинной цепи от фотографирования до подачи в штаб данных разведки появляется ошибка? Или – кто враг? Не может быть, чтобы лишь простая халатность. Ведь работают на совесть все. Значит?..