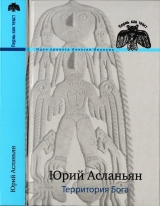
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Национальный герой
В тот августовский день 1997 года Василий нашел на столе записку, в которой жена сообщала, что с кордона Цитрины в их сторону вышли двое.
И Василий направился в чащу – туда, где находился тайник.
Рафаэль Идрисов был необыкновенным казахом – не ел мясо, не любил спиртное. Но если выпивал, то речь его становилась возвышенной, как гора Ишерим, и длинной, как Тулымский хребет. Тогда он говорил Василию и Светлане, что создаст здесь Вишерскую Швейцарию. В гостевых домах будут отдыхать состоятельные люди, а на Ишерим он проведет канатную дорогу. И глаза его горели чайным огнем властелина земли, поднявшегося на вертолете над громадами скал, зеленовато-серыми чешуйчатыми гольцами, над водой, шевелящейся от хариуса, над горным хрусталем и драгоценными мехами.
Директор заповедника «Вишерский» двигался в сторону основного кордона на резиновой лодке по небольшой таежной речке Большая Мойва.
Инспектор Василий Зеленин проработал с женой, Светланой Гаевской, три года на этом кордоне и хорошо изучил территорию заповедника. А также заповеди директора – проповедника вегетарианства.
У директора имелось ружье, два газовых пистолета и система «Удар». У Гаевской было табельное ружье. А другое Василий нашел в верховьях Ниолса – двадцать восьмого калибра. Он прочистил его, смазал и спрятал в лесной чащобе. Сегодня он шел туда.
Большая Мойва неглубока и камениста. Трудно плыть по ней. На очередной остановке Идрисов подозвал начальника охраны заповедника Юрия Агафонова, шедшего по берегу параллельно реке. Чтобы забрал свой рюкзак из лодки. И тот забрал и потащил, пробираясь сквозь заросли, преодолевая бурелом. А лодочка Идрисова полетела пулей.
«Быдло» – так называл директор местное население, вайских и велсовских лесодобытчиков, оставшихся без работы, без денег, без продуктов, без лекарств.
На этот раз Идрисов шел по тайге с Агафоновым, недавно начавшим свою работу в заповеднике. В одиночку он старался вообще не ходить. Стрелять здесь умеют. Он тоже умел.
Завтра сюда прилетит один бизнесмен и депутат. Жаль, что этот Зеленин так и не обстрогал стены гостевого дома – высоко, говорит, невозможно сделать рубанком. Лишился премии за квартал.
А вот и приплыли, отсюда придется идти пешком.
Они успели преодолеть полтора километра. Наступила темная августовская ночь, но луна светила вовсю. Как в последний раз.
Василий разглядел шедшего ему навстречу Идрисова на фоне реки. Метрах в пятнадцати тот остановился, снял рюкзак и повернулся лицом к воде. Холодной воде неизбежного. Удивительной иногда чувствительностью к судьбе обладает древняя человеческая натура.
Начальник охраны, похоже, отстал. Василий поднял ружье, прицелился и выстрелил: Идрисов резко развернулся в его сторону. Зеленин тотчас выстрелил второй раз – инспектору показалось, что первый выстрел был неудачным. Ему показалось…
Перед безоружным начальником охраны стоял человек в плаще с капюшоном и с ружьем. В уголовном деле есть показания Юрия Агафонова: «Зеленин выстрелил и начал поворачиваться ко мне лицом, он практически посмотрел мне в глаза – и я побежал от него: чем дальше, тем лучше».
Светлана Гаевская рассказывала, что Василий вернулся домой в три часа ночи, не как обычно – до полуночи. На вопрос, что случилось, он ответил с подозрительным ударением на первой половине фразы: «Со мной – ничего». На следующий день, продолжала Гаевская, прибыла «коммерческая группа».
А вскоре Василий ушел встречать директора и начальника охраны заповедника. Никто не догадывался, что он шел встречать их уже второй раз. Его еще не было, когда с Цитринов пришло радиосообщение: появился начальник охраны и сказал, что директор убит или тяжело ранен. Гаевская сразу передала это в город.
– На мои порывы бежать туда, куда ушел муж, телохранитель бизнесмена сказал: «Ты что! Тебя там пристрелят точно так же! И если все пойдем, будет то же самое! Сиди на месте. Может быть, это беглые зэки – они могут напасть на кордон».
А когда Василий вернулся, все бросились к нему. И он подтвердил: да, я нашел труп директора в воде. Ну, мужики сразу налили ему, язвеннику, ударную дозу водки, после которой началось обострение болезни.
Прибывшая из Красновишерска оперативно-следственная бригада обнаружила труп директора в реке, чуть ниже того места, где лежал рюкзак Идрисова.
Милиция задержала начальника охраны и увезла в город. И только через неделю Агафонов назвал имя убийцы. Почему не сразу? Вероятно, просто не хотел выдавать. Зеленин пользовался авторитетом среди работников заповедника и местных жителей.
В том году Василию Зеленину исполнилось тридцать три года. Возраст Христа, заповедь которого – «не убий» – он отринул.
Василий приехал в заповедник из-под Ленинграда. Он даже не охотился, как ему разрешалось делать это за границей заповедника, в восьми километрах от кордона. На упреки жены отвечал: «Мне жалко…»
Он служил в армии, но был комиссован. Окончил два курса лесного техникума. Молчаливый, сосредоточенный, самоуглубленный человек. Интроверт, как говорят психологи. Любил жену. И тайгу, в которой работал. Ни один человек на Вишере не сказал о нем худого слова – исключительно положительные характеристики. Прямая противоположность директору.
Зеленин мог пристрелить безоружного свидетеля. Мог сбежать, уйти в тайгу через хребет и уехать в казахские степи. Но он сидел на кордоне и ждал, когда за ним прилетят. Он мог молчать или отказываться, но он признался сразу.
Из показаний бывшего бухгалтера заповедника. Вот что говорит об Идрисове она: «При поступлении денег по целевому назначению – на зарплату, налоги – требовал эти деньги на другие цели. Учет до меня был слабый, некачественный, так как директор брал большие суммы, своевременно не отчитывался… Поэтому установить, где находится то или иное оборудование, предметы, которые купил Идрисов, невозможно было.
Когда в заповедник завозились вышестоящие лица, которых Идрисов называл „денежными мешками“, то директор требовал по рации: продукты, оставленные отдыхающими, ставить в подотчет Зеленину и Гаевской, удерживая из зарплаты. Не оплачивал им „полевые“, ссылаясь на отсутствие денег.
Разрешения на въезд в заповедник на рыбную ловлю выдавались и регистрировались в бухгалтерии, а отдыхающим он выписывал сам или не выписывал – не знаю, регистрации не было».
Мне описывали такую картину. Отдыхающий в заповеднике поднимает утром похмельную голову и спрашивает: «Где мы?» – «В каком смысле?» – «Ну где – на Мойве или Чусовском озере?» Чтобы отдохнуть день-два, этим господам надо было затратить миллионов двадцать (в основном на вертолет). А они не понимали, где проснулись. Инспектора, получавшие двести тысяч в месяц и объедки со стола господ (в подотчет), дивились на ярких представителей власти и бизнеса. «А спросите у директора, где вы». – «А где он?» – «Вон, чай заваривает». – «Это директор?»
«Ханство» Идрисова строилось на том, что в современных заповедниках велика текучесть кадров. Он вербовал работников со всей страны – романтиков или просто неустроенных людей. От профессионалов избавлялся – научных сотрудников Колобаева и Колбина просто вынудил уйти. Они проводили собрания, забастовку, обращались к местной власти, в облкомприроды и департамент заповедного дела Госкомэкологии РФ. Все бесполезно! Я опубликовал в «ПН» статью «Лягушка в желудке хариуса» – о той критической ситуации, которая сложилась в заповеднике. Никто не обратил внимания. Статью перепечатали в столичной «Трибуне». И опять тишина. «Под меня копать бесполезно! – объявил Идрисов. – У меня рука в Москве».
Ученые уходили. Остальные отступали: хан вишерский!
Идрисов устанавливал личные контакты с представителями власти и бизнеса. Люди, которых он оставлял на работе, не должны иметь собственного дома, должны полностью зависеть от него. И не иметь собственного голоса, чтобы не подавать его. Он обещал человеку деньги, продукты, спецодежду, оружие. Потом забрасывал в такое место, откуда пешком не уйдешь.
Идрисов неоднократно оскорблял жену Зеленина, Светлану Гаевскую, но ни доказать это, ни справиться с блатным директором инспектор был не в состоянии.
Обо всем этом и очень многом другом говорилось на выездном заседании Пермского областного суда. В тайге свидетелей нет, там все один на один. Но когда встают десятки людей и говорят одно и то же, поверить можно.
Зеленин получил десять лет строгого режима. Так кто же он: просто убийца или жертва тоже?
Сам Идрисов убийцей не был – он был организатором процесса. Процесса, в результате которого люди становились трупами или инвалидами. Зеленин пошел на убийство сознательно и не скрывал своей миссии мстителя. Ни местная, ни областная, ни федеральная власти не защитили этот народ – это «быдло». Говорят, на суде Зеленину задали вопрос: кто дал ему право выступать от имени народа? По этому поводу смею высказать мысль: Василий Зеленин потому посягнул на Христову заповедь, что три года жил в самом центре заповедника преступлений. Насилие порождает насилие. И тот самый народ, свидетельства которого не оценили в народном суде, возмущается не только сроком лишения свободы, но и тем, что опять остались ни при чем те, кто готовил, организовывал, провоцировал моральную ситуацию убийства. Как у Высоцкого: «В заповеднике, вот в каком – забыл, жил да был козел отпущения…»
Никто не спорит, что убийство – преступление, тяжкий грех. Но еще вчера народу доказывали, что человека можно убить, если в этом есть революционная необходимость. Сегодня те же самые люди читают мораль о неприкосновенности жизни своим нищим согражданам, умирающим от голода и болезней. А народ думает: они, наверное, говорят о неприкосновенности своей жизни, а не нашей, не наших детей, погибших в Афганистане и Чечне. Поэтому Василий Зеленин – не первый и, скорее всего, не последний из тех, кто хранит в тайнике смазанное и незарегистрированное ружье.
Призрак, господа хорошие, бродит по Европе, по нашим бандитским городам и заповедникам. Призрак в брезентовом плаще с капюшоном и с ружьем. Могильщик, как назвал его Карл Маркс. Мститель, как называют в народе.
Я опубликовал свой материал в газете «Пармские новости», однако вокруг продолжала стоять таежная тишина – ни одного выстрела, не считая заказных убийств: киллеры стреляли из пистолетов, как из Калашникова – со страшной силой, вообще не поднимая предохранителя. Убийцы получали за свою работу доллары и отдыхали на Сейшельских островах, а Зеленин мотал долгий срок на чусовской зоне.
Меня тошнит от демонстрации агрессивного интеллекта выпускников спецшкол, где обучение ведется на иностранных языках. Милиция демонстрирует региональному и столичному руководству, что с убийцами она справляется щелкая пальцами: первый выстрел, второй, а при счете «три» автор уже сидит в камере. Для этого надо было так деморализовать начальника охраны заповедника, чтобы он начал ссать на допросах от страха: назовешь имя стрелявшего или сядешь сам, понял? Но самое главное, менты не могли быть уверены, что он вообще видел стрелявшего. Скорее всего, Агафонов первоначально настаивал именно на том, что не видел стрелявшего, потом – что не видел в лицо, позднее – видел, но не уверен. Значит, менты способны доводить людей до состояния полной гармонии с миром.
Андрей Матлин сидел на подоконнике и утверждал, что председатель Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч родом из нашей Самары. Да чего там Самаранч – Андрей всегда так: на вопрос редактора «Когда ты сдашь материал в номер?» задумчиво отвечал: «Понимаешь, ход ищу, самобытный, неординарный». И находил, зараза, только не к этому номеру газеты, а к следующему.
– Наш полковник рассказывал, с военной кафедры, в университете. Стоял как-то солдат из его части и долбил киркой землю, каменистую, где-то в Южной Германии. Кабель они прокладывали. Подходит полковник сзади и слышит, как солдат долбит и тихонечко комментирует историю: «И на хуя наши отцы эту землю завоевали?»
– Во бля… – рассмеялся я. – К чему ты это?
Я разглядывал большую голову с короткой стрижкой, с тонкой оправой очков. За бандитской внешностью коллеги скрывалось доброе сердце вогула-оленевода.
– Башкирию вспомнил, Капскую пещеру, – загрустил Матлин, которого только что назначили начальником отдела экономики газеты. Вот он и задумался.
– A-а! Кисловские болота, клюква… – протянул я. – Значит, и ты жил в пещере? Башкирский концлагерь. Народ, пришедший с берегов Аральского моря. Остров Возрождения, Ренессанс, полигон сибирской язвы. Евреи, башкиры. Скажи, друг, кому на Руси жить хорошо?
– Мне, – ответил печальный друг, которого все время тянуло на первобытную родину – в Капскую пещеру, в башкирский заповедник, в Аркаим, как меня – на Кисловские болота.
В тот день я с помощью друзей встретился с одним профессионалом, который, правда, попросил ни в коем случае не упоминать его имя в печати. Он сказал так: «Эта фирма, как вы знаете, называется „народным предприятием“, хотя на самом деле является закрытым акционерным обществом. Имена главных акционеров – физических лиц – никто никогда и нигде не называет. Так ведь? Нелегальные фракции крупных алмазов регулярно уходят на Запад за „черный нал“, минуя казну. Представляете, самые прозрачные в мире алмазы – за „черный нал“? Если назовете фамилию, меня закопают на большой глубине безо всякой драги. Понимаете? Это миллионы долларов, деньги, отобранные у детей и стариков».
Да, я получил в бухгалтерии месячную зарплату – каждый ставил свою подпись в ведомости через прорезь трафарета. Чтобы не видеть, сколько получают другие. Редактор придумал – умница. Что-то новенькое, из области рыночных отношений. Получил и, честно говоря, немного загрустил. Вспомнил слова известного пермского журналиста: «Плевать, что мы хорошие люди! Мы должны научиться зарабатывать деньги! Запиши: Виталий Якушев, полное собрание сочинений, том первый, страница тоже первая».
Короче, надо было действовать: прежде всего связаться с орехово-зуевскими ткачами, сормовскими железнодорожниками и мотовилихинской бандой Лбова. Последней группировке отдается архиважнейшее место в российском революционном процессе.
Открылась дверь, и в помещение отдела вошел директор заповедника Игорь Борисовч Попов.
– Что, мальчики-девочки, надеюсь, вино вы еще не пьете? – приветствовал он аудиторию.
– Конечно, нет, – тут же ответила за всех Светка Матлина, – в основном водяру хлещем.
Саша Корабельников быстро выяснил, что директор совсем не пьет – как верблюд, то есть вообще не употребляет спирт, водку, одеколон, тормозную жидкость и чистящее средство доя оконных стекол. Интеллектуал Корабельников был настолько деморализован этим фактом, что полчаса разглядывал лицо геолога, пытаясь увидеть на нем следы патологии, деградации и вырождения нации.
А я вспомнил друга Раиса, который к этому времени достиг такого совершенства, что уже не мог пить ни вино, ни водку и начал развлекаться по-деревенски: накапает своему коту валерьянки на пол и смотрит с блаженной улыбкой, как тот катается по ковру пьяный. Смотрит и вспоминает молодость…
– О, с сахаром! – улыбнулся Попов, пробуя чай из чашки доя гостей. – Захожу в дом – сидят как монархи, пьют «Ройял», обнаглели. И после третьей заявляют мне, что согласны с автором статьи: Идрисов, мол, действительно был организатором смерти, вроде наших промышленников, преступников, генералов и президентов. Представляете? Потом заявляют: «Голодные люди, жители Ваи, Велса, Золотанки, – и вы, сотрудники заповедника». Дескать, чувствуете разницу? «Да мы тоже не шибко сытые, – отвечаю. – И вообще, если так судить… Если говорить о холоде, голоде, значит, мы еще не люди?» – «Значит», – головой кивают и наливают по четвертой.
Мне пришла в голову интересная мысль, но Светка, матлинская жена, опередила меня, сорока:
– Директор заповедника, вы небриты – наверное, в театр не ходите?
– Скопление животных, имеющих четыре миллиона беспризорных детей, не имеет морального права называть себя человеческим обществом. О каком театре вы говорите, девушка? Какие бритвы? Надо соответствовать скотскому положению. Если любите театр, то должны знать о единстве формы и содержания. От русской культуры остался культурный слой – археологический.
Когда директор допил чай, я пошел его провожать, имея к человеку свои вопросы. Вообще, у меня было много вопросов – вишерские отпраздновали убийство Идрисова и тут же забыли о Зеленине. И в этом – вся печаль российского бытия. Куда пойдешь с этими вопросами?
– Игорь Борисович, вы провели в той тайге тридцать лет, – начал я, – случайно не слышали про человека, который прожил там сорок лет – один? Одни говорят, что его дом стоит у Курыксара, другие – будто из его окна видна северная часть Тулыма, третьи говорят о Ниолсе.
– А, его звать Фёдором Николаевичем, – кивнул седой головой Попов, – а живет в доме, построенном сто лет назад выше Лыпьи, но на левом берегу Вишеры. Когда-то он жил с отцом, братиком и сестрой на Шудье. Мать у них, говорят, рано умерла. Кажется, они из казаков. Я встречался с Фёдором Николаевичем в шестидесятых. Да, не любит он геологов.
– И еще вопрос, который не дает мне покоя. Не знаете, как так получилось, что в 1963 году попытка свалила всех бахтияровских оленей? А почему она не свалила их раньше, допустим в шестидесятом?
Мы остановились в вестибюле второго этажа – не потому, что Попов собирался спускаться на первый лифтом. Он думал.
– А ты знаешь, что вчера ваш Матлин пришел на презентацию журнала с бабочкой?
– Ты чего, Игорь Борисович, это его жена.
– Я имел в виду галстук. Ладно, при бабочке. Есть версия. Наша партия – геолого-съемочная, я имею в виду – проводила замеры уровня радиации в тех местах, в тот год, и зафиксировала двадцать микрорентген в час при естественном фоне пять. Я думаю, что виноваты атомные взрывы на Новой Земле, проводившиеся в 1961–1962 годах. Пыль, принесенная на Северный Урал ветром, оседала на склонах гор, и радиация попадала в раны, вызванные копыткой, разрушая костную ткань. Отсюда массовый падеж домашних животных – восемьсот голов, кажется. Знаю, что в прошлом году у Бахтиярова было восемьдесят оленей, но они уходят – вслед за северными. Для того чтобы пасти стадо, надо не менее пяти человек, поэтому Алексей с Петром справиться уже не могут. Ну, небольшую часть вырезали волки. Слышал, теперь домашние приводят в ноябре диких обратно, к себе на родину, в гости. Братья отстреливают трех-четырех на мясо, чтобы зиму прожить.
Я сидел за большим, как аэродром, столом и думал: именно с манси начинается деколлективизация сознания и децентрализация нашей жизни. Потому что вогулы обладают настолько развитым достоинством, самостоятельностью мышления и поведения, что столица для них находится только там, где они живут, а все остальное – провинция. На чусовской зоне православные и мусульмане посещают одну церковь. Человек счастлив настолько, насколько что-нибудь находится в его воле.
Вечером в редакции должна была состояться встреча с Сергеем Шахраем. Матлин утверждал, что гость занимал какую-то должность в московском Кремле, но мне это было по барабану и до лампочки. Просто редактор приказал ждать его.
– Сегодня был в клубе военного института, – рассказывал мне Матлин. – Представляешь, там над сценой висит громадный лозунг: «Россия была, есть и будет великой ракетной державой!» Я прочитал – и вздрогнул: всегда будет! ракетной! Написано в клубе военного ведомства. Господи, за что ты так наказал нас? И фамилию дал начальнику – не поверишь: Горынычев! Генерал Змей Горыныч. А ты говоришь – сказки.
– Я говорю? Отстань, кондуктор, какие еще билеты? У меня денег на бензин не хватает.
Шахрай появился через три часа после объявленного времени – черная кавалькада подкатила прямо ко входу в здание Законодательного собрания, куда допускались только «скорая помощь» и инкассаторский броневик, похожий на БТР-40 времен последней Отечественной войны, но желтого цвета, с зеленой полосой и логотипом Сбербанка – того самого, который ограбил российских стариков в 1992 году и на эти бабки понастроил себе зданий из красного кирпича и тонированного стекла по всей стране.
Я запомнил только один ответ чиновника из того коллективного интервью, состоявшегося в кабинете редактора.
Секретарша внесла поднос и поставила его перед гостем, усаженным в черное вращающееся кресло редактора. В центре подноса стояла одна рюмочка с коньяком. Шахрай вежливо кивнул. Я отметил персиковое качество кожи на лице гостя.
– Собираетесь ли вы баллотироваться в президенты страны? – спросил Андрей Матлин. Вечно он прикидывается придурком.
Чиновник опустил взгляд и начал думать.
– Да, только не в следующие выборы…
Когда интервью закончилось, секретарша унесла поднос с рюмкой, так и не выпитой Шахраем.
«Здоровье бережет, – злорадно отметил я, – готовится к смертельной схватке за российский престол. Как еще тысячи таких же больных претендентов на бессмертие. Зря ты это, Серёжа, сказал – не доживешь до следующих выборов, по крайней мере как политик. Корона нужна им, бриллианты, цитрины… Сморчки, если бы у них ума было столько же, сколько претензий».
– А ты знаешь, как «Шахрай» переводится на русский?
– Нет, – устало ответил я Матлину.
– Шахрай – вор, воришка, жук, жучок, жулик.
– Это с какого языка? – удивился я.
– С африканского.
Ага, а утром я решил опубликовать материал в столичной газете «Трибуна». Меня вдохновило шахрайское простодушие. В «Трибуне» опубликовали. Я добавил там кое-что к старому тексту:
«Инспектор Василий Зеленин знал, что делает, – и тогда знал, когда смотрел, как убегает начальник охраны заповедника, шедший в ту ночь за директором в сторону кордона Мойва. Инспектору было известно, что начальник охраны не вооружен. Что тот узнал убийцу. Что тут на сотню километров вокруг никого нет. Но он не стал стрелять убегавшему в спину – стащил труп директора в воду и пустил вниз по течению.
Рука инспектора Зеленина уже сжимала приклад охотничьего ружья. Если бы мы жили в прошлом веке, быть бы Зеленину при господах да на хорошей лошади. Ведь учился он в лесном техникуме, бывшем училище царских егерей под Санкт-Петербургом. Но после второго курса его забрали в армию. Вы, наверное, думаете, что там все страдают от неуставных отношений? Да нет, немногие – только те, у кого развито чувство собственного достоинства. Лишь такие люди могут дойти до камеры штрафбата, до больничной палаты или морга. Как Зеленин: после очередной разборки его пришлось оперировать, а потом комиссовать. Никого не судили. В техникум он не вернулся. Позднее с усмешкой вспоминал разговоры своих сокурсников о доходных местах: роль егеря или лакея на царских охотах его не устраивала. Василий Зеленин – чудак, молчаливый, самоуглубленный, думающий человек. Ни армейское, ни гражданское общество не приняло его. Поэтому он выбрал таежный кордон: чистая вода, шевелящаяся от хариуса, зеленовато-серые гольцы хребтов… Видимо, он полагал, что здесь попадет в другое время. Надеялся.
После армии Василий Зеленин лечился на хуторе у бабушки. И сегодня, уже отбывая срок, мечтает о том времени, когда будет жить с женой в одиноком домике, рядом с пасекой. Мечтает и в который раз перечитывает „Между волком и собакой“ Саши Соколова.
На кордоне Мойва Зеленин в свободное время писал стихи. Он отказался строгать рубанком в гостевом домике, но любил вырезать из дерева фигурки зверей, шпильки и гребни, которые потом раздаривал. Совершенствовал свой немецкий язык – готовился стать профессиональным переводчиком художественной литературы. Читал любимых писателей – Курта Воннегута и Гарсиа Маркеса. Да, того самого Маркеса, известного не только космическим талантом, но и революционными пристрастиями».
Мне рассказывали: после публикации статей прокурор района назвала гласность наглостью. «Гласность – это наглость!» – визжала женщина, советник юстиции.
Российский чиновник… Вспомните, это к нему обратился со сцены известный советский поэт Роберт Рождественский: «Мне твой взгляд неподкупный знаком…» Конечно, не все продается, что покупается, но это не про то. У нас продается. И не очень дорого.
Две публикации – ноль внимания со стороны власти. «Ага, – злорадно подумал я, – ты хочешь купить за тридцать рублей учебник по формальной логике и выучить все параграфы за одну неделю? Взять истину по дешевке? Написать две статьи, оправдать убийцу в глазах российского общества и по ходу дела решить вопрос бытия? Скорее тебя закопают у подножия Ишерима, чем ты этого добьешься. С другой стороны, без высшей справедливости жизнь не имеет смысла, даже в Капской пещере».
Полученный Василием срок, десять лет, Гаевская от родителей мужа скрыла, сказала, что шесть. Скрыла и еще один важный факт. От всех. От всех – кроме меня.
Цитрины – это центр мира, который открыл геолог Попов. Поп – служитель культа. Небо похоже на Свинимское плёсо. И я верю в Бога, но не в Христа, Магомета, Будду или редактора газеты. Не в начальника отдела или президента страны. Я в этих вообще не верю. Религия меня интересует с точки зрения литературного опыта и суггестивной практики.
В избушке на Цитринах пахнет деревом, хвойным лапником, лежащим на топчане. Говорят, желтый хрусталь можно найти в короне Папы Римского. Смогу ли я посмотреть на этот камень? Зачем Папе цитрин? Чтобы выглядеть значимее, чем я, бедный российский журналист?
Цитрины – точка, из которой Вселенная начала расширяться. Для Лёши Бахтиярова. Отсюда он рассматривает звездное небо. Там он видит искусственные спутники и еще что-то.
– Алексей, ты знаешь, кто такой Папа Римский?
Алексей не ответил, он посмотрел на меня своими узкоглазыми телескопами, будто на созвездие Большой Медведицы, очень Большой. Похоже, он прикидывал, разыгрывают его или нет.
– Папа – это глава католической церкви, римский шаман, – тихонечко улыбнулся он своей шутке.
Книги он, конечно, не читает, но транзисторный приемник слушает регулярно. Для него весь остальной мир – это эфир, не более. Звезды и эфир… Как для меня в детстве он был географической картой.
Правда, в детстве он читал книги про войну. Сейчас не читает. О чем он думает, Алексей Бахтияров? Может быть, вспоминает сезон 1963 года. Может быть, сейчас он сидит за Ольховочным Камнем, на берегу озера, откуда берут свое начало Велс и Большая Мойва. Там не одно озеро – раньше они были не такими, раньше, когда еще стоял чум Николая Бахтиярова. Раньше эти озера были Великими. Тогда, когда лодки еще делали из кедра. Тесали доски из ствола и делали лодку – «хап» по-вогульски. Может быть, он поднимается на Ольховочный и смотрит на запад, на молчаливую, серую тушу Тулыма, на Цитрины и Ишерим.
Рассказывают, что беспощадный охотник стал сентиментальным. На Мойве, бобровой реке, бобры появились снова – Алексей спрячется где-нибудь и с тихой улыбкой наблюдает за созидательной деятельностью зверей. Не стреляет…
Здесь каждый камень назван его языком. Не Тулым, а Лув-Нёр, не Ишерим – Сат-Хум-Нёл: нос, который принадлежит семи мужикам, семи братьям, которые здесь жили. Вогульская семья. Бахтияровы – эту фамилию им дали татары, которые пришли с востока, из бескрайней Сибири. Может быть, как раз сейчас Алексей минует Сат-Хум-Нёл, остающийся по левую руку, держит путь к Молебному Камню, где было то самое жертвенное место предков, где до сих пор лежат серые камни с желобками для крови.
– Идрисов не ел мяса, значит, он святой человек, как ты думаешь? – спрашиваю я.
– Он мяса не ел не потому, что любил или жалел животных. Он просто хотел прожить больше всех.
– Правильно. Бога, конечно, нет, но он должен быть. Поэтому человек и создал Его. А не наоборот. Вырубил из дерева. Потому что без высшей справедливости жизнь не имеет смысла.
– Бог есть. И смысл есть.
Это я вспомнил нашу встречу с вогулом на кордоне. А чего вспомнил-то? Чего ты там чирикаешь, вечность? Алексей наблюдает за полюбившимися ему бобрами, а Василий разговаривает через решетку с утренними синицами на чусовской заре. Кто сказал, что мне не нужна такая сильная воля, которая каждый день опережает разум?
Я продолжал читать прозу Бориса Пильняка, русского писателя немецкого происхождения, его «Повесть о ключах и глине». О том, как пятьсот евреев плыли в 1929 году из Одессы на историческую родину, где не были уже две тысячи лет. О храме Айя-София, в котором турецкие янычары в один день зарезали сорок тысяч греков. О Геллеспонте, анатолийских фиговых лесах и беспощадном солнце Палестины, где так хочется пить, пить и пить… И тут я натолкнулся на такой вот абзац: «…Впереди была Палестина. На Урале… где-нибудь около Говорливого или Полюдова Камня, выбился из-под земли студеный ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Проходил мимо этого ключа путник, наклонился, чтобы испить, – и не выпил ни капли, потому что вода солена до горечи, негодна для питья. Или прилег путник, чтобы испить, – и обжег губы, ибо горяча вода, как кипяток. Но путник встал, пошел дальше и забыл дорогу к этому ключу, забыл про ключ». Я продолжал читать дальше…
По работе в заповеднике «Басеги» инспектор Югринов помнил, что Идрисов отличается какой-то невероятной подлостью души. Это он внедрил в жизнь личную формулу «3–1». Он выдавал лицензию на отстрел одного лося в охранной зоне бригаде охотников и договаривался при этом, что мужики завалят трех при обязательном условии – одного ему. И никогда не смотрел, кого охотники валили – быка, лосиху или теленка. Да-да, русские браконьеры стоили того главного лесничего, который это точно рассчитал, как личную формулу. А в другом заповеднике, рассказывали, он сдавал соболей мешками. «Так что ты мне предъявляешь, сука голая?» – процедил Югринов, устремляясь к югу с ружьем, в стволы которого уже вогнал два патрона двенадцатого калибра, с жаканами.
Инспектор понимал, что времени остается немного, совсем немного, поэтому шел по тайге напрямик – поперек бурелома, болота и запаха багульника. Через полчаса, как он рассчитывал, два маршрута должны были пересечься – на берегу речки, в трех с половиной километрах от кордона. Правда, выстрел или выстрелы могут услышать приезжие, но сейчас это Югринова мало волновало. Потому что у Судьбы только одно имя… Он знал все трясины на этом пути – огибал их торопливыми шагами, а порой начинал бежать – там, где выходил на лесные поляны, освещенные полной и беспощадной луной.
Круглые свинцовые пули дождались своего часа – теперь ожидали минуты, последнего мгновения в стволах шестнадцатого калибра. Он стирал с лица пот и прилипшую паутину, косился на лунный диск золотой чеканки, придерживал рукой ружье, которое нес на плече стволом вниз, потому что начинался мелкий, уже осенний дождь, ранний гость.








