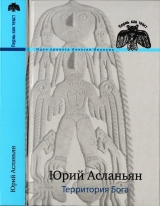
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
5
Старшему сыну Лидии Егорке было лет десять, когда кто-то из деревенских рассказал ему о судьбе его отца. Егорка взял топор и пошел к дому Ивана Григорьевича. В доме никого не оказалось, и он, как в припадке, изрубил топором дверь. Потом хозяева поймали его и избили, некому было заступиться за безотцовщину… Егорка отмахивался от жизни сам – рос угланом резким и смелым. Уходил из дома и спал в лесу, гонял на лошадях и бил острогой рыбу.
Егорка был почти ровесником моего отца. А матери, когда началась война, исполнилось одиннадцать лет.
«Мы с Егоркой землю весной боронили, босиком, а земля холодная, твердая – все пятки в крови. Лошадь раз по тридцать за день падала. Я тяну ее вожжами, тяну, вся вымотаюсь. Зимой-то лошадей соломой кормили… Да и сами ничего не ели, ведь наша семья беднее всех жила, коровы не было. Летом ягодами да рыбой кормились – женщины деревенские пойдут на реку, наловят три-четыре ведра, а мы, дети, сидим все вместе, чистим ее. Мать-то моя слабохарактерной была, но трудолюбивой. Осенью мы с ней ходили копать людям картошку, а зимой имели от них – кто мешок даст, кто два. Взвалю я мешок на санки и везу домой, а гора перед нашей деревней крутая-крутая… Но картошки все равно не хватало, и к весне дело доходило до пихтовой коры. Сушили ее, толкли, добавляли стакан крахмала или муки, если была, и пекли лепешки. Дерево ели. Когда снег сходил, откапывали на полях гнилую картошку – и ее ели. Потом я увидела, что полевые мыши прячут в норах зерно, под стогами. Я стала лазить в норы рукой, разрывать их, доставать зерно оттуда. Домой приносила – мать меня „мышкой“ называла… В сорок третьем у нас появился братик Витя – кормить его надо было. Сразу после войны я пошла работать уборщицей в школу, и мне давали по карточке пятьсот граммов хлеба. Я кусочек сама съем, кусочек домой несу. Открою дверь, а он сидит на печке – кожа да кости, ручки ко мне протягивает и лепечет: „Еб! Еб! Еб!“ – хлеб, значит. Парализовало его от холода и голода, тоже умер… Холод был такой, что Миша прямо в печку залазил, в русскую, и сидел там. Вот такая жизнь у нас была, японский бог…»
Егор повесился в пятьдесят шестом. Вся краткая и жестокая биография вела его к дощатому сараю в поселке Лагерь, где он задушил себя веревочной петлей. Дважды женат был. Троих детей оставил, как Павел. Первый раз его судили в семнадцать лет за кражу денег у старика, сторожившего колхозный склад с зерном. Суд проходил в сельском клубе Верх-Язьвы. Моя мать присутствовала на нем. «Он худой-худой, и одежда худая, а его судят. Даже судья тогда покорил сельчанам: как же вы, говорит, парня до лагеря допустили?» Год Егорка отсидел, вышел и почти сразу вернулся обратно в зону. Залез в колхозный склад и стащил муку. Товарища его, что с ним был, пощадили как хорошего колхозника, а Егорку – нет. И посадили парня за хлеб, как Павла Кичигина, когда тому не удалось спасти детей от голода. И Саша, сын Егора, братан и друг моего детства, отсидел недавно третий срок, – тоже сытым редко бывал. Наловит, бывало, щурят или хариусов в реке и жарит рыбу, поддерживая ее палочками над костром. «Хороши на мельнице мешочки, еще лучше – с белою мукой! Стащишь полмешочка, схватишь три годочка – сразу жизнь становится иной». Вот такой лесоповал, будь вы прокляты, голубые елочки! Подавитесь персиками, голубые шинели…
И отца судили – в сорок четвертом. Не вышел тогда на работу один из возчиков ПРК, который ходил за лошадью, таскавшей по узкоколейке платформу с бумажными рулонами. И на его место поставили Ованеса, с детства и до старости страдавшего страшными мозолями на ногах. Пошагал он за лошадью день, а на следующее утро не смог выйти на работу. Но больничный лист врач ему не выдал. Начальник ПРК Копылов подал на него за прогул. И на полгода лишили Ованеса пятой части зарплаты, наказали наказанного. Второй раз комбинат подаст на отца в суд через четверть века, но это дело у начальников уже не выгорит.
В сорок пятом Ованес (Иван) перешел работать слесарем в ремонтные мастерские, поближе к технике – тянула она его, как за рукав. И вскоре узнал, что в городе открылись вечерние шоферские курсы, пошел туда, но ему отказали – опоздал на месяц. Так он увидел, что преподаватель курсов, инвалид войны Михаил Николаевич Золотарёв, живший неподалеку, дрова у сарая колет. Он подошел к нему, взял колун и махом переколол все чурки. «Ладно, приходи на курсы», – сказал ему Золотарёв. И отец пришел, прихватив с собой друга-болгарина. Чтоб веселее было.
«Откуда на Вишере столько талантливых?» – спрашивают меня иногда. «На многих кровях замешаны», – отвечаю скромно. «Вишера – это котел, – говорит мой друг Женя. – Кого здесь только не было…»
За рекой, напротив города, поднимает тайгу к небу гора Полюд – ее видел из Чердыни еврей Осип Мандельштам. А под горой сидел русский Варлам Шаламов. По вишерской тайге уходил в свой последний побег эстонец Ахто Леви, написавший потом «Записки Серого Волка», – и в детстве, на Вишере, я смотрел фильм, поставленный по его повести.
Старожилы докладывали мне, что на Вишере доживали свой век личный врач Николая II и фрейлина императрицы, владевшая шестью языками (мои друзья учились в одном классе с ее внучкой). А курс по топливной аппаратуре читал моему отцу Василий Михайлович Кондарев, бывший полковник царской армии, очень хороший человек. И грамотный. Топливную аппаратуру мой папа знает не то что я – меня сержанты учили.
После окончания курсов отца определили слесарем в гараж, где все выпускники должны были пройти стажировку за рулем. И прошли – но ни прав, ни машин им не дали: машин не было. Тогда проломовец решил идти напролом! Они с другом, крымским татарином Амзаевым, оставаясь в гараже после смены, начали собирать свою машину. Они рыскали в поисках брошенных деталей, ремонтировали старые и собирали новые части, своими руками ковали в кузнице рессоры. Из воздуха и звездной пыли своей энергии они создали ЗИС-5! «В жизни раз бывает восемнадцать лет…»
– Успеете еще накататься, – сказал парням довольный начальник гаража, забирая у них технику.
Это был сильный удар. Только через два года отец соберет вторую машину, которую никто не посмеет тронуть. И он сам, намотав на колеса цепи, выкатит ее на дорогу, длиной в сорок лет.
Лицо и руки мужчины, как на картинах Рембрандта, освещает то дело, которым он занимается, а судьбу его определяет то, как он им занимается. В течение десятилетий мой отец, как птица, вставал в три часа ночи и вылетал в дальний рейс. Он оживал, он веселился, когда круто выруливал с бензозаправки на стокилометровую дистанцию Вишера – Соликамск. Сколько русских, армянских и татарских песен переслушал я, сидя в кабине его машины! И еще: с ним невозможно ходить по городу – друзья проходу не дают. Иван Давидович – это человек.
6
В ноябре сорок седьмого Паша Кичигина решила покинуть деревню и уйти в город. Может быть, не везде голод и нищета? В город перебрались двоюродные сестры, они говорили, что там можно поступить в школу фабрично-заводского обучения и получить специальность. И Паша уговорила Петра Егоровича Бронникова, директора верх-язьвинской школы, отпустить ее с работы. Добравшись до Красновишерска, она остановилась в бараке у двоюродной сестры Нюры. Мужчина со шрамом на лице, фронтовик Пестов, руководивший комбинатовской школой ФЗО, сказал ей, что набор уже закончен. Правда, одна девушка заболела, добавил он, принять можем, но только с паспортом – достань, получи паспорт. У колхозников паспортов не было, они не были гражданами Страны Советов. «Я пошла в райисполком, в милицию, а мне кричат: иди в колхоз! А я реву, я реву, не ухожу… лицо все обморожено, в коростах, валенки дыроватые. Хожу каждый день на базар и покупаю триста граммов хлеба – мать денег насобирала, дала мне с собой. И иду в барак».
Нюра во время войны возила в город на лошадях деревянные ружболванки для отправки на военный завод. А затем устроилась на работу в пригородный совхоз. Сколько помню, все болела тяжело. До последнего времени она жила с сестрой в лагерном бараке. В таком же бараке умерла другая ее сестра, Тася, учившаяся в сорок седьмом на слесаря-инструментальщика. Ее первый муж, дядя Коля Шнягин, отсидел двенадцать лет. «Золотые зубы за половник баланды вырывали…» Почернел он, высох в короткий срок и умер от рака желудка. Мы все любили его – плясать и работать мог сутками. Ягоды из леса на коромысле таскал – по два ведра. А что было, когда собирались все вместе! Пельмени да водочка в финском домике, дядьки и тетки, Вишера ты моя, Вишера, – «то не ветер ветку клонит…».
Выплакала мать паспорт за две недели. Поселили ее в общежитии – весело было, по десять человек в комнате. А потом приехала и Лидия Никаноровна, привезла доморощенный лен на продажу. Они вместе ходили на базар, и все вырученные деньги бабушка отдала дочери. И Паша купила «немного поношенные ботинки, платье вышитое, еще хорошее», другие вещи.
Полгода училась она на сортировщицу бумаги. Тут, в школе, познакомилась с девушками-немками, которых во время войны фашисты вывозили с оккупированных территорий для работы в Германию и которых после привезли на Урал – тоже для работы. И в городе впервые увидела крымских переселенцев. Больше всего ее поразили их каждодневные похороны.
И вот в мае, после окончания школы, Паша пошла на пристань – провожать своих. Тогда им выдали новое обмундирование: хорошее, добротное, мужское, не по росту и не по размеру. «Ботинки большие дали – ноги не поднять!» Бушлат, ватные брюки и гимнастерка достались Егорке, который после освобождения работал конновозчиком в лесном поселке Геж. «Сестра, когда мне валенки купишь?» – кричал он ей весело с телеги при встрече. А половину подъемных, пятнадцать рублей, полотенце и юбку Паша отдала матери. «Бабка русская – юбка узкая!» – дразнила, убегая, Лидию Никаноровну моя сестренка Аннушка, армянская кровь, в шестидесятом году. А тогда, в сорок восьмом, когда бабке было тридцать семь лет, она собиралась в самый дальний путь своей жизни.
В тот год вышел указ, по которому сельчане, не отработавшие определенное количество трудодней, подвергались ссылке. И в верх-язьвинском совхозе срочно начали искать таких. И конечно, нашли. Нашли Ивана Осиповича Собянина. И одну женщину по имени Клавдия – она дома шила, а муж возчиком в магазине работал. И бабушку мою со слабоумным сыном. Да почему их? «Да потому что водку с начальством не пили».
От Соликамска до Тюмени людей везли по железной дороге, а там всех загнали на баржу, и поплыли несчастные вниз по Оби, в страну хантов. Хохлов, кацапов и уральских чалдонов, мужчин, женщин и детей набили в трюм, посредине которого стоял… Как говорит моя мама, эта параша, эта публичная оправка больше всего изумила Лидию Никаноровну. Плыли долго, а потом долго шли пешком – в тайгу. Строили землянки. Но когда начались холода и пошел снег, охрана выгнала их оттуда и поселилась сама. А ссыльные спали на земле и работали на сплаве леса, по пояс стоя в ледяной воде.
7
Возвращались из армии солдаты и офицеры. Была радость: через семь лет нашел свою семью Армянак Асланян, увезенный в сорок первом в Германию. После прихода туда Советской армии он был призван в ее ряды и прослужил несколько лет на немецкой земле. Перед демобилизацией командир отговаривал Армянака ехать на Урал – догадывался, видимо, или знал точно, что ждет его там. Но Армянак не побоялся Урала. И нашел свою семью. Из красновишерского военкомата его направили в милицию, из милиции – в комендатуру, где и залепили красавцу-кавалеристу печать спецпересылки в документы. Через год после Армянака нашел свою мать танкист Андроник Егикян, сын тетки Тушик. «Приходи завтра отмечаться» – так сказали ему. Один вечер побыл танкист в бараке у матери, а ночью покинул город навсегда…
Шел сорок восьмой год. Армянак, как и Ованес в свое время, работал грузчиком. В ремесленном учился на слесаря Богос, самый младший.
И все они жили вместе в девятиметровой комнате, что в доме на Пролетарской. С одной печалью: главы семьи нет – деда Давида. И все эти годы Анна Михайловна, обижая упорством местных энкавэдэшников, искала своего пропавшего мужа. Под ее диктовку писались письма во всевозможные инстанции. Она отправила жалобу Берии! Нашла кому… Приходили безнадежные ответы, а Лаврентий Павлович объяснил женщине, что выслали их не как врагов народа, а как крымскую нацию, что почиталось, видимо, этим кремлевским козлом не больше.
А дед Давид никуда не писал, поскольку делать этого не умел – он крестики на бумаге ставил, о всесоюзном розыске не знал. И что было в доме, когда старик объявился сам! Зимой сорок восьмого года. Последние сто двадцать километров пути он провел в открытом кузове машины на сорокаградусном морозе. Восемь часов. Когда Ованес пришел с работы, он увидел в комнате отца: Давид сидел, опустив ноги в таз с горячей водой… Только с того света нельзя вернуться. Вот и собрались они все на далекой Вишере – все, кроме Гургена, оставшегося лежать в крымской земле.
Когда доярки уронили в колодец дорогое по тем временам железное ведро, рядом оказался семидесятилетний старик-армянин. Он спустился в колодец по срубу и достал ведро. Доярки были так удивлены и благодарны, что оставили бездомного старика при ферме. И пять лет провел Давид в одном из колхозов Свердловской области, пока не услышал про Вишеру, где живут ссыльные крымские армяне. «Он вообще был сильным, – вспоминает отец, – стариком пятидесятикилограммовый мешок за пятьдесят километров в город на плечах таскал. Аслан – это лев!»
Стар был уже лев. А без дела сидеть не мог – нанялся сторожить личные огороды. Стар был, плохо видел, и кто-то накопал ночью картошки с одного огорода. Хозяин, узнав об этом, избил старика. Давид прошел святой и трагический путь от Турции до Урала, пережив мусульманскую резню, фашистское нашествие и великое спецпереселение народов на север. Дед Давид, ровесник вождя народов, умер в один год с ним, навсегда остался лежать в сухом вишерском песке среди своих земляков-проломовцев. «Где ж ты был, Бог, когда гиб армянский народ? Амен. Амен. Амен», – пел под гитару мой ереванский друг Самвел Микаэльян, на волосатой груди которого висел золотой крест, подарок его деда.
Позднее строки эти стали эпиграфом к моему стихотворению: «Кто не забыл турецкий Трапезунд, войну в Крыму и ссылку на Урал, тот в этой жизни много повидал. Двух сыновей и первую жену Давида вырезали мусульмане. Амен. Давно, в последнюю резню, так далеко, что берега не видно. На пароходе в православную страну пришли армяне. Приемный сын ушел ко дну, родной в шестнадцать партизанил – и вброд не перешел войну. Амен. Давид Акопович скончался на Урале. Амен. В том самом приснопамятном году, когда и Сталин. Я призываю к Страшному суду. Отец, я помню, говорил: Давида брат, Ерванд, служил священником феодосийской церкви – и звезды в скорби над Понтийским морем меркли, когда он руки к небу простирал, как будто бы руками поднимал тяжелый камень. Нет нор, нет гор до небес, сер черт, бур черт, все одно – бес! Амен. Амен. Амен».
8
Лето сорок восьмого года было холодным и дождливым. Пашу Кичигину вместе с другими девушками, окончившими школу ФЗО, отправили в родной колхоз – Верх-Язьвинский. Только матери, Лидии Никаноровны, там уже не было. И два месяца Паша серпом жала хлеб – в ботиночках, поскольку сапог не имела. А когда вернулась в город, у нее на спине, у позвоночника, появился гнойный нарыв, увеличивавшийся с каждым днем. И как-то в цех завезли бумагу, и сортировщицы бросились разбирать ее, толкая друг друга… Оперировал Пашу врач по фамилии Шишкин, переселенец тридцатых годов. От боли она кричала. Потом услышала, как Шишкин сказал медсестре: пятьдесят кубиков гноя выкачал. После больницы она работать не могла, тогда комбинат в форме премии выдал ей пятьдесят рублей. На одной каше жила. «Доход с котелком, ты куда шагаешь? В райком за пайком, разве ты не знаешь?»
А на танцах в общежитии играл Иван Вихров, на танцах собиралась трезвая молодежь, пришел и спецпереселенец Иван Асланян. Для отца сорок восьмой год вообще был счастливым. Собралась семья. На своей землячке, Маргарите Оганян, искусной портнихе, женился Армянак. Правда, Ованес, родной брат, на свадьбу не явился: даже в этот праздничный вечер у него не хватило сил оторваться от руля ЗИС-5, второй машины, которую он собрал «из-под забора».
Ованес возил лес на комбинат, где из древесины делали целлюлозу. Чаще всего машины ходили в поселок Нижняя Язьва. Бревна поднимали из реки по лесотаске и грузили их на лесовозы. Тогда в гараже насчитывалось уже более полусотни машин – ЗИСов и «студебеккеров». Шоферам выдавали полушубки и валенки, их работа ценилась – и в деньгах тоже.
То вязкими, то скользкими были таежные дороги. Отец научился водить машину по узким лежневкам, а в гололедицу наматывал на колеса цепи. Старые вишерские шофера – это характер, рисковый и твердый, как сталь цилиндровых клапанов, из которой получаются хорошие охотничьи ножи. Один из этих старых водил, помнится, рассказывал мне случай: машина отца забуксовала, колеса вращались в грязи быстро и бесполезно. Он газовал-газовал, выскочил из кабины, снял с плеч новенькую фуфайку, швырнул ее под заднее колесо – и выехал. Что свадьба, себя не помнил, когда сидел за рулем…
«Мы часто поздно возвращались, косясь на время по привычке, и между век, чтоб не смыкались, вставляли на рассвете спички. Мы просыпались от удара, когда, осклабившись с налету, за лобовым стеклом волчара скользил когтями по капоту! Куда вела дорога эта? Если вела она не в рай, то выводила на край света, не раз хватая через край. В стакане плещется немного мной не приконченной печали… Так укачала нас дорога, что и врачи не откачали…» – это стихотворение я написал позднее, в память о Паше Пашиеве, напарнике отца.
Вишерские шофера… Сначала отец работал один, но потом у него появились напарники. Первым из них был Иван Шишкин, сын того самого врача-переселенца, который оперировал мать. Второй – Фёдор Шадрин, фронтовик, освободившийся из Вишерского лагеря. Это с ним они поехали в Березники за трубами и засели у крутой горы – порожний лесовоз не смог одолеть гололедную дорогу. Тогда они достали топоры и, стоя на коленях, за четыре часа изрубили четыреста метров подъема. И только поднялись в гору – мотор «застучал». Приехали в город, сняли картер, поставили вкладыши в шатун коленвала – и еще день ушел. И день грузились. И обратно – сто шестьдесят километров – сутки под колеса. В тот год, когда отец выходил на пенсию, Соликамскую дорогу заасфальтировали. Вот жизнь, японский бог, как говорит моя мама… Сорок лет проехать, чтобы вырулить на асфальт – и сойти на обочину.
Третьим напарником отца стал Паша Пашиев, тоже бывший фронтовик и зэк. Он вышел из Ныроблага в 1949 году и остался на Вишере, и жена приехала к нему из Кировской области. Я хорошо помню, как Пашиев приходил к нам домой – с мороза, веселый, угощал меня и сестру шоколадными конфетами. За несколько лет до смерти Паше – так звал его отец – ампутировали отмороженную ногу. Он подолгу сидел на лавочке под солнышком, и мужики подходили к нему, закуривали. А теперь шоферит его сын Валерий.
Зимой сорок восьмого отец повез бумагу, рулонами стоявшую в кузове под брезентом, в Соликамск. «В два яруса грузили!» Заправил бензином один бак, поскольку всегда хватало столько. Вырулил по старому Чердынскому тракту в чисто поле – и попал в непроглядную белую метель. «Выскочу из кабины, лопатой снег отброшу, заскочу – опять занесло». И так на шестнадцать километров сутки ушло, а за два километра до деревни Федюнькино сгорели последние капли топлива и мотор заглох. Вокруг ни души. Но уйти побоялся: машину могли обчистить зоновские шофера, курсировавшие по тракту. Допускать такую оплошность спецпереселенцу было накладно. Голодный, он двое суток провел в промерзшей кабине. Утром его нашли местные жители, шедшие на лесоповал. Отца загрузили в сани и отвезли в деревню, обогрели, накормили картошкой и хлебом-ярушником. Потом пришедшие с Вишеры машины дали ему бензин. И домой он вернулся на пятые сутки.
Отца всегда уважали – за бешеное трудолюбие, за ум, за веселый нрав. Поэтому когда он женился, начальство выделило ему комнату в благоустроенной квартире, в центре города, радом с работой – для того времени это роскошь. Спецпереселенцу – такие условия! Старый лудильщик, живший с женой во второй комнате этой квартиры, был очень недоволен.
«Предатель!» – говорил он отцу в лицо. А старуха не пускала молодых на кухню и при удобном случае устраивала скандал. До моих родителей в этой комнате жила пожилая женщина-врач, приезжая. Лудильщик вообще довел ее до ручки. Женщине дали другую комнату, а там – такие же соседи. И она со временем тронулась умом, ненормальной стала. В нашей стране для нормального человека это еще не самый страшный вариант. Короче, дело дошло до того, что сосед ударил моего отца. Провокатор…
У нас дома хранится фотография голого по пояс восемнадцатилетнего армянина: карие с ясным взглядом глаза, аккуратно зачесанные волосы, рельефные мускулы рук и торса… Еще работая грузчиком на комбинате, отец на спор взвалил себе на плечи стошестидесятикилограммовый рулон бумаги и перенес его на другой штабель. За пятьсот граммов хлеба, как оговаривалось условиями пари.
Но в 1950 году отец был под комендатурой и не мог ответить лудильщику ударом, от которого летали и не такие бойцы. Они с матерью собрали все свои вещи – «две фуфайки» – и ушли жить в барак, до сих пор известный в поселке Лагерь под именем «девяносто шестой». И прожили в нем пять лет. А квартиру с удобствами получили только через двадцать.
Этот поселок называется так потому, что раньше в бараках действительно находился лагерь для заключенных. Пушкина, Маяковского, Островского, Толстого – так называются улицы поселка. Литературный городок! Переделкино, можно сказать. Здесь людей переделывали в лудильщиков. Только именем Максима Горького называлось пять улиц – первая, вторая, третья… Как же, основатель социалистического реализма, посетил острова Соловецких лагерей особого назначения и одобрил тамошнее переделывание людей. А Вишерский лагерь был четвертым отделением этого СЛОНа, хоть и находился на материке, далеко от моря.
Именами великих назывались убогие шеренги черных бараков и щитовых финских домиков, промерзавшие в зимние месяцы насквозь, настолько, что углы в комнатах покрывались изморозью. Я до сих пор не пойму, почему дома эти назывались финскими – сомневаюсь, чтобы наши благополучные северные соседи жили в таких условиях. И видел бы Пушкин улицу своего имени! Стал бы он писать «Бахчисарайский фонтан», если бы увидел, куда занесло крымских татар?..
В центре поселка находится заброшенный карьер, заросший травой, затопленный водой. Рассказывали, когда его рыли, из земли стали появляться черепа и кости. Экскаваторный ковш вышел на траншею, куда в тридцатых годах сбрасывали расстрелянных заключенных. Может, там были и останки моего деда Павла – в нескольких метрах от нашего финского домика. Так тесен мир, что с покойниками не разъехаться… И нельзя не задуматься, глядя в пустые и черные глазницы прошлого.
На Вишере, как в столице, собралась вся страна. Рядом стоял магазин «десятый», куда мы пацанами бегали смотреть на тунеядцев, высланных из Ленинграда. Они были молодыми, в интересных жилетах с блестящими пуговицами. Сегодня я думаю: ведь, наверное, кое-кто из них перенес в детстве блокаду? Так, может быть, в это же время разглядывали и Бродского? Посевернее нас. Мне достались поэты парфюмерии и карамели: они пили одеколон из флакона и откусывали конфетку, не снимая фантика. И пили Белое море водки. Наш сосед из дома напротив замерз на крыльце; из дома, что стоял справа, мужика вынесли в белой простыне, сильно подкрашенной кровью: жена отрубила ему голову топором. А Володя, восемнадцатилетний немец, проиграл себя в карты вербованным…
Хорошие люди, родившиеся в мертвой стране. Не жлобы, не жулики. Тысячи ссыльных, вербованных и освобожденных уходили как песок с водой, оставляя в лотке крупинки золота. Лесорубы, сплавщики и шофера – с широкой костью, с веселой улыбкой… Вишера – храм человеческий, мое болото, над которым летает кулик и поднимаются желтые ягоды спелой морошки. На Вишере пахнет водой, молевым сплавом и сосновой корой, пахнет черничным вареньем, от которого темнеют зубы у пацанов. Простите мне эту слезу…








