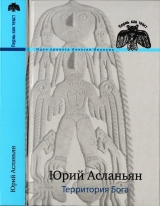
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Саша Сумишевский
Над Вижаихой, над всей Вишерой – сухое, ясное, рассеченное реактивным следом безоблачное небо. Каждый день какой-нибудь военный самолет, истребитель, летит к Ледовитому океану. А пацаны лежат на белом песочке, смотрят вверх и щурятся от солнца, загорают – ждут, когда на груди останется белый след от песка, выложенного в форме парящего орла. Саше тоже хочется стремительно подняться вверх, облететь земной шар и увидеть весь этот невероятный мир, в который он, Саша Сумишевский, попал, наверное, каким-то чудом – а как иначе?
Саша еще не знает, что, если идти на север все лето, до палевой травы осени и первого снега, до водопадов Жиголана, которые в декабре спускаются с неба голубым льдом, и дальше, до каменных идолов Мань-Пупы-Нёр, идти и идти – до самого Ледовитого океана, то можно не встретить ни одного человека, никого, кроме дикого оленя, полярного волка и сверхзвукового истребителя, пролетающего в сухом вишерском небе с боевого задания, связанного с охраной воздушных границ самого великого в мире государства.
Вижаиха, впадающая в реку Вишеру, – белый песочек, черная вода нашего бесценного цыпочного детства.
Саша вырос на улице Островского, а я – рядом, на Маяковского, в поселке Лагерь. «Все писатели сидели здесь», – шутил он позднее по этому поводу. Но нет уже того двухквартирного финского домика, в котором светловолосый мальчик жил со своей матерью, приехавшей сюда из Курска по вербовке для работы в геологической партии, где она познакомилась с будущим мужем, поляком по национальности.
Родители развелись до рождения сына. Позднее отец работал в Ростовской области, откуда приходили алименты, иногда в натуральном виде – гречкой, пшеницей и даже семечками. Так расплачивалось социалистическое государство с колхозниками…
Все лето Сума, как звали его пацаны, проводил на берегу Вижаихи, в двухстах метрах от дома. Черные сатиновые трусы, кусок хлеба с маслом, посыпанный сахаром, – что еще надо гениальному человеку? И лесотаска на берегу речки: чах-чах-чах-чах-чах… Бревна укладывались в длинные, высокие штабеля. Какими они тогда казались высокими, эти штабеля… А неподалеку от дома сидели на дощатом щите гидранта мужики: «Гуси-лебеди! Барабанные палочки! Дед!» В лото играли. В кинотеатре шли «Три мушкетера», а рядом, на «милицейской горке», в сосновом бору, – танцы.
Мать, Анастасия Игнатьевна, вкалывала – катала баланы на лесной бирже, получала шестьдесят рублей в месяц, работала женщина. Саша пилил и колол дрова, носил на коромысле воду и ремонтировал электропроводку. Два года учился играть на баяне, который-таки купила упорная мать. Но и за учебу надо было платить…
В пятом он остался на второй год. Потому что никогда не делал, чего не хотел, а делал только то, что хотел. Доверял себе, углан лагерский. «Не помню, ты школу, кажется, с золотой медалью закончил?» – спросил я его, знаменитого человека, в мегаполисе, где мы встретились через тридцать лет. «Да, в седьмом классе – экстерном…»
В доме Сумишевских был старенький проигрыватель и только одна пластинка – с песнями Клавдии Шульженко. Однажды галактика этой пластинки выскользнула из рук Саши, упала и разбилась на несколько черных сегментов, безмолвных, как небо ночи. Пять минут он плакал над ними, кусая от досады пальцы. А на следующий день начал петь сам, подражая голосу великой певицы.
Профессионально-техническое училище по старинке называлось «ремесленным». Там, в длинных коридорах, в перерывах между занятиями, началась артистическая карьера Александра Сумишевского. Он, подвижный, как коленвал двигателя внутреннего сгорания, куражился, изображая других, пародируя известных певцов и собственных педагогов.
Сколько лет прошло? Всего тридцать. Саша был за дощатыми кулисами, поэтому не слышал, как говорили в толпе зрителей на праздничном открытии сезона в парке культуры и отдыха: «Сейчас, сейчас, сейчас Сумишевский выйдет». И он выходил – подросток, экстерном вылетевший из нашей средней школы.
Саша прислушивался к себе. И никогда не слышал от матери бранного слова в адрес отца, которого никогда не держал за руку. Поэтому в пятнадцать лет решился: сам купил билет на автобус до Соликамска, где впервые увидел железную дорогу и поезд, который домчал Суму до самой Москвы. В столице мальчик закомпостировал билет до Ростова. За окном – южные степи, пирамидальные тополя, бесконечные виноградники. Владислав Людвигович работал пастухом в ста километрах от Ростова. Сводная сестра была на год младше Саши. Сели за стол, отец – красивый, высокий, с вьющимися русыми волосами – заплакал… Подарил сыну часы – первые часы в жизни Александра.
Однажды Владислав Людвигович купил лотерейный билет, в котором с выигрышем не сошлась одна цифра – и он тут же ее подделал. Жена, когда узнала, что муж выиграл, заревела от счастья: мотоцикл «Урал» по тем временам равнялся годовой зарплате. Завидовал весь колхоз! Владислав приехал в столовую, заглянул к посудомойщице. «Хочешь, подарю?» – «Хочу!» – «Сходим один раз в кукурузу?» – «Сходим!» – «Я только домой съезжу – у жены разрешение возьму», – кивнул Владислав.
Самолет Ан-2 опрыскивал поля ядохимикатами, часто пролетая рядом с высокой трубой маслозавода. Председатель публично не раз предупреждал пилотов, чтобы они так более не шутили. А летчики только усмехались нагло… И вот появилось объявление, что в субботу, в семнадцать ноль-ноль, на площади состоится суд над летчиками. Такого там еще не случалось: собрался весь колхоз на майдане – с детьми и стариками. Стали ждать начала суда. Ждали долго, настойчиво, недоуменно, пока не сообразили, кто бы мог написать это объявление: опять Сумишевский купил, за лотерейный билет! Советские люди, дети идеологического чародейства, безоговорочно верили не только печатному слову, но и написанному от руки веселым колхозным пастухом.
Светловолосый мальчик вырос в поселке Лагерь, созданном для уничтожения людей. Он никогда не знал, что это такое – лавочные плахи северных деревень, лоснящиеся от прикосновений времени. Все, что встречалось вокруг, уничтожалось на глазах, сжигалось, оставляя паленые стены бараков. Опротивел ему черный цвет пожарища, серый и белый цвета опротивели ему тоже!
Саша начал буквально блистать на сцене Дома культуры бумажников и летних эстрадах городского парка, где собирались целые толпы его поклонников. Стандартные клоунады для рыжих и красных клоунов, миниатюры Министерства культуры становились спектаклями, которые демонстрировал городу замечательный второгодник Александр Сумишевский.
Да, скоро Сума пошел на взлет: для начала – в солдатский эстрадный ансамбль при полковом оркестре, потом – в институт культуры, позднее – в ансамбль «Контраст», который возглавлял известный певец Виктор Руденко.
– Ты кем работаешь? – спросил Владислав Людвигович сына, когда Саша навестил его в очередной раз.
– Артистом, – ответил Александр.
Отец внимательно посмотрел на него, усмехнулся – в него пошел парнишка, мастером будет по розыгрышам.
– Да нет, ты правду скажи!
В 1983 году Саша стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, который проходил в Москве. Выступление Сумишевского, исполнявшего музыкальные пародии на известных певцов, показали по Центральному телевидению в спецрепортаже, а затем – в передаче «Утренняя почта». О нем написали в газете «Советская культура» и журнале «Эстрада и цирк». Это была всесоюзная известность!
В результате он попал в график Росконцерта. Начались гастроли, на которые Сумишевского приглашали без остановки. Вот, вот когда он облетел всю страну: «Парад пародий» в Лужниках в Москве, фестиваль «Утро Родины» на Сахалине, концерты в Калининграде, Одессе… И наконец выступление в Ростове, куда приехала из деревни сводная сестра. Если отец собирал майдан, то Саша – стадион, пятьдесят тысяч зрителей. Пастух поверил: сын стал известным артистом, переиграл отца… Он обрел отца и начал собирать не майданы, а стадионы и более – всю страну у голубого экрана телевизора.
Саша стремительно поднялся вверх, в небо своего детства, – ни долларов, ни спецшкол, ни сотовых. Потому что человеку надо черного хлеба, можно – с белым сахаром, и немного сухого вишерского неба.
Сумишевского на всю Россию демонстрируют центральные телеканалы, а Саша до сих пор не может расстаться с гордостью лагерского второгодника: «Да, было дело – меня вся Вишера знала!..»
И вот он опять появляется передо мной в темной комнате в белом костюме – на голубом экране телевизора и тихо так произносит: «Это я – Сума, мальчик с Вишеры…»
Из показаний и воспоминаний Василия Зеленина: «Потом я подумал, что если не сознаюсь, то милиция и дальше будет терроризировать других, ни в чем не виновных людей. Не оставят в покое начальника охраны, крупные неприятности ожидают Югринова, у которого был мотив…
В содеянном я не раскаиваюсь: для Идрисова человек, не имеющий денег, ничего не стоил. Поэтому убить его мог кто угодно… Вооруженных людей на севере много. Но убил я… Конечно, были варианты другие – Астрахань, Дальний Восток, но мне со Светланой выпала Вишера…
Вообще-то характер у меня спокойный. А в тот вечер я ощутил какой-то душевный порыв: другого такого случая не будет!
Вы знаете, Белков, бывший начальник охраны, признавался мне, что Идрисов задумал подбросить в наш дом капкан и мясо, чтобы убрать меня с женой, выгнать с кордона как браконьеров или посадить».
Я вспомнил Белкова, который вскоре покинул Вишеру. Этот биолог передвигался по России как белая точка, одиночный выстрел, одинокий самолет на экране радара.
– Идрисов вообще вел себя так, будто каждый день подозревал о своем божественном происхождении, – заметил Белков, прикуривая сигарету от зажигалки, когда мы сидели с ним в вишневом жигуленке у вертолетной площадки нефтяников в Красновишерске. Он смотрел в небо и ждал появления в пространстве той самой точки, имя которой – Судьба…
Да, у судьбы есть только одно имя – имя собственное: Судьба. Эта хитрая бестия способна так аккуратно причесать твои вихры автоматной очередью, чтоб ни разу не задеть черепную коробку. А может вогнать пулю в спину, будто титановый штопор. Или свинцовый жакан.
Да, что такое Судьба? Это возможность, предел, который тебе предоставляет Бог.
Похоже, гениальные люди специально воспитывают своих детей посредственностями. Чтобы уберечь наследников от смертельных крайностей – трагедии нестандартности. То, что принято считать силой, на самом деле является слабостью. Такая мысль пришла Василию Зеленину, когда он читал книгу о семье Льва Николаевича Толстого.
Человек потому бросается в крайности, что не может выдержать на стремнине, где холодно, прозрачно, где никто тебя не увидит, не поможет, а мощное течение срывает твои ноги с разноцветных донных камней. У берега, на краю течения, легче жить.
«Судья: „Если все хотели убить Идрисова, то почему же убил именно Зеленин?“
Свидетель: „Просто он раньше других успел…“ Смех в зале».
Впрочем, публика оказалась столь же восторженной, как и жестокой. У публики девичья память и маразматические мозги. Фамилия свидетеля, который рассказывал суду о самом начале конфликта и его причинах, была Югринов. Ухо сжалось до игольного ушка – и суд бережно пропустил его слова мимо ушей.
В умах некоторых наших соотечественников, из местных, вертелись горячие вопросы. Почему Зеленин? Почему не Инспектор? Почему не Бахтияров, которого Идрисов выгнал с семьей из заповедника? Пять человек, из которых трое – дети, мансийская диаспора на берегах Вишеры.
Значительно позднее, когда мы встретились с Яковом Югриновым на Вае, Инспектор признался мне, что смотрел на Василия, сидевшего на скамье подсудимых, и завидовал ему – в том, что именно он пристрелил ублюдка. «А меня бы живьем никто не взял, – добавил он с усмешкой, – я бы ушел на тот свет – с компанией ментов, конечно».
Манси, ставшие диаспорой на берегах Вишеры… На берегах, что были исторической родиной – страной, которую сначала захватили татары, а потом русские, пришедшие с огнем, мечом и православным крестом. Искор, Ныроб, Чердынь – все погосты, форпосты ушкуйников, агрессивных новгородцев на востоке.
А кто решил, будто язычество хуже христианства? Бахтияров – язычник, но он не убивает людей. Даже рыбу и дичь не стреляет больше, чем необходимо. Консервы не ест. А православные сожгли протопопа Аввакума. Огнем и мечом уничтожили тысячи иноверцев в Азии. В результате сегодня идет обратная волна – откатная, от Ичкерии, Азербайджана, Казахстана… Сегодня волна обещает превратить Москву в город минаретов и медресе. Перенаселенный юг вот-вот хлынет на пустынный север, когда менты продадут Золотое кольцо за грузовик хурмы.
Ночами я мысленно продолжаю разговаривать с убийцей. «Ты помнишь Нагорную проповедь, Василий? Про „не убий“…» – «Я помню сотый псалом – псалом Давида: „С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие“». – «Сапер не имеет права на ошибку, Василий». – «Я не ошибся. Я считаю, что господа смогут существовать до тех пор, пока будут холопы».
Мошка на берегу Мойвы откусывает человеческое тело кусками. От комара остается на лбу кровавый мазок, сделанный из твоей крови. А что испытывает хариус, когда вода Ольховки насыщается хлоркой или борной кислотой? Вертолет поднимается вверх, и уже никто не может рассмотреть бортовой номер… А в стекло иллюминатора бьется изумленное насекомое, неспособное понять, отчего так стремительно удаляется земной шар и как оно попало в брюхо этой гигантской железной стрекозы. А куда, в какую пропасть мы падаем? Каждый день уносит бесценные жизни молодых соотечественников – тотальное жертвоприношение на серых чеченских камнях, в бандитских разборках и бытовых убийствах. Люди откупаются от собственной совести жизнями и счастьем своих соседей.
Яков Югринов, рассказывая мне на Вае о своей встрече с вишерским волшебником, вспомнил один из первых диалогов с этим стариком.
– Опять они за золотом пришли – вернулись. Они из великой страны мечтают сделать карьер, шахту, штольню… Нельзя допустить этого!
– А экономический кризис в начале века и Русско-японскую войну не вы организовали?
– А что, на пользу пошли?
– Я читал, что Волжско-Вишерское горное и металлургическое общество, акционерное, вообще не вышло тогда из тайги. Домны и заводские корпуса были взорваны… В таком случае, Фёдор Николаевич, вы черный колдун, а не шаман. Не белый колдун, я хотел сказать…
– Да хоть горшком назови, только в печь не ставь. Они приходили сюда, чтобы взрывать землю, мутить воду, отравлять воздух. Им нужны алмазы и хрусталь, золото, железо, молибден, нефть… Все, которые везут отсюда желтый хрусталь, цитрин, чтобы украшать им свои тщеславные головы, будут наказаны, сурово, по закону военного времени.
– Фёдор Николаевич, вы имеете в виду Папу Римского или покушение на него – тоже?
Кто-то копал землю в заповеднике, в центре Северного Урала. В поисках цитринов. Может быть, след тянется оттуда – от безумной жажды короноваться? А зачем человеку корона? Разве царь – это не человек, совершающий царские поступки?
Я вспомнил: дно Ольховки, Мойвы, Вишеры усыпано цветными камнями и похоже на цветочный газон. Камнями – цветными, овальными, отшлифованными водой и временем. И ничего более человеку не надо.
– Есть такие женщины: посмотришь и увидишь – залапанные. Ялта – залапанная. Я построю себе дом на границе Европы и Азии, в горах, в тайге, у истока Вишеры, – сказал мне на прощание Яков Югринов, переправляя нас с Валерой Демаковым через реку в лодке, когда мы объявили войну браконьерам, уничтожавшим кедр на правом берегу Вишеры.
Я сидел дома, расшифровывал магнитную пленку с голосом Василия, которую записала во время свидания Гаевская, дописывал материал. Кажется, журналистское расследование получилось эффективным и даже эффектным. Вечером домой залетел мой сынок Сашок, он рыл во дворе снег, поэтому был похож на маленького снеговика. Явился и заявил, что искал в сугробе цветы, «которые под снегом растут – подснежниками называются».
Так все мы в этой жизни – слишком буквально понимаем слова. Сказали нам «правда», «справедливость», «честь» – и мы пошли рыть сугробы, блаженные. Пошли – кто в Чечню, кто в тюрьму, будто обреченные – двинулись вперед по какому-то узкому коридору. Почему Зеленин не сбежал сразу? В перестроечной России мужика не смогли бы найти. Вполне. Один политический зэк рассказывал мне про другого – только уголовного, москвича. Тот сбежал из лагеря и пришел к семье. И никто его не искал – при советской власти! Пять лет он спокойно жил, дочку в садик водил. А один раз пятак в метро пожалел бросить – автомат сработал. Подошел милиционер, попросил документы. Так он, бедный, и попался – за пятак.
«Фраза Льва Толстого о том, что величайшей трагедией в жизни каждого является его спальня, еще в юности вызвала во мне протест и отторжение. И наверное, мое молчание на суде являлось нежеланием признавать собственное идеалистическое заблуждение. Может быть, причина – в элементарном стыде».
Господи, о каком стыде он говорит? Ничего не понимаю. Я снова включил диктофон…
Мне надо было найти Игоря Борисовича Попова, нынешнего директора заповедника, чтобы задать ему вопрос, всплывший по ходу дела. Я позвонил, узнал, что сегодня он читает лекцию с демонстрацией слайдов в зале Союза художников, где проходила выставка фотографий заповедной территории.
Напомню: месторождение горного хрусталя открыл геолог Попов, в том числе желтого, цитрина. Золото тоже он обнаружил. Он собственными руками построил избушку на курьих ножках, вокруг которой сегодня лежат на земле куски граненого кварца, прозрачные друзы. Ходить приходится по хрусталю. Древние называли его нерастаявшим льдом.
Склон Ольховочного хребта – это не сосновый бор: высокие мокрые травы, сухие ветки, паутина, чавкающая, затягивающая ногу почва. Прорезиненный армейский плащ не дает телу дышать. Идешь будто между воронками, оставленными взрывами: склон зияет ямами и шурфами, стенку осторожно тронешь лезвием ножа – и на ладонь вывалится прозрачный карандашик сияющего ювелирного хрусталика. Валяются лотки для промывки породы, ломы, лопаты. Хитники трудятся. Хищники.
Игорь Попов
В зале полутьма. Игорь Борисович стоял спиной к небольшому экрану и менял в аппарате цветные слайды, комментируя моментальные снимки минувшего:
– Тридцать лет назад – территория, которая еще не была охраняемой. В настоящий момент вы смотрите на заповедник глазами главного его разрушителя… До 1991 года самый главный нарушитель режима, которого тогда еще не существовало, – это, конечно, И. Б. Попов: разрушал камень молотком, стрелял глухарей… Это всё вы увидите. Я занимаюсь слайдами давно – с 1968 года. Я вам коротко расскажу о работе геолого-съемочной партии на территории «вогульского треугольника». Забрасывались мы в те сложные, застойные годы только вертолетом. Завозили всё – горючее, тринадцать бочек, до последнего сухаря и коробки спичек. Часть доставлялась вьючным лошадиным обозом – случалось, даже из самой Перми.
Это апрель-май. Обычно после Дня геолога – первого воскресенья апреля. Вот: 5 апреля 1983 года, если мне память не изменяет. Мы высадились на болото, в полутора километрах выше устья речки Хальсории, на правом берегу Вишеры. За восемьсот метров перетащили спальники, печки, топоры, продукты. Нарубили лапника, свалили сушину, вскипятили чаек. Четыре часа вечера. В десять часов у нас уже стояла палатка. Для этого надо выкопать шестьдесят кубометров снега, толщина которого составляла полтора метра.
Ну а тут другой день: высота конька у палатки – два метра пятьдесят сантиметров. Труба торчит. Туда надо спускаться. А мы, браконьеры проклятые, уже трескаем рябчиков. Весенняя охота на них запрещена была всегда. Каюсь, грешны: десять рябчиков мы тогда съели. Ну и несколько зайцев. Нет, я не ем, я фотографирую. Там была полянка, мы ее расширили – десять березок завалили, пять елок. Вручную. У нас была пила-«разлука» – «Дружбы», которая электрическая, еще не было.
Самый хитрый у нас – этот кадр, Чичерин, он же Видякин, Пузырихин и Корченюк. Бегал от советской власти по тайге до 1964 года, потом сдался. Самый старый работник Мойвинской партии, из Бобруйска, из-за рубежа. Из Белоруссии. Как только высадились, начал готовить ужин, пытался разломить ножом кусок соли – проткнул соль, и руку тоже. Ладошку. Ему выписали бюллетень на три дня. Стрелял рябчиков. В общем, занимался хозработами, а мы втроем расчищали аэродром, занимались подготовкой к полевому сезону.
А это уже к концу сезона, в сентябре где-то, в августе, построена избушка – на камеральный период. Обратите внимание: палатка всегда на каркасе, в идеальных условиях она выдерживает три года. Дров море. Потому что в любой момент летом температура может понизиться до минус шести. Последний снег у нас четвертого июля, а первый – двадцать третьего. Лето маленькое. В этой кастрюльке – рябчики, в уксусе…
– Всё еще те? – спросили из публики.
– Нет, уже другие, – улыбнулся Попов. – Тут соленый хариус, а тут – два ящика пряников. С хлебозавода номер два. Порядок у нас был всегда. Все, что временно, это вечно. Лагерь ставится трое суток. Я пятнадцать лет чистого времени прожил в таких условиях. Нарки, печечка – все продумывается.
Во, солнечный день, студенты шарашатся, рюкзаки надели – времени всего одиннадцать часов утра. На работу пошли. Ну это я вам сообщаю, по знакомству, – другим говорю, что тут семь утра. Собака Мойва, лаечка. За одну осень на речке Лыпье с ее помощью поймано восемь соболей. На диктофон записываешь? Смотри у меня!.. Это драга – пятиэтажное сооружение, в ста пятидесяти километрах южнее заповедника, моет алмазы. Такой вот она оставляет после себя техногенный ландшафт: валуны, глыбы, вода мутная. На речке Щугоре. Драга плавает и сама себе делает пруд. Загребает грунт – до двадцати метров глубиной, который внутри промывается, перемывается – и пустая порода уходит по транспортеру в отвалы. Пустая порода, якобы пустая. А на самом деле… За сезон добывается всего два ведра алмазов. У меня тоже есть алмаз, в стеклорезе – за семь рублей у китайца купил. На самой территории алмазных запасов мало – не больше трех ведер. Золота гораздо больше. Специализация партии была золотая, но, как это ни странно, у геологов ни одной золотой вещи нет – пропили, за стакан «Агдама» отдали.
Еще одно полезное ископаемое – горный хрусталь. Одно из месторождений – на Пропащей речке, другое – на Ольховке, еще в 1964 году, когда уже Попов был известен как главный склеротик Мойвинской партии, в двадцать четыре года: я не поставил треугольник через сто метров, рядом с ручейком. Через каждые сто метров у нас рылись шурфы. Проходчик пришел – треугольника нету. А, дескать, Попов – склеротик! И в двух метрах от ручейка давай копать – молодой, неопытный. Выкопал шурф, два метра по воде, – и вся вода ушла в кварцевую жилу. Пошел дальше, вверху уже начал закапываться – с сорока сантиметров пошел хрусталь. Притащил охапку. До 1989 года шла разведка месторождения. Попутно с добычей. До сих пор добывают хитники: таскают хрусталь, облучают его на Южно-Уральской атомной станции – он приобретает золотисто-желтую окраску и продается от двадцати до ста долларов за килограмм. А карат уже ограненного цитрина стоит от одного до трех долларов. Такие вот делаются деньги на нашем сырье, на моем родном сырье. А я нищий, блин, в натуре. Ну, мы ведем всякими методами борьбу там…
Одна из самых красивых речек на территории заповедника – это Вижай. Ялтын-Я – «Священная река» по-мансийски. Потому что вдоль этой реки, в укромных уголках, у манси веками стояли идолы, которым они поклонялись и поклоняются. Вогулы их сами рубят. И стоят боги в лесу по двести лет. Коля Бахтияров, который в 1977 году вырубил очередного идола, назвал его Андрюшей. Старый был Илюша. Потому что тогда у него, у Коли, сын родился Андрюша, а у меня внук – Андрюша… И поставил он Андрюшу на пять лет рядом с Илюшей – богову делу учиться. Спрашиваю Николая: «Ну, как там Андрюша – соображает что-то? Какая погода будет завтра?» – «Да! – говорит. – Молодой, ничего не соображает!» – «А старый чё говорит? Илюша?» – «А старый совсем уже из ума выжил!» – «Так у кого ума Андрюша набираться будет?» – «Так у него, у кого еще – наберется чего-нибудь. Но ты в маршрут иди – погода хорошая будет». Да, предсказывал погоду безошибочно!
В общем, иди за ягодами, за черникой. А брусника фотогенично выглядит, как видите. Я предпочитаю чернику. Земляника выше Лыпьи уже не растет. Где-то заканчивается и черемуха…
А теперь о количестве и качестве снега. Это снежник на восточном склоне Мансипала, есть такой хребет. Итак, 17 июня 1975 года: глубина снега порядка трех метров, протяженность снежника три-четыре километра и ширина метров пятьсот. Вот тут, в перволесье, у стволов берез вытаивают такие воронки глубиной до двух метров. Одну из них вы видите на слайде. Дерево начинает распускаться с 22 июня, появляются зеленые листья над снегом. Это фирн, он плотный: я могу вот здесь стать одной ногой с рюкзаком шестьдесят килограммов – и он будет меня держать. Приезжайте, смотрите. Далеко? Всего пятьсот километров напрямую. Я сорок тысяч километров наездил. За один год.
А это студенты отбирают геохимические пробы. Сейчас, правда, они уже все начальниками стали.
Исток Вишеры. Обратите внимание: навеянные снежники. Преобладающие западные ветры навевают такие сугробы, с которых можно упасть. Один геофизик упал – сломал позвоночник и гравиметр. Гравиметр жалко.
Север хребта. Чувальский Камень. Останец. Одиннадцать часов вечера, солнце еще не село, 22 июня 1974 года. Снежный склон. Студенты смотрят в бинокль, идет ли дым в лагере. Если идет, значит, ужин кто-то варит – можно возвращаться. Если нет, можно еще покататься на снежнике.
Порог на Малой Мойве, где позднее метеорологи устроили пост и определяли расход воды речкой, которая зажата между двух коренных берегов. Весной тут творится черт знает что…
Следы медведей. Они у нас добрые – за все время только два случая было… Весной в петлю попадется лось – приходит охотник, а там уже сидит медведь и говорит: «Лось мой!» Охотник начинает спорить, стрелять, но если даже в упор два раза выстрелишь – трудно сделать это удачно, чтобы наповал. Медведь успевает отвинтить охотнику голову.
Ну, вот Маугли у нас попался – ему медведь выдрал глаз, сломал ребра. Маугли левую руку ему в рот засунул, а правой резал живот ножиком. Пока медведь его грыз. Потом восемнадцать дней Маугли существовал с глазом, висевшим на ниточке, и с распоротым животом, в котором уже буби ползали. Володя давай ему марганцовкой промывать, а он – да перестань, все равно сдохну. А тот лубок ему, шину, глаз отрезал – выкинул. Через месяц Маугли уже пил водку с мужиками. Маугли? Это Ваня Нестеренко, сидел в Ивделе, потом работал проходчиком в соседней партии.
Так называемый камеральный день. Самую маленькую девочку посадили долбить гранит на горе Саклаимсори-Чахль, а мужики сидят у начальника – трафаретики из бумаги вырезают.
Хребет Молебный Камень, южная часть. Где манси приносят своим богам жертвы, которые я называю взятками. В платки, в узелки завязывают шерстяные шарфики, рубашки нейлоновые. В качестве подарков, чтоб соболь ловился. Если олень начнет помирать, идола можно и поколотить – плохо работает. У них отношения простые.
Гора Хусь-Ойка – тоже бог, визирь, помощник главного бога Ойки-Чахль, ферзь…
Родиола розовая – вылезает где-то в начале июня, внизу, около ручейков.
А тут рудорозыскные собаки. Применялись для поиска золота, меди и халькопирита – медного колчедана. Разных рудных проявлений. Колли, а были и эрдели – хорошо работали. И лайки. Порода тут неважна. И овчарки – одна девочка отдала мне свою собачку, чемпиона. Грин – мы его звали Гриня. Золота не было, пришлось взять у Стёпы. Он тут перед полем в ванной мылся, пьяный, упал – выбил три золотых зуба, да… И положил их в мой сейф на хранение. Я говорю: «Стёпа, нечем собаку дрессировать. Можно я твои зубы возьму?» – «Бери, – говорит он, – только не потеряй». Что я когда терял? А Грин был чемпионом области по общему курсу дрессировки, там он предмет находил среди других и тащил хозяину. А нам надо было, чтоб он золото нашел, сел рядом и гавкнул. И вот он, паразит, подбегает к этим зубам, а найти не может – там мох, трава, у него морда тупая. Он чует, что тут где-то, начинает интенсивно рыть – и пока я эти десять метров бегу, там уже куча всего. Я его отталкиваю, он рычит на меня: дескать, сам вали отсюда – я золото ищу, а не ты, у тебя вообще нюха нету.
Один раз девушки его натаскивали. Стёпа кричит: «Я твоего Гриню зарежу! Там бабкин червонец, десять царских рублей!» – «Зарежешь, – говорю, – это чемпион города и области!» Как оказалось, Гриня быстро нашел зубы, в пасть взял – и сидит, молчит. Они ему: повтор! Он раз – и гавкнул, и зубы проглотил. И морду такую удивленную сделал. Три дня мыли золото – не вымыли. Гриня, видимо, через час или сколько отрыгнул где-то зубы – и всё, потерялся царский червонец. Кончилось тем, что я его выучил – все нормально. Отдал его девушкам, они стали работать и нашли золото.
А это гвоздика, которая растет на карбонатах, на мраморах. По ней и ориентируешься.
Олени. Теперь оленей нет, манси спились. Лёня Онянов, который зараз заваливал по три зверя в одной берлоге. Его медведи и съели, 8 мая прошлого года. Пошел петли проверять. Один рюкзак от него нашли.
Манси Мирон ремонтирует нарты. Вот эта деталь – из черемухи, эта – из березы, эта – из елки. Полоз – из красной елки, которая растет на болоте и устойчива к стиранию. На нартах ездить вообще цирк: олени натренированы до упора. Узкая дыра на тропе, между деревьями, – они все четыре в нее лезут, друг на дружку. И им наплевать, зацепилась у тебя нога за березу или нет, оторвалась или нет еще…
Гора, рядом с перевалом Испугавшегося оленёнка. С той стороны начинается река Вишера. Там есть потрясающий каньон – с пятиметровыми сосульками.
Лодка-вишерка. Толкаешься шестом, умеешь – десять километров вверх по течению, не умеешь – три, но вниз…
А это вертолет – за нами прилетел…
После другой, более быстрой публики к Попову подошел я. Задал свой вопрос. Игорь Борисович, собирая лекционный реквизит, вздохнул, покачал большой светловолосой головой.
– Как говорит один знакомый финансист, ни копейки сомнения: так оно и было. Идрисов был похож на моего младшего сына – тот, когда по разным каналам мультики идут одновременно, смотрит сразу два телевизора. Только что сейчас об этом говорить? Вы меня поняли? Кстати, Алёша Бахтияров передает вам привет и говорит, что он не вогул, а манси! Вогулы, говорит, это не мы, а какие-то другие племена.








