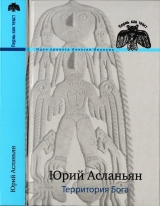
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Я оглянулся вокруг: Пермь, бараки из кирпича, каменный век. Я оглянулся еще раз: гигантские папоротники, акулообразные рыбы, пермский период. Полный мурчисон. Или поток сознания: «Мы не ведаем, не знаем, где живем, кому служим и за сколько, что поем, почему ночами пьем – по воле рока, не догадываясь даже, как умрем. Начинается печальная дорога, появляется прощальная тревога. Я вернусь, я говорю, что я вернусь, и прошу о снисхожденье – ради бога. От окна в автомашине отвернусь – что манило, то минуло, ну и пусть! Люди скурвились за бабки – ну и ну… Вообще, я с этим Богом разберусь. Если голову направо поверну, то увижу, может, голую луну – полнолуние пугает и сулит пулю в лоб, горбатую страну. Ничего, что не забыт, не знаменит – все равно что ровной строчкою прошит. Я молчу, я понимаю, что молчу, и страну благодарю, что не убит. Мы не ведаем, не знаем, где живем, кому служим и за сколько, что поем, почему не ставим Господу свечу и не молимся на пламя перед сном».
Борис Пильняк, прилетавший на Вишеру в 1925 году на самолете, позднее был репрессирован и реабилитирован. Кстати, памятник Железному Феликсу, вывезенный из Красновишерска в неизвестном направлении, недавно обнаружен на постаменте – в Ныробе, где начальник стражи задушил дядю первого русского царя из дома Романовых.
Иван Абатуров и Михаил Бутаков тихо умерли, ушли в сухой, белый, вишерский песок прошлого. Эник Финнэ увез всю свою семью в Финляндию. Да, административное руководство территории отказало Александру Сумишевскому в звании «Почетный гражданин города». А Евгений Матвеев выпустил три лазерных диска. Я написал роман-расследование «Территория Бога». Алексей Копытов построил двухэтажный дом неподалеку от вишерского аэропорта, где постоянно дуют настойчивые, настырные юго-западные ветры. Кстати, дошел слух, что и сын Володи Штеркеля решил строить коттедж на «лагерной» улице Маяковского. И мой Сашка заявил: «Когда я стану большим и богатым, я построю дворец из цветных мраморов, на хрустальном фундаменте». А я, помнится, мечтал конструировать сверхзвуковые самолеты с изменяющейся геометрией крыла. Но потом подарил свою мечту: берите, у меня их много.
Легендарный Инспектор Яков Югринов, живущий на Вае, по-прежнему утверждает, что жизнь – это временно. А Василий Зеленин до сих пор отбывает срок в лагере строгого режима, что в печально известном поселке Скальный-2. Светлана Гаевская работает рядом с мужем – в одной из газет Чусовского района. Генерал, возглавлявший Главное управление исполнения наказаний области, ответил письменным отказом на мою просьбу о свидании с осужденным Василием Зелениным. Так я ни разу не увидел своего героя, если не считать нескольких кадров телевизионной съемки, на которых оператор запечатлел осужденного с ежиком жестких волос, подходящего к своей жене, обнимающего ее, целующего…
Раис Шерафиев более не сидит со жлобами, не пьет – будто долг перед родиной выполнил. Он строит и ремонтирует вишерские школы. Директор заповедника Игорь Попов принял Алексея Бахтиярова на работу, а Валерий Демаков построил его семье дом на территории, и вогул до сих пор отзывает своих оленей от диких, северных, когда те появляются осенью на территории. Кстати, ему удалось вернуть нескольких животных домой.
Ведущие новостных телепрограмм утверждают, что началось новое тысячелетие – конечно, Бог им судья. Утверждают, что взяли умом и трудолюбием.
Через четыре года после РАССТРЕЛА первая жена Идрисова, Виктория Нестеренко, нашла безногого человека, Никифорова, ставшего инвалидом по вине того казаха, которого, будто козла, она когда-то спустила на веревке с гор. Нестеренко приехала к нему в интернат и забрала к себе в рай, в самый центр России, в Окский заповедник.
Да, еще в 1992 году Василий слышал в горах Южного Алтая рассказы о какой-то легендарной научнице по имени Вита. А спустя пять лет, уже в других горах, Уральских, они лежали на камнях вертолетной площадки – лицом вниз. Молодая женщина подняла голову и представилась: «Вита». Непрактичная, к жизни в стаде не приспособленная, а какой поступок совершила.
Руководство комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды области уволило с должности вайского лесничего Дмитриева, который не только согласился везти нас на браконьерскую делянку «Фореста», но и предложил видеопленку, на которую он снял следы, оставленные фирмой в разоренной тайге. А через полгода Игорь Попов принял Анатолия Анатольевича, человека, «бегавшего за речкой по горам», как называют себя «афганцы», начальником охраны заповедника. Отобьемся. Отстреляемся. Вырулим. Все сразу бывает только у спекулянтов.
Потом мы похоронили Игоря Борисовича Попова. Гроб стоял на гравийной площадке во дворе геологической базы, откуда он тридцать лет уходил на север. Он уже никогда не увидит взрослыми четверых своих детей… Лев Баньковский, старый ученый, сказал: «Надо бы назвать четыре улицы Перми именами пермяков – первооткрывателя радио Александра Попова, первооткрывателя российского алмаза, рабочего вашгерда, мальчика Павла Попова, автора „Хозяйственного описания Пермской губернии“ Никиты Попова, работу которого я нашел в библиотеке Варшавского университета, и геолога Игоря Попова, открывшего цитрины и золото Вишеры».
Последний раз будучи в поселке Вая, я встретился с Яковом Югриновым. Он построил себе дом, женился и ждал появления сына. Или дочери. Какая разница.
– Старик жив еще? – спросил я о Фёдоре Николаевиче.
– Да, слава богу. Помнишь, ты говорил мне когда-то, что пик твоей работоспособности приходится на двенадцать часов дня? Я тоже стал наблюдать за собой. У каждого, наверно, есть свои двенадцать часов. Время без гарантии, когда надо рискнуть, совершить главный бросок вперед. Иначе можно будет сказать, что твоя жизнь не состоялась. Это не выдумка честолюбцев. Потому что прыгают не только вверх, но и вниз, или в сторону, например. Я стал вспоминать все, что произошло, обдумывать и взвешивать. Ты знаешь, я понял, как сорвал шпонку на Вишере, почему пошел встречать Идрисова через Ишерим. Кто-то уберег меня. Для чего-то…
Он властен думать о случившемся что угодно. Может быть, ему все это приснилось, когда он закрыл глаза на реке, в лодке. Мне тоже постоянно что-нибудь снится, вроде летящего над городом вертолета и креста на останце Помянённого…
Во дворе пахло свежими еловыми досками, складированными у сарая. У забора лежали шпангоуты и другие заготовки для длинной и узкой вишерской лодки. На меня уже долго, пристально, внимательно смотрела белая вайская лайка. И я подумал: все только начинается. Югринов снова работает в заповеднике инспектором и делает большие километры по тайге, по каменным рекам и белым, желтым, красным безднам горной тундры Молебного хребта, еще волглого от прошедших ночью табунов тумана. Или облаков – какая разница.
– Скажу тебе по секрету: кедр тут рубить продолжают, рано вы победу праздновали, – «порадовал» он меня на прощание, – только делают это иначе.
– Да, теперь надежда на тебя, – ответил я Инспектору, сидевшему на дощатом крыльце дома, – так что, друг, до скорой встречи.
С реки шел прохладный весенний воздух, на противоположном, на левом берегу Вишеры стояла синяя готическая тайга, угорами уходившая в небеса. Было тепло, приятно, радостно осознавать, что где-то там, в глубине хвои и листвы, коры и звериной плоти, крови и лимфы, живет человек, без которого во Вселенной было бы пустынно и бессмысленно, – вишерский шаман, волшебник или беглый зэк, какая разница… Чалдон или полярный волк, пилот, случайно залетевший в нашу Галактику, человек, ставший богом, или Бог, принявший облик смертного. Одиночка или метафора Господа Бога, многозначная, будто формула воды, которую так и не могут понять ученые. Его существование доказывало мне, что не каждая попытка делается зря, что миллионы – не икра, что не всегда правы лица, обшитые кожзаменителем, дерматином или брезентом. Да, это была надежда, далекая, но великая, как красный Альдебаран, хотя я шкурой чувствовал, что все, все только начинается в прекраснейшем из миров. Я вспоминал маленький кедр, стоящий на скале у поселка Велс, с красноватой корой и зеленой хвоей, похожей на фамилию «Зеленин». Вспоминал низкое небо над ним, вдыхал запах лесной смолы и живой речной воды, дымок черных бань, слышал звон ботал на выях коров-скалолазов. Я вспоминал и улыбался – мне не хотелось пить водку или курить, опровергать или аргументировать. И я не хотел играть со смертью в карты. Я чувствовал, что теперь никому не сбить меня с мысли – я не изменю ни почерка, ни стиля, ни походки в угоду кому бы то ни было. И я рад, что все только начинается. Потому что теперь надеюсь успеть больше, чем намечал на второй день после рождения в городском роддоме.
От Василия пришло последнее письмо:
«Почему мы не уволились, не сменили место жительства? Ответ неожидан, потому что предельно прост: нам нравилось работать и жить на Вишере. Мы надеялись завести здесь хозяйство…
Но начиная с лета 1995 года Идрисов, прилетая на кордон, отправлял меня куда-нибудь подальше. Светлана рассказала, что в мое отсутствие Рафик подъезжал к ней „с конкретным предложением“. Когда я высказался по этому поводу, директор тут же ушел в глубину: „Она неправильно меня поняла!“ Так продолжалось до того, до последнего лета. Жена улетела в Красновишерск тем же санрейсом, что и Никифоров. Поэтому я смог поговорить с ней только через месяц. Светлана была в истерике: „Я была уверена, что милиция не поможет! Я за тебя боялась!“ На процессе она ослушалась меня и попыталась дать показания, но судья тут же прервала ее, объявив перерыв.
Помните, я вам рассказывал, как столкнулись Идрисов и Югринов у меня в доме? После ухода Якова директор полночи рассказывал мне о Камчатке, где он будто бы три года прожил в одиночестве. Из всего услышанного мне более всего были интересны слова о собаке Топе, которая разделяла с ним это одиночество. Он спокойно, тихо говорил о том, какая у лайки черная, густая, блестящая шерсть, с каким бесстрашием она бросалась на камчатских медведей, как ловила рыбу в горных речках. Понимаете, я слушал голос психически здорового человека. Позднее мне пересказывали эпизод, как Дядюшка Фэй избивал прутом дворнягу, зажав ее между колен, и улыбался от каждого ее визга. И сейчас меня мучает вопрос: совсем ли умер в нем тот человек, рассказывавший о камчатской лайке, или мог еще воскреснуть? Тут еще наблюдательная Алёнушка в последнем письме остановилась на „предсмертных“ парадоксах, будто бы добрейший Игорь Попов в последние свои дни стал нетерпелив и раздражителен, а вот Рафаэль Идрисов, наоборот, начал вести себя спокойно и адекватно. А вдруг я убил уже не того монстра, которого все знали, а человека, любившего свою камчатскую лайку? И как мне жить с таким вопросом в душе?
Смерть Виктора Астафьева отозвалась во мне чувством вины. К сожалению, мы являемся свидетелями ухода последних людей того поколения. Сейчас мне больно не от сознания собственной участи, которую Виктор Петрович пытался облегчить, когда хлопотал о моем деле в Москве. Сам я два года тянул с письмом, чтобы поблагодарить его за труды, пусть и не освободившие меня. Хотел пригласить его порыбачить на Вишеру в сентябре 2007 года. Половить тамошнего тайменя. Однако письмо так и не отправил, понимая, что пишут ему и так слишком много. Да и кто я такой? А хлопотал он потому, что жена моя была в Овсянке осенью 1998 года и он читал ваши статьи о моем деле, в которых вы меня представляете слишком положительно.
А вообще, я думаю, то поколение, поколение дедов, мне духовно ближе, чем поколение отцов, романтичных алкашей-шестидесятников. Ну, со сверстниками мне всегда было тяжело, а уж эту шеренгу „пепси“, кроме некоторых, глубоко презираю, хотя, конечно, понимаю простую вещь: а кого еще может взрастить духовная помойка, заваленная блестящими импортными обертками?
Я уже писал вам о том, что смерть старого человека потрясает меня гораздо больше, чем гибель юного наркомана, не рассчитавшего дозу, виноватого только в том, что вовремя не смог воспротивиться окружающему скотству.
Помнится, еще в школе я с интересом перечитывал найденные на чердаке журналы пятидесятых годов. Вникал в заметки, пытался восстановить хронологию событий, произошедших за десять-пятнадцать лет до моего рождения, погружался в то жестокое время. Но более всего меня привлекали лица простых людей на фотографиях – открытые, доброжелательные. И по ТВ я предпочитал смотреть кинохронику – чем старее, тем лучше. А глумливое превосходство современника-демократа над „оболваненным народом“ не признавал и не признаю. Нынешние хозяева страны навязывают людям такие понятия, что только с блевотиной можно освободиться от навязанного. Причем достают материал не из томов „Капитала“, а непосредственно из „широких штанин“. И многие задыхаются от запаха человеческого гниения до смерти. Задыхаются, не ведая, что происходит, веруя, что вокруг благоухают розы, духи и другие бальзамы. Блаженные… Только вера эта сохранилась от Содома, ублюдки которого выжили, сохранились, размножились – и теперь совращают последних ангелов.
Тут один монах, старик, из тех, что заблудились во времени и пространстве, собирается ехать на Велс, в дом Коли Собянина, бывшего тамошнего лесничего. У этого монаха необычная судьба: был диссидентом, писал, за что сидел на зоне, потом в психушке, а в последние годы советской власти числился в бегах, позднее работал в разных монастырях. Поселится на Вишере – познакомитесь.
Кстати, недавно прочитал в газете материал о том, как вы побывали в знаменитом Белом Лебеде. Думаю, что ко мне вас всяко пустят, если захотите приехать».
Конечно, я к нему могу приехать, а он ко мне – нет. Но на самом деле ему до меня – близко, а мне до него – далеко.
Это все наши зоны: Белый Лебедь, Красный Берег, Синяя Вода… В Перми Великой сосредоточено самое большое количество заключенных – из восьмидесяти двух регионов страны. И самое большое количество преступлений – в удельном весе. Давно все это началось, гораздо раньше Михаила Романова и Бориса Годунова.
Я вспомнил, что во время поездки сообщил мне Валера Демаков: дальше, в тайге, на севере от Лыпьи, умерла какая-то старуха, хозяйка никому не известного хутора, и там обнаружилось еще четыре человека, беглые зэки, которых она приютила в разные годы жизни. Дальше Лыпьи… А кто и что есть еще дальше? Одиночки, разбросанные по Вселенной, будто туманные галактики…
Я продолжал читать письмо Василия: «Пишу это письмо пятый день… Иногда ловлю себя на том, что не помню, как пишутся отдельные слова, а ведь я с детства писал без ошибок, не зная правил правописания. Понятно, симптомы разрушения моего сознания. Очередное помутнение рассудка – нет, это не из области психиатрии. Многие проживают в таком состоянии всю свою долгую жизнь. Сегодня мне кажется, что лучше пожизненный срок в одиночке, чем остаток моего – здесь. Происходит энтропия сознания. Но это не страшно – нет ничего страшнее жизни самой по себе.
Вот, сегодня Пасха, а меня чего-то сломало… На улице похолодало – там не попишешь, и здесь – тоже.
Прощаюсь. С Воскресением Христовым вас и ваших близких.
Василий».
Мне показалось, я увидел, как Василий вышел из чусовской зоны – и «маму потерял», настолько изменился мир… «О нет, – скажу я ему, – это всего лишь новые прибамбасы, а главное осталось. Все по-прежнему, кроме одного: ты, Василий, самый свободный человек в России».
Пришло последнее известие с Вишеры: ослепший Николай Бахтияров, живший по ту сторону Уральского хребта, совершил свой последний языческий поступок: ушел в лес и повесился на дереве. Интересно, почему Алексей не сказал мне, что его отец был шаманом? Василию сказал, а мне нет. Он верил Василию. Он встречался с ним на тропе – там, где на сотни километров нет жилья и людей.
Василий Зеленин, царский егерь из-под Санкт-Петербурга, охранявший покой сосланных на Вишеру дворян, остался один – в самом страшном человеческом скопище, кровавом капище и кладбище будущего. Он остался один, как полярный волк, встреченный им когда-то на берегу самой чистой в мире реки, спрятанной под алмазный лед.
Эту заповедную территорию отвел мне Господь Бог, деревянный идол, вырубленный предками-уграми из велсовского кедра. «Этого тебе хватит!» – сказал он мне голосом отца-армянина. «И не только мне», – подумал я в ответ, разглядывая сквозь хвойную хмарь вишерской тайги двухсотлетнее лицо одиночки – губастое, иссеченное длинными дождями, косыми снегами и настырными северными ветрами. Лицо того самого Бога, который ничего не предвидел, но все, умница, предусмотрел.
Там бобры на Мойве строят свои плотины, на альпийских полянах кувыркаются бурые медведи, а стаи нагловатых куропаток склевывают переспевшую морошку между небесами и мхом космодромной тундры на плоскогорье Кваркуш. Там идет неистовая, безумная, бурная жизнь. Вечером на Тулыме дождь, а потом весь этот священный ужас – гром и молнии – переходит на гольцы Ишерима. И разом – по взмаху незримой руки – все спадает: проступает яркое, чистое, бирюзовое небо, окаймленное багровыми угольками заходящего солнца.
И шумят, шумят, гудят, трубят подземные реки Тулымского хребта, уже покрывшегося первым снегом, уже порозовевшего в лучах заходящего за моей спиной последнего осеннего солнца.
Я вдыхаю запах багульника, я стою на коленях и шепчу, проговариваю, высказываю тягучие, горькие, старинные слова моему деревянному идолу: Господи, сохрани эту землю и этих людей, не допусти предательства и братоубийства, убереги от чумы и холеры, не дай, не позволь погибнуть этой княжеской красоте. Умоляю тебя, Всевышний!
Пермь, 2003

ПРОЛОМ
Автобиографическое повествование
1
Из материалов, собранных комиссаром партизанского отряда Леонтием Афанасьевичем Уваровым
Это случилось ранним октябрьским утром. Фашисты под командованием карасубазарского коменданта Тисса окружили деревню Пролом. Первым увидел солдат Арсен Акшиян. Мальчик сразу же бросился к дому Шаганянов, чтобы успеть предупредить об опасности Володю. И тут раздалась длинная автоматная очередь…
Володя отдыхал в это время у родителей после возвращения из леса. Недавно пришли оттуда Ваня и Николай Михайлович Воликовы. Этих троих немцы взяли первыми. В Проломе и Васильевке были арестованы Саша Галыкин, Толя Егоров, Володя Бегличев, Игорь Отчий… Гриша Лабонин провел ночь в отряде. Подходя утром к деревне, он наткнулся на карателей. Они привели его к Васильевской комендатуре.
– Ты где шлялся, бандит?! – завопил на него комендант, уже подозревавший своего переводчика.
– Ты же был у родственников? – бросилась к Грише его тетка Варвара. – Я так и сказала им.
Но Гриша Лабонин хорошо знал тех, у которых служил.
– Нет, – сказал он, – я был у партизан.
Вечером всех арестованных увезли в Карасубазар.
Весь день пролежал тяжело раненный Арсен на берегу речки. Мать не подпустили к мальчику. И только после того, как фашисты уехали, она принесла его домой.
– Ушли гады? – очнувшись, шепотом спросил Арсен.
– Ушли, – успела ответить мать, с ужасом увидев улыбку на уже мертвом лице сына.
На первом же допросе в карасубазарской тюрьме Лабонину сказали:
– Твои друзья во всем признались. Советуем тебе последовать их примеру… Говори, где находится отряд?
– Мои друзья ничего вам не сказали, – ответил Григорий. И не ошибся. Потом, избитому, окровавленному, гитлеровцы устроили ему очную ставку с Толей Егоровым.
– Мы ничего не сказали им, Гриша! – успел выкрикнуть Анатолий.
Кровавой была осень сорок третьего года в крымской деревне Пролом.
После страшных пыток фашисты увезли подпольщиков на территорию бывшего совхоза «Красный» – к месту массовых казней. Живьем, повязав колючей проволокой, их сбросили в глубокий колодец.
Спастись удалось только Володе Шаганяну, бежавшему из тюрьмы.
Кто знает об этом? В тихом, уютном дворике, похожем на итальянский, живет сейчас бывший моряк, бывший комиссар партизанского отряда Леонтий Афанасьевич Уваров. Этот седой, атлетического сложения человек, завершающий свой восьмой десяток, известный в Симферополе многим, упорно ищет своих соратников. И находит их – от Кубани до Северного Урала. По всей земле разбросала судьба армян, греков и болгар – до самой Вишеры.
Русские из Петрограда, поволжские немцы, крымские татары и уральские чалдоны редко называют свой город Красновишерском, чаще – просто Вишерой. Если город и был Красным, то только от крови расстрелянных. Вишера – это река, город, тайга, камни. Это Вишерский край. Это место жизни и смерти опальных граждан великой страны. Есть красный гранит и голубой мрамор, есть голубая артезианская вода и алмазы, есть золото и нефть. И голубые елки лесоповала…
У моего отца хорошая память – армянская… Иван Давидович закрывает глаза, он тихо шевелит губами, называя имена и фамилии хозяев крестьянских дворов, бывших в деревне. И это через пятьдесят лет! Тридцать девять – тридцать девять дворов было в армянской деревне Пролом Карасубазарского района Крыма.
Сначала армяне собрались в степи. И даже название деревне придумали – Мелконовка, в честь старейшего и уважаемого Мелкона Христакяна из Бешуя. Правда, старики вовремя одумались: как армянин-огородник будет жить в степи, без воды? И они снова разошлись по Крыму. И сошлись позднее в предгорье, где вода текла хоть и не рекой, но все-таки речкой – Карасёвкой.
В этой речке утонул сын Анны Узуновой, Геворг, мальчик, страдавший припадками. Ведь эта речка текла и через Бешуй, тот самый Бешуй, что во время войны немцы спалят дотла как партизанское селение. Сын Анны Узуновой был еще жив, когда она работала в хозяйстве Мелкона Христакяна. Дядька Мелкой имел жену, четверых детей и хорошее хозяйство – он выращивал табак. Этим же делом занимался и Давид Асланян. Они выращивали золотые пахучие листья, складывали их в папушки – в пачки, папушки упаковывали в тюки и отправляли на фабрику в Феодосию.
Давиду Асланяну было уже за сорок, когда он познакомился с молодой гречанкой Анной Узуновой. Анна стала второй женой Давида. Его первую жену, его двоих сыновей убили мусульманские фанатики во время резни армян в Турции в 1916 году. Там же погибла родня двоюродного брата Давида, Ерванда Асланяна. Давид прибыл в Крым на пароходе…
«Бешуй – самое цветущее место в предгорьях Крыма!» – так утверждал мой дядя Армянак Давидович. Он знал, что говорит, он там родился. Там жили татары, греки и армяне – и жили дружно. Но потом турецкие армяне решили сойтись в один колхоз. И они все-таки нашли подходящее место – в пятнадцати километрах от Бешуя. Пролом… Слева тянулась древняя, длинная и извилистая скальная стена, посередине текла неглубокая и чистая, с плоским каменным дном речка, а справа поднимались вверх буковые и дубовые леса предгорий. Армяне вырубили, выкорчевали густой терновник, посадили яблони и вишни, построили саманные, из глины и соломы, дома. Позднее появились скотный двор и здание клуба из морского ракушечника, которое стоит и поныне – я сам не раз бывал в нем, когда мать давала деньги на кино. Или слушал в нем лекцию о врагах социализма американцах – они были для меня все равно что немцы. Я очень боялся их большой атомной бомбы…
Давид построил дом на зеленом склоне, почти у самого леса, как будто знал, что пригодится это соседство потом, когда Гурген будет приходить домой по ночам. Уже много лет на месте этого дома – самом высоком месте в деревне – стоит памятник. От улицы, снизу вверх, ведет к нему густая зеленая аллея.
Простой проломовский дом – кухня и комната, глиняный пол, белые стены и красная черепичная крыша. Давид и Анна занимались крестьянским трудом: выращивали овощи и хлеб, держали скот – корову, свиней, овец и кур. В двадцать третьем году у них родился первый сын – Армянак, Гурген, гордость и горе семьи, – в двадцать шестом, мой отец Ованес – в двадцать восьмом, а младший, Богос, единственный живущий сейчас в Крыму, появился в год создания проломовского колхоза имени Степана Шаумяна – в тридцать втором.
Рядом находились болгарская деревня Кабурчак и татарская Азамат, в Васильевне жили русские. И молчаливыми символами мирового единства стояли заброшенные чугунные столбы бывшего телеграфа между Англией и Индией.
Из материалов, собранных Леонтием Афанасьевичем Уваровым
Майским утром к дому Ерванда Асланяна подошли трое армян. Один из них – местный, двое – приезжие, одеты по-городскому. Закрывшись в комнате, они долго беседовали с Ервандом. Выйдя оттуда, они ни с кем не попрощались и ушли.
– Зачем они приходили? – спросил у Ерванда сын.
– Уговаривали меня дать согласие на работу священником в феодосийской армянской церкви, – ответил тот.
И только позже, уже в партизанском отряде, отец рассказал сыну о действительной цели этого визита. Как оказалось, она не была столь мирной. Они пришли к Ерванду, чтобы он, пользуясь своим авторитетом учителя, начал агитировать молодежь записываться в Легион армянских добровольцев, предназначенный для участия в «освободительной войне».
– Вы хорошо помните пятнадцатый год, истребление армян, депортацию, – так ответил им старый учитель, – в это время я находился в России. Когда в шестнадцатом году русские войска заняли земли, прилегающие к Кавказу, я вернулся в родные места. Но из многочисленных родственников я никого там не нашел – все были убиты… В дни октябрьских событий я с большими трудностями добрался до России. Здесь росли и учились в школе мои дети, здесь они стали гражданами. Теперь, думаю, вы поймете, почему я не приму вашего предложения. Если я и возьму в руки оружие, то оно будет направлено в другую сторону. Вот так, судите как хотите, можете донести немцам – это ваше дело…
Вражеские войска вошли в Крым осенью сорок первого. А в Проломе немецкие танки появились второго ноября, перед праздником. Советские истребительные батальоны ушли в горы. Но вскоре их продовольственные ямы были выданы предателями оккупантам. И с наступлением зимы в леса пришел страшный голод.
После разгрома немцев под Москвой в Крым полетели первые самолеты с оружием и продуктами. Однако спасти от голода тысячи людей им было не под силу. Когда я разговаривал с Уваровым, мне показалось, что он даже боится говорить о том, до каких крайностей доходили тогда в лесах люди. Только один раз обмолвился.
Вскоре фашисты погнали молодежь в Германию. Забрали они и старшего сына Давида – Армянака, закончившего перед войной карасубазарскую десятилетку. Сын Ерванда, Гарегин, уже был одним из самых активных членов деревенского подполья.
На помощь партизанским отрядам приходили мирные жители, молодежь объединялась в организации. В Проломе создавать ее начал дорожный мастер Иван Федченко, живший с женой в небольшом саманном домике под скалой. Самую юную по возрасту группу этого подполья составили ребята, окончившие в тот год Васильевскую восьмилетку: Баруй Фундукян, Володя Шаганян и его сестра Лиля, Тртат Оганян, Иван Воликов. Были и помладше – такие, как мой отец. А верховодили старшие, которым исполнилось восемнадцать-двадцать лет: Лев Оганян, Минае Кочиян, Гугарик Богасян, Павлик Кузьмин и его сестра Катя, сестры Кулякины из Васильевки – Ольга и Анна. Потом к ним присоединились ребята из соседних деревень. После гибели Федченко проломовское подполье возглавил Борис Алексеевич Павлов, бывший главный инженер Крымского лесхоза.
Два года действовала ППО – проломовская подпольная организация, членом которой был мой четырнадцатилетний отец. В Советскую армию шла информация о передвижении немецких частей, подрывались железнодорожные составы, нарывались на автоматный огонь машины врага, устраивались побеги военнопленным, отправлялись в леса продукты, вещи и оружие. Мальчишки убивали немецких офицеров, встречали наших парашютистов и мололи для партизан зерно. Они воевали, а не играли в войну. «Тяжело таскать ППШ по горам…»
«Сегодня наш отряд уходит в горы…» – поет мой отец старинную армянскую песню. Об этих мальчишках уже написано в книгах, им поставлены памятники. А мне надо рассказать о том, что пока неизвестно, и о самых черных днях семьи Давида Асланяна.
Перед началом войны окончил восьмилетку Гурген. Он послал документы для поступления в летное военное училище и даже успел получить вызов. Но война призвала его на службу раньше, чем он успел выехать в Ростов. Он стал подпольщиком. Подпольщиком стал и Ованес, и сам дед Давид помогал им.
Ованес был связным: доставлял пакеты из Пролома в Васильевку и обратно, развозил по соседним деревням листовки. Ездил на лошади в степные районы, где менял овощи на муку, которую потом отправлял в лес. Заготовка продуктов партизанам была для проломовцев рядовой постоянной работой. Они пекли хлеб и прятали его в тайниках.
Это было в 1942 году, когда в крымских отрядах начался страшный голод – немцы окружили их в горах, обложили со всех сторон. Люди умирали в ту страшную зиму, мерли без еды. И вдруг на плоскогорье появился четырнадцатилетний армянский мальчик, который одному ему известными тропами доставил партизанам пять мешков с крупой – на лошади с повозкой. Командир партизанского соединения, первый секретарь обкома партии, при всех поднял его на руки. Это был мой отец.
…Дед Давид и Ованес мололи зерно во дворе дома тетки Тушик. Самодельная мельница с круглыми каменными жерновами вращалась вручную с помощью системы шестерен. Ее соорудил муж тетки Тушик, Миран Егикян. Молоть зерно – тяжелая работа. И вдруг во дворе появились немецкие солдаты с офицером.
Готовой муки было уже достаточно, рядом стояли два полных ведра. «Я тикать хотел, дернулся в сторону, но отец схватил меня за загривок, поймал – и хорошо сделал, иначе пуля догнала бы…»
– Партизанам муку готовите! – закричал офицер, показывая рукой на ведра.
Понять, что он говорит, было несложно. Немец рванул на Давиде рубаху и разорвал ее. Может быть, они поверили оправданиям, может быть, не очень злыми были, но не убили отца с сыном и даже не арестовали. Они выпороли их плетьми.
Немцы, говорит отец, тоже разными бывали – и смелыми, и жестокими, и добрыми.
Не раз появлялся в доме Давида немецкий юноша, окончивший перед войной десятилетку в Карасубазаре. В одной школе с Армянаком учился. «Где Гурген?» – грозно спрашивал он, перешагнув порог – в фашистской форме, с хлыстом в руке. Знал про Гургена, искал его, догадывался, что тот в лесу.
Особенно жестокими стали оккупанты, когда их сильно начали долбить партизаны. В сорок втором Ованес своими глазами видел, как перед деревней немецкий патруль остановил ехавшего из города на велосипеде Ивана Федченко. Солдаты сняли велосипедное сиденье и достали из рамной трубки свернутые в рулон бумаги – это были листовки… Ивана Федченко жестоко пытали – ему вырезали на спине звезду, но никто из его земляков тогда арестован не был.








