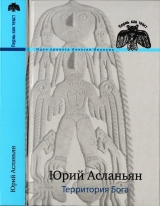
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Может быть, все может быть. Но на Вишере вогулами называют Бахтияровых и других манси. Вогулы, вольные люди. Рыбу солят, мясо вялят, чернику варят – без сахара, грибы сушат, а клюкву хранят на холоде. Огородов не разводят, заборов не городят. Пасут оленей, охотятся и играют на нарс-юх – трехструнном щипковом инструменте, который мастерят из ели, в форме рыбы с раздвоенным хвостом, на котором крепятся колки.
И вообще, Бахтияровыми не Азия завершается, а начинается тот самый Запад – на Молебном Камне, где проходит граница между Европой и Азией. Запад – это Западный Урал, Восточная Европа, Западная, Атлантический океан, за которым, мужики рассказывали, есть какая-то Америка. А центр мира – здесь, на Цитринах, у подножия светло-зеленого, будто покрытого патиной, голого, могучего Ишерима.
Полетел Алексей Бахтияров на юго-запад, в город Красновишерск, впервые. Дали геологи две тысячи своему другу – на расходы. И Бахтияров, узкоглазый, кривоногий, щуплый, с черной, густой, длинной, как у Конька-Горбунка, гривой, забрался в какой-то бар и начал активно угощать местное население – аборигенов. Хотя, если честно, его предки первыми появились здесь три тысячи лет назад, в ранний железный век, который ученые называют ананьинской археологической культурой. Так что помолчите – кто тут хозяин.
Алексей то и дело выглядывал на улицу и кричал прохожим оленеводам: «Русские, друзья, заходите – угощаю!» Ну, эти, конечно, мимо не проходили.
Когда геологи Алексея нашли, он уже был за пределами разговора. Поэтому тело вогула в салон Ми-8 внесли молча, вместе с коробками продуктов и мешками цемента, предназначенного для строительства домика. И всю воздушную дорогу, то есть полтора часа, Алексей не только молчал, но и не двигался.
А когда вертолет подлетел к Цитринам, выяснилось: машину не посадить – такой дул ветер в трубе между гор. Пришлось приземляться на самом Ольховочном хребте, хотя понятно стало: пятидесятикилограммовые мешки придется таскать вниз, за триста метров, на своих плечах. Но выбора не было, потому что была труба, да какая – что там аэродинамическая…
Да, как только стих шум-гул винтов, Бахтияров открыл глаза, поднял голову и вскочил так, будто сутки проспал трезвый у себя дома: почувствовал вогул, что вертолет опустился с небес туда, где тысячу лет стоял чум его вольных предков. Он вскочил и безо всякого вербального перехода включился в лошадиную работу: геологи отнесут по мешку, охотник – два. И никакого синдрома, раскаяния и жалоб на неудавшуюся жизнь.
В июле он насобирает дикий лук, растущий по берегам таежных речек, засолит ведро – и на год ему хватит. А сегодня поймает пять хариусов, накормит детей. Хотя, конечно, здесь эта рыба не такая крупная, как, скажем, на Печоре, но что Бахтиярову до Печоры? Его родина здесь, где на склоне Ольховочного хребта тысячу лет простоял чум вогульских предков. А Бахтияров родину на рыбу не меняет. Пусть морда у печорского хариуса тупее, тупоносей, зато местная вкусней. И вообще, при чем тут чья-то морда или усатая харя…
Правда, один раз Алексей попал на Мань-Пупы-Нёр, плоскогорье в верховьях Печоры. Да и то олени завели – пять дней двигался за ними по тайге. Это вам не два часа на вертолете! Подивился тамошним останцам – каменным столбам в горной тундре, похожим на окаменевших идолов. Ну и что? Молебный не уступит причудами времени.
Завершалась первая неделя после убийства Идрисова. В тайге стояла тишина. «Кажется, придется сдаваться и все сдавать», – по-хозяйски размышлял Василий. Он заметил, что произнес эту мысль вслух, наверное для кошки, сидевшей у печи и внимательно наблюдавшей за хозяином.
Светлана привезла эту рыжую Мусильду котенком из городской конторы заповедника для борьбы с лесными мышами. Полевок и крыс там не было. Когда подросла, кошка начала ловить мышей безжалостно: придет, принесет мышку, покажет – вот, мол, работаю – и только потом устраивает трапезу. Простая домашняя кошечка превратилась в неистовую террористку: давила птичек от снегиря до кукушки, бурундуков, белок и голенастых зайчат размером больше себя, а однажды обнаглела – принесла горностая. Через год Василий заметил, что у Мусильды сепаратный мир с норкой, бегающей по двору, – зверь кошке, похоже, был не по зубам, поэтому она делала вид, что не замечает его.
Осень 1996 года выдалась урожайной на еловую шишку, поэтому зимой вокруг дома собралось много клестов-еловиков, которые постоянно копались в трухе в большом и пустом сарае. Мусильда нападала на них из-за поленницы дров и сытая приходила домой ночевать. В конце зимы Василий заметил, что по пять-десять придушенных птичек она начала оставлять на ночь в сарае, но к утру от этих заготовок оставался только пух. Сама она их съесть не могла, поскольку дверь закрывалась, а вентиляционные продухи в подполе наглухо забиты паклей. По следам Василий понял, что ворует куница или соболь, или метисы – «кидусы» по-научному, которых он встречал здесь даже с красноватым мехом. В декабре он увидел, как куница гоняет по укатанной «бураном» вертолетной площадке здорового зайца. Он закричал, и она убежала в лес. Заяц подпустил Зеленина метров на пять и, оправившись от шока, рванул тоже, но в другую сторону. «Наверно, она ходит в сарай за клестами», – подумал Василий и решил отловить зверька, опасаясь за жизнь кошки: куньи сильнее кошачьих – так, росомаха справляется с рысью.
В марте Василий проснулся от стука на веранде – по звуку было похоже, что какой-то зверь спрыгнул с чердака. Он подумал, что это большой полосатый кот заявился в гости с Цитринов, за сорок километров. Но это было нереально – трудно не погибнуть в дороге, в когтях соболей. Василий взял фонарик и посветил в окно из кухни на веранду: над картонной коробкой с продуктами торчал пушистый хвост, не кошачий. Зверек, взбешенный светом, начал бросаться на стекло, сползая по нему, скрипя большими черными когтями. Пришла Светлана. Сказала: «Прелесть какая завелась!» – и ушла спать. По распластанному на стекле меховому пузу он понял, что это самка, и сразу назвал ее Кунигундой.
Вскоре куница стала приходить на веранду днем, поскольку ей понравилась нанизанная на нихромку, висевшая гирляндами оленина, которую принес Бахтияров. Сороковой, наверное, прыжок оказался успешным, но она не стала сразу грызть мясо, а просто перерезала зубами проволоку. Заслужила. Она не наглела – съедала два-три куска, как с шампура, и уходила. В апреле, когда потеплело, дверь на веранду держали открытой. Кунигунда проходила на кухню, проверяла кошачьи миски. А однажды они увидели, как куница и кошка прогуливались мирно по насту, рядышком, видимо о чем-то беседовали на своем зверином языке.
Как только Холерченко с бандой свалил в сторону, Василий связался с Бахтияровым по рации и попросил вернуть шестнадцатый калибр, который вогул брал у него доя обороны от медведей, таскавших в начале лета оленят.
Они встретились на середине тропы. Василий повернул голову и увидел на золотистом стволе сосны потемневшие насечки, вырубленные вертикально.
– Что тут написано?
– Осенью здесь прошли три мужика, две женщины и собака – к стойбищу на Лиственничном.
Алексей принес ружье и унес здоровенный арбуз детям, никогда не видевшим южное чудо. От банды остался.
– Скажу им: такая клюква на болоте выросла, зеленая еще, – улыбнулся Бахтияров на прощанье.
Возвращаясь на Мойву, Василий с улыбкой подумал: если бы предложили выбрать нацию, то стал бы вогулом – маленьким, кривоногим, заплатанным. Победителей воспринимал как красномордую мразь, вечно жующую «орбит». А манси даже на том свете занимаются любимым делом – пасут оленей, ловят рыбу или хлещут белое пойло. Николай, отец Алексея, пить пил, но даже в самом запредельном состоянии замолкал, когда спрашивали о языческой вере. Потому что вера для вогула – святое. Не доя публики. Недавно Алексей обещал Василию рассказать о своем боге. Жаль, не успел…
Не знал милицейский полковник Мамаев, что еще в 1774 году вогульский сотник Егор Андреевич Соловаров и Кондратий Семёнович Бахтияров «со товарищи» обратились в Соликамскую воеводскую канцелярию с просьбой выдать им грамоту на земельные угодья взамен подлинной, сгоревшей в селе Верхняя Язьва. По эту, по западную сторону Уральского хребта владения новокрещеных вогулов находились в верховьях Язьвы, тянулись к северу до Помянённого Камня, до Кваркуша и далее – до Печоры. В 1775 году Александр Борисов, Соликамский воевода, выдал вогулам копию грамоты на владение землей, размеры которой равнялись хорошему государству.
Странное это понятие – вишерские финно-угры. Может быть, «странные» от слова «страна» – большая страна с небольшим населением. Я всегда удивлялся количеству совершенно необычных для пятнадцатитысячного городка людей. Удивлялся потом, когда стал взрослым. А с какого-то детского ракурса запомнил одного стройного мужчину в яловых сапогах гармошкой и такой папиросиной «Беломора» в зубах – с пережатым гармошкой бумажным мундштуком. Однажды я, восьмилетний пацан, обратил на него внимание у библиотеки, что была в одном из бараков Лагеря. Так разбрасывает свои карты судьба – мы снова встретились с ним, через тридцать пять лет. И тогда я узнал, что он мой земляк и моего героя – Алексея Бахтиярова – тоже. Да, земляки по планете. Какое-то всемирное землячество угров. Помнится, я встречал его фамилию в гостевой книге заповедника, на Цитринах. Да каждый из моих героев – это вариант Васи Зеленина, с другим днем, годом и местом рождения. Впрочем, Эник еще и родом из-под Санкт-Петербурга.
Эник Финнэ
Великий царь Пётр отвоевал эту территорию в 1704 году у шведов. Ижорская земля была переименована в Ингерманландскую губернию, а затем – в Санкт-Петербургскую. Помните, у Пушкина: «Подъезжая под Ижоры…» или «Где прежде финский рыболов…» Там издревле жили ижорцы – народность, говорившая на языке финно-угорской группы. Конечно, многие удивятся, узнав, что ижорцы компактно проживали на Северном Урале.
В бывшем Лагере было девяносто шесть бараков, сангородок и образцовый парк, Третья, Четвертая, Пятая улицы Максима Горького – последние три сгорели.
Татьяна Финнэ, преподаватель математики, расстелила на полу рисунок – генеалогическое древо, родословную своей семьи. А ее отец, Эник Константинович, смотрел на эти белые рулоны кальки и вспоминал черные ленинградские ночи, которые так не похожи на белые санкт-петербургские.
В конце 1934 года был убит Сергей Киров. А в апреле следующего года тысячи жителей Ленинградской, а также Псковской областей насильно отправили на восток. Ехали в тех составах и финны из предместья Гатчины. Но сослали не всех: одна старуха сама просила, умоляла, чтоб ее забрали тоже – с семьей. Отказали старухе… Потому что нужна была рабочая сила.
Никто не пилил, не колол – не готовил на зиму дрова, настолько все были уверены, что вот-вот разберутся и отправят всех назад. Никто не думал, что это надолго, тем более – навсегда…
Так появились здесь странные для местного уха фамилии: Веролайнен, Пакки, Финнэ… А известная до сих пор фамилия Хистонин – на самом деле Хестойнен. В одном бараке жили люди из Гатчинского дворца – супруги Рендовичи, прачка и конюх, и бывшая барыня, внучка генерала и сестра дипломата, Варвара Ивановна Джериховская. А рядом – семья железнодорожника Финнэ.
Осенью 1937 года забрали отца, Константина Эдуардовича, и вместе с другими арестованными тогда мужчинами отправили в Соликамскую тюрьму. А весной, мартовской ночью, раздался повторный стук – на этот раз увели мать. Ее привезли в ту же самую тюрьму, откуда, как ей сообщили, отправили на этап мужа. И она никогда не узнала правды. Кстати, в этой тюрьме бывал Варлам Шаламов, из этой тюрьмы бежал еще один «финский парень» – «зеленый бандит» и писатель Ахто Леви.
Семья надеялась долго – всю жизнь. Но только через пятьдесят три года Эник Константинович узнал точно, что за несколько дней до прибытия матери в тюрьму его отец, «шпион», как и многие другие, был расстрелян. В квартиру Эника Константиновича зашел молодой человек из КГБ и сообщил: так, мол, и так… Жаль только, что слово «реабилитация» – не волшебное, оно не воскрешает отцов.
Мать, Сару Петровну, освободили через год. И она начала искать своих детей, малолетних Эника и Арво, которых разбросали по детским домам. Первым нашла старшего, Арво, и зимой 1940 года отправила его к родственникам, в Гатчину, а вскоре – и Эника. Чуть-чуть разминулись братья, рядом прошли, как мать с отцом в тюрьме, чтобы встретиться через очень много лет – в Стокгольме.
Из оккупированной Гатчины фашисты вывезли ингерманландских финнов в Эстонию, в лагерь интернированных, откуда их затребовала Финляндия. По дороге Арво отстал от поезда, и его взял к себе добрый финский крестьянин. Через несколько лет этот хороший человек даст Арво деньги и отпустит на поиски счастья. Будущий полиглот подойдет к шлагбауму на границе со Швецией – и еще раз перейдет на территорию другого государства без визы.
А Эник в то время бежал с другом – на фронт. Десятилетнего мальчика не раз ловили и водворяли в детприемник. Он называл другую фамилию. Первое письмо матери Эник написал из вологодской детской колонии. И когда пришла почта, перед строем прозвучала фамилия: «Финнэ!» Но никто не откликнулся. Потом Эник, радостный и перепуганный, пошел и признался. Заместитель начальника колонии сказал: «Красновишерск Молотовской области? Я там служил, Финнэ помню. Да, яблоко от яблони недалеко падает».
– Может быть, это он уводил, увозил ночью моих родителей? – вслух подумал Эник Константинович. – До сих пор помню его фамилию – Володин. Патриоты, они отдали за Россию миллионы жизней – чужих, конечно.
В сталинские времена область носила имя министра иностранных дел. На стене в квартире Финнэ висят небольшие красочные пейзажи вишерского севера, выполненные маслом. Эник Константинович, как и старший брат, с детства был склонен к художественному творчеству. А в колонии получил квалификацию резчика по кости. Мать и сын встретились в августе 1945 года в Красновишерске.
Жизнь старшего брата Арво сложилась благополучно, если так вообще можно сказать – ведь он никогда больше не увидел матери. Он жил в Италии и Швеции. Был рабочим и администратором отеля. Эник Константинович показывал мне шведскую газету, где целая полоса посвящена Арво: две фотографии элегантного мужчины, а рядом перечисляются языки, которыми он владеет: финский, русский, итальянский, немецкий… Всего тринадцать.
После войны Арво начал поиски своей семьи и нашел ее в 1956 году. Десять лет они переписывались. И через месяц после того, как советские власти не разрешили матери выехать на свидание с сыном, Сара Петровна Коломайнен, не выдержав потрясения, умерла. И мужа отняли, и сына, и жизнь…
Мне казалось, что этот человек никогда не позволял себе рассказать все – он всегда останавливался у какой-то невидимой черты и замолкал. Я догадался, что это за черта. Это запретная зона сердца, за которой человек остается один, как кедр на велсовской скале, наедине со Вселенной, прямо напротив красной звезды.
В прихожей квартиры Финнэ я обратил внимание на флажок с разноцветным крестообразным символом.
– Это флаг Ингерманландии, – пояснил он, – я привез его со встречи финнов, живущих там до сих пор, и тех, что разбросаны по всему свету…
Разбросаны – как по белой бумаге генеалогического древа семьи Эника Константиновича Финнэ, земляка Василия Зеленина, – по двум точкам на земном шаре: Петербургу и Перми Великой.
Когда городские гости поднялись в небо и быстро исчезли, оттуда появились другие – не менее многочисленные. То ли на объедья, разбросанные по территории у кострищ, то ли в порядке мистического предзнаменования к кордону слетелось большое количество птиц. Особенно нагло вел себя один хищник: подпускал Василия на три метра или ходил вокруг него, когда тот убирал граблями мусор, оставленный залетной компанией. Птица раскидывала крылья, что-то кричала и, взлетая, проносилась над его головой, едва не задевая когтями волосы.
На кордоне имелась оставленная каким-то орнитологом сеть, и Василий мог бы без особых усилий поймать птицу, но вместо этого вел с ней пространные разговоры о жизни и был уверен, что сокол все понимает. Ни подранком, ни больным хищник не выглядел. Дома Василий достал книгу – определитель птиц и выяснил, что на территории появился сокол-балобан, крупный, не менее сапсана. Может быть, он прилетел на запах шашлыков? Тоже птица, видать, важная…
В ту августовскую ночь Василий не спал – не мог заснуть. Во время последней вечерней связи из конторы сообщили, что завтра прилетит борт с операми, которые будут искать пулю на месте преступления. Зеленин вспомнил, что есть такая пермяцкая сказка «Пера-богатырь». Наверно, это про первого опера Перми Великой. Да чего там, имя так называемого великана Полюда принадлежало новгородскому воину и означало «ходить по людям» – дань собирать то есть: мытарь, баскак, налоговый инспектор. А мы: богатырь! И наконец, жертвоприношения Ойке-Чахль. Какая дань – кровавая! Взятка высшему должностному лицу. Василий смотрел в окно, в сторону высоко взметнувшихся двух совершенно голых, стальных вершин Хусь-Ойки, двух гольцовых вершин, напоминавших женскую грудь невиданной красоты и величины – все-таки тысяча триста пятьдесят метров над уровнем моря. Эта женская грудь, гладкая, полная крови, принадлежала жене и помощнице главного бога.
«Нет, – почувствовал Василий, глядя в августовскую ночь, – это не за пулей, это по мою душу». Во рту было сухо и горько.
Потом он лежал в постели с закрытыми глазами и в сотый раз прокручивал в башке черную виниловую пластинку: «Что-то мне показалось, что-то мне показалось, что все это за мной, и мой ордер подписан, и рука трибунала виска мне касалась, и мой труп увозили в пакгаузы крысам…»
Стихи Евгения Рейна он прочитал лет десять назад в журнале «Новый мир». Прочитал, ни строчки не запомнил, а тут проявилась в памяти целая строфа – надо же…
И еще чудо: высоко и кратко, будто молния, сверкнул воздух. Это лопнула струна на гитаре. Светлана проснулась, но ненадолго. Василию не хотелось омрачать последние, как считал, часы, которые они проведут в этой жизни вместе. Поэтому он ничего не сказал любимой женщине о своих беспощадных арестантских предчувствиях.
– На тебя никто не подумает! – успокаивала Гаевская мужа последние дни. Дипломированная оптимистка.
Утром, собираясь к месту встречи с вооруженными архангелами, Василий строго наказал жене:
– Гитару не трогай. Вернусь – перетяну струну сам.
Наказал, не веря ни одному своему слову. Поцеловал – и пошел к устью Малой Мойвы.
Он шел и не думал, что жена мужа ослушается – что-то нашло на Светлану. Она перетянула струну, настроила гитару. Она начала записывать на листок какие-то слова, подбирать аккорды. Смотрела в окно, потом снова записывала и подбирала. Она видела Василия, идущего по тропе вдоль таежной речки, сопровождала его взглядом со скоростью ангела-хранителя, летящего за плечами мужа.
Гаевская представляла себе: он возвращается, садится напротив, пьет чай, а она поет ему свой романс, первый в жизни. Представляла – и не видела блаженной, наркотической улыбки на своем темном, сухом, осунувшемся лице.
Светлана дождалась – муж вернулся.
День был хмурый, моросил невидимый и непрозрачный дождь – обычный августовский день Северного Урала. Василий шел к устью Малой Мойвы и с улыбкой вспоминал, что во время своего июньского, предпоследнего захода на кордон директор и начальник охраны обнаружили там ружье двенадцатого калибра, вынесенное водой на песок. Василий отмочил оружие в солярке и отчистил заводской номер на замке. А до того еще Югринов говорил ему: четыре года назад там перевернулась заповедниковская «чалдонка» и затонуло ружье. Он запросил по рации контору – номер тот. Зашедший уже в июле Агафонов со смехом рассказывал, что Идрисов предложил ему тогда составить протокол о том, что преследуемый директором браконьер бросил ружье и скрылся. Начальник охраны не согласился, указав Идрисову на состояние ружья, пролежавшего в воде четыре года. Интересно, сколько он таких подвигов себе приписал? Имитатор. А в России было время, когда не любили искусственные алмазы, стразы и другие разного рода подделки, было время. Позднее я узнал, что именно для этого ружья Идрисов нес чехол.
Зеленин пришел на место своего преступления раньше, чем прилетел вертолет. Стоял, смотрел в мокрое небо, не чувствуя ни вины, ни страха. Позднее смог определить свое тогдашнее состояние безысходным и божественным словом: обреченность. Пустота, полное отсутствие какой-либо опоры – и неумолимая, мощная гравитация черной дыры, уносящей тело и душу в неведомую бездну. И там, на самом дне этой бездны, он разглядел крохотную точку, которая становилась все больше и больше, в которую он падал, как приговоренный, – это из-за Тулымского хребта появился обещанный вишерским эфиром вертолет. Машина низко зашла над Большой Мойвой, раздвинула воздух и мокрые травы и опустилась лапами на галечный нанос в устье Малой.
Зеленин не двигался со своего места – стоял в накинутой на плечи армейской плащ-палатке. В руках он держал топор и лопату.
Позднее он подсчитал, что архангелов было восемь – только тех, которые шли к нему в касках, бронежилетах, с автоматами Калашникова и даже со снайперской винтовкой. Они двигались по самому короткому маршруту, как отряд могильщиков, и Василий протянул первому из подбежавших топор и лопату. Тот схватил инструмент, а остальные начали заламывать Зеленину руки за спину, обшаривать карманы в поисках гранаты или базуки, стаскивать рюкзак. Что делать, Василий не дергался – он предвидел все это до мелочей, до первых ментовских слов: «Тебя назвал Агафонов».
Была такая смешная мысль: брать будут не в подъезде, не в сельском доме, а в тайге, где он был хозяином, который мог бы принять гостей по высшему разряду – устроить им небольшую чеченскую бойню.
Через десять дней, находясь в красновишерском КПЗ, Василий узнал, что группа захвата, которую специально привезли из Перми, собиралась его отстрелять, невзирая на то, окажет он сопротивление или нет. Вероятно, героев России остановило большое количество свидетелей – трудно было бы убрать всех. Потом они говорили Василию: «Ты правильно сделал, что прикончил мразь, но зачем свидетеля оставил?»
А я вспомнил кусок записи с диктофонной ленты: «Дело не в том, что я пожалел Агафонова. Потому что о жалости речь вообще не идет. Я просто не собирался его убивать – понимаете? Мысли такой не было. Я шел убивать Идрисова. О какой жалости вы спрашиваете меня?»
Этот уникальный оперский рейс оплатил департамент заповедных территорий Государственного комитета по экологии России. Заповедное дело стало уголовным…
Светлана дождалась – Василий вернулся: он спустился с неба с «браслетами» на запястьях, в окружении дружелюбных автоматных стволов. Взгляды Светланы и Василия встретились – над космической бездной…
Зеленин немного позапирался, чтоб не нарушать правила светской игры. С вооруженными небожителями прилетели две женщины – прокурор и следователь прокуратуры, бывший заместитель директора заповедника Малинин, исполняющий на земле обязанности Идрисова, и даже начальник департамента Степанов, примчавшийся на Мойву из Москвы. Не каждый день казахов убивают на Северном Урале.
Гаевская подошла к Степанову – мужчине в расцвете лет, кандидату наук, интеллигентному чиновнику, воспитанному, как спаниель, окончивший Гарвард. Когда бы он, членистоногий, смог повидать Россию, если бы совсем не расстреливали директоров?
– Прилетели, Дмитрий Петрович? – кивнула она головой, приветствуя прямого начальника. – А где же вы были, когда сотрудников заповедника вывозили отсюда трупами и инвалидами?
– Я не знал, не знал, – быстро и негромко заговорил Степанов, – честное слово, не знал… Господи, как я сожалею!
В лицо Василия в это время весело смотрел габаритный убийца из группы захвата. Белобрысый губошлеп из Губчека.
– Да ты понимаешь, что сделал? Вся Пермь на ушах стоит! Уже который день!
– На соленых? – без улыбки поинтересовался Зеленин.
– Что – на соленых? – ответил озадаченный оперуполномоченный.
– Пермяки солены уши, – напомнил ему Зеленин поговорку.
– А-а! – протянул мент. – Скоро ты сам станешь соленым – от Соликамских слез. На зоне там не был?
Зеленин был искренне изумлен. Вся Пермь? На ушах? Из-за этого гада? Когда тысячи ежедневно умирают – в камерах, в заброшенных подвалах, на городских свалках? Когда дети живут, спят, голодают в туннелях теплотрасс? Бесконечно терпение Господа нашего…
Василий смотрел на свою Светлану в иллюминатор медленно поднимающегося вертолета. Продолжал накрапывать настырный заповедный дождичек. Жена одиноко стояла в траве, завернувшись в кусок полиэтилена, и заплаканное, родное ее лицо едва просматривалось. А борт неумолимо уходил в сторону, оставляя внизу, на сырой земле, белую, мерцающую точку, через несколько секунд исчезнувшую в мареве неумолимого прошлого.
Гаевская осталась одна – в тайге, во всем этом мокром и холодном мире.
А вертолет, прижатый к земле августовским небом, летел ниже Тулымского хребта и параллельно ему, потом – Чувальскому. Совсем близко к борту проходили, будто бока гигантских рыб, серые, чешуйчатые, туманные гольцы Уральских гор. Василий смотрел по ту сторону толстого стекла с блаженной улыбкой сумасшедшего, навеки прощаясь с этой божьей благодатью. На душе его было светло от алкогольного чувства – долгожданной обреченности. Он прощался с тайгой, свободой, жизнью – он понимал, что не сможет существовать в стаде, загоне, зоне. Не сможет – в тюрьме или на воле, без разницы – без узды. Или с ней. «В стаде у меня верх берут скорби…»
Как он узнал от сокамерников, обычно менты делают так: сначала бьют ногами по голове и только потом спрашивают, за что тебя взяли. Пути твои, Господи… Василий Зеленин, убийца, никому не известный инспектор заповедника, неожиданно стал национальным героем. На взлетной полосе бывшего вишерского аэропорта, окруженного желтыми песками, группа захвата окружила того, кого собиралась отстрелять. Чтобы сфотографироваться на память.
Похоже на встречу кумира с восторженной публикой. Василию заботливо подбирали сокамерников, чтоб убийца не испытывал психического дискомфорта, интересовались здоровьем, а женщины из прокуратуры искренно пытались направить уголовное дело по выгодному для подследственного руслу. «Этот Идрисов еще тот жлоб-то был, – обронила следователь прокуратуры Кулагина, – судился с уволенными за каждую чашку-ложку». А прокурор, женщина простая и даже доброжелательная, советовала Василию свести все к убийству из ревности. Зеленин испытал чувство благодарности. Испытал молча. Он был уверен, что любой приговор для него – смертельный. Жизнь казалась красивой, а была жесткой, как «браслеты».
Там, сидя в камере предварительного заключения, Василий нашел какую-то старую газету с материалом о контрабанде животных. Оказалось, что цена одного сокола-балобана доходит до тридцати тысяч долларов. Птицу используют для соколиной охоты. Позднее, уже на чусовской зоне, он вспомнил того пернатого визитера, явившегося на кордон незваным гостем. «Тебе надо было поймать этого балобана, продать и откупиться от ментов», – качали головой бывалые люди. В ответ Василий грустно улыбался и шутил: «На всех ментов денег не хватило бы». Господи, о чем он тогда разговаривал с птицей? О том, что да, жену можно оставить на кордоне и уйти в тайгу, хорошо вооружившись и экипировавшись. Век не найдут. Он же знал пещеры, где не ступала нога гомо сапиенс, умел жить в лесу. Была, была мысль сообщить по рации, кто убил Идрисова, а потом навсегда исчезнуть в хвойном мареве уральской тайги, раствориться в бескрайней свободе. А потом представил себе, как она смотрит ему, уходящему, в спину… Представил – да так и остался сидеть на дощатом крыльце, опустив сухое лицо в грубые егерские ладони. «Не возьмут меня, – подумал, – отыграются на ней…»
Понятно, Агафонова менты прессовали в течение недели. Он сидел в камере и опять, как в той таежной яме, дрожал – то ли от холода, то ли от страха за свою молодую жизнь. Вспоминал, как однажды плыл с Идрисовым в резиновой лодке по Большой Мойве. Как потом, в городе, к нему подошел знакомый по школе и передал привет с Ваи: «Рафик жив только потому, что тебя пожалели…» Агафонов представил мушку ружья в прибрежной листве, которая покачивалась, то и дело задевая белокурую голову, гладкий висок, горячий мозг. Где это могло быть? А сейчас что пообещал мент? Десять лет сидеть буду, и зэки опустят… Агафонов тихо заплакал.
«Нет, – выговаривал Василию уже другой мент, из местных, – ну ты правильно сделал, что убрал мразь, но зачем свидетеля оставил?» Ни менты, ни зэки не могли понять логики зеленинского поступка. Это было и есть выше уголовного сознания – того, что имеется по обе стороны колючей проволоки, выше сторожевой вышки.
Об убийце сообщали районные, областные и столичные газеты, его показывали по телевизору. Василий стал звездой экрана…
Позднее он писал мне: «Что вы! Дядюшка Фэй вовсе не был каким-нибудь мафиозным монстром – может быть, потенциальным клиентом психиатрической клиники, не более… Например, он кичился тем, что являлся потомком Муэтдина Газы, самого кровавого басмача Узбекистана времен Гражданской войны, этнического киргиза. Тот имел наиболее многочисленную группировку, отличавшуюся сатанинской жестокостью. Главарь лично вспарывал животы беременным женщинам и приказывал готовить себе манты из человеческого плода».
Конечно, сначала Василий не верил в столь «элитную» родословную директора, учитывая патологическое тщеславие азиата, но, все лучше узнавая повадки Идрисова, стал допускать, что, может быть, и не врет он. «Рябой басмач там целился в меня из узкого и длинного ружья», – вспомнил он Сергея Маркова.
Василий закрывал глаза и видел тайгу, Уральские горы: на юго-западе – Ишерим, на западе – Тулым, на востоке – хребет Молебный, на севере – Муравьиный Камень с двумя вершинами, похожими на женскую грудь. Взгляд опускался с Муравьиного и приближался к тусклой точке, едва видной, мерцающей сквозь густую хвою леса, к поляне метров сто на пятьдесят, окруженной березками, куртинами пихтового молодняка, отдельно стоящими высокими кедрами. Вот речка Малая Мойва, а рядом – пруд, в который впадает Серебряный ручей. На берегу пруда – старая баня, для сотрудников, и новая, с лесенками к воде, для отдыхающих. Далее, в самом центре, – метеобудки, радиомачты, флюгеры. Справа – вертолетная площадка, покрытая камнем, гостевой дом под шифером, дровяной сарай из досок, похожий на авиационный ангар, летняя кухня, от которой к речке Большая Молебная, что бежит на встречу с Малой Мойвой, спускается крутая лестница, двухквартирный бревенчатый дом с верандами, под железом. Выше метеостанции и левее жилого дома – чамья, амбар на столбах, далее сарай для коз, сеновал, железный склад для ГСМ, агрегатная, где электростанция, инструменталка, мастерская. Если смотреть с веранды зеленинской квартиры на юг, то через двадцать метров взгляд упирается в хвойную стену леса с поднимающимися надо всем мощными кедрами.








