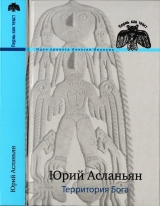
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Пожар случился ночью, в октябре прошлого года, когда шло празднование пятидесятипятилетия предприятия. Спичку поднесла сильно подвыпившая женщина, решившая отомстить капиталистам за вишерскую нищету. Она захотела света – и камышовая крыша, ровесница завода, улетела в небо пламенным ангелом. Имеется в виду камышовый утеплитель. Тогда буммашина на месяц вышла из строя. Виновница пожара получила три года лагерей, а дети остались на свободе. Все радовались за детей. Ущерб составил сумму, равную той, которую вложила в это предприятие финансово-производственная группа, владеющая контрольным пакетом акций. В результате простоя скопилась древесина, и завод какое-то время сумел проработать на этом печальном заделе.
Проведение экономической реформы напоминало испытание штамма сибирской язвы на острове Ренессанс в Аральском море или массовую гибель дельфинов, которые выбрасываются на берег Коста-Рики, что ученые связывают с атаками касаток.
Директор завода оказался спокоен, в голодный обморок не падал.
– Вы читаете нашу газету? – спросил я его.
– Не скажу, что читаю, – ответил он, – но использую.
Да, у кого костюмчик фирменный, а у кого – фуфаечка с белой полоской на левой груди и фамилией.
Когда-то здесь была самая мощная бумагоделательная машина в Европе, изготовленная по спецзаказу. Впрочем, о чем тут мечтать? Чтобы твою книгу напечатали на вишерской бумаге? Да, но ты же не Ленин. Я покраснел от наглости и сделал три глубоких глотка, чтобы не нервничать так.
Подбирают, подчищают – бизнесмены. Эти спекулянты такие же бизнесмены, как проститутки, которые развешивают свои объявления на столбах, – столбовые дворянки.
– Да ноют они, что рыбы нет, – объяснял мне друг. – На Язьве во время нереста жереха кто сети ставит – понял? Совсем обезумели – не с перепугу: на машинах приезжают из Соликамска, Березников, с лодками и движками. Такого у местных нет. А чалдонам в буферной зоне заповедника рыбалка разрешена. Привыкли хорошие деньги на лесоповале получать. Своим умом жить не хотят! А Лёша Бахтияров – человек вольный, сам за себя отвечает, не будет он убивать, у него земли – до Ледовитого океана, несколько государств! Что ему делить? И с кем тут делить!
Мы пили с Раисом Шерафиевым. В открытую форточку залетали скандальные звуки – это нашего соседа била жена, капризная женщина.
– Ты каждый день пьешь, да, и никому не должен? Так, что ли?!
Раис встал и закрыл форточку. Эстет. Покачнулся, сел на место.
– Ты чё, качаешься, что ли? – поднял голову я.
– Да разве я качаюсь? – удивился Раис. – Так, покачиваюсь.
Наконец-то я понял, в чем дело: водка – некачественный продукт. Жажду утоляет плохо. День пьешь, два, три… А пить все равно хочется. Некачественный продукт – не утоляет жажду. И вода – тоже.
– Ты знаешь, я так мечтаю поговорить с тобой трезвым, – неожиданно признался друг детства.
– А кто тебе мешает?! – изумился я от этой голой наглости, которая была более моей – той, что в мыслях о Ленине: издать книгу на вишерской бумаге. – А для целлюлозного производства нужна чистая вода. Чистая – без глиняной взвеси и радиации! Посмотри, что делается вокруг. Да что тут смотреть – в темной воде хариус не водится…
– Давай еще выпьем, – предложил друг. – Скоро люди придут, а я трезвый – неудобно будет.
– Нет, – мотнул головой я, – больше не буду. Никогда. Человек должен остановиться. Если так дальше пойдет, то я предъявлю тебе счет за ясак и все твое трехсотлетнее татаро-монгольское иго.
Раис, наверное, секунд десять осмысливал услышанное. Только потом улыбнулся – дошло до казанского.
– Не давай клятвы по пятницам – это ошибка! – изрек он, оттягивая кончики губ вниз и поднимая вверх толстый указательный палец.
– С другой стороны, Раис Сергеевич, если в слове «хлеб» регулярно делать по четыре ошибки, то в конце концов может получиться «пиво». А это совсем неплохо, особенно на следующий день. Кстати, как я выгляжу?
Еще секунд десять Раис разглядывал меня.
– Кошмар на тебя похож, – наконец оценил он мою внешность.
– Как ты думаешь, Раис, можно ли найти в тайге ружье двадцать восьмого калибра, в верховьях Ниолса?
– В тайге можно найти абсолютно все. В шестьдесят восьмом мы пошли на Тулым, в лыжный поход. Мне тогда было пятнадцать лет. В марте, представляешь? Весенние каникулы. А там всего минус сорок и было. Обратно двигались по реке так: идем-идем, смотрим – вода, узкая полынья, мы на полуострове! И возвращаемся – километра по два-три, а потом снова. А потом я потерялся в тумане, неосторожно свернул в тайгу, ночь не спал. На следующий день у меня осталось две луковицы и пятьдесят граммов сливочного масла. Думал, сдохну, так страшно стало! Конечности окоченели…
Раис, видимо, вспомнил все – и сразу налил себе водки, чтоб отогреться. Мне тоже налил – он вообще не жадный, друзьям наливает.
– Да-а… И тут мне, кажется, Аллах помог – неожиданно я вышел на какую-то избу. А там старик, Фёдор Николаевич. Сто лет ему! – Раис посмотрел на меня так возмущенно, будто я не хотел верить. – Да, сто лет! Он меня обогрел тогда, даже в бане попарил, а потом и водочки налил. Первый раз в жизни я выпил – до сих пор остановиться не могу. Кстати, за Фёдора Николаевича – вперед!
– Ну и кем он оказался? – спросил я, глубоко переживая только что выпитое из мензурки залпом.
– Я провел у него два дня, расспрашивал его, конечно. Старик рассказал: до войны еще выучился на летчика и служил в Заполярье, а потом сидел на Колыме за то, что на бомбардировщике пытался улететь на Луну и там изменить родине.
– Да-а?! – изумился я. – Кажется, тебе хватит пить. Да ты не волнуйся, я за тебя выпью, потом расскажу, как это мне было.
– Откуда я знаю – он мне так рассказывал! – тихо улыбнулся Раис, вскидывая руку к очкам. – А мне тогда было пятнадцать лет! Говорил, что работал в оловянных рудниках на Улькане. Что три раза бежал: сначала ушел за пятьсот километров, потом – за семьсот. Ну, его ловили, калечили, но не догадывались, что мужик тренируется, готовится к последнему побегу – третьему. Подготовился – и ушел. Весной, конечно. Будто варил себе суп из мышей, лягушек, змей, ел ягоды, грибы, рыбу… И дошел до Ладоги, до Ленинграда – представляешь? Тайга не выдала его.
Я достал из ящика комода старый школьный атлас и линейку, провел прямую поперек самой громадной в мире страны, под небольшим углом – от бухты Ногаева до Финского залива. Помножил сантиметры на масштаб – получилось примерно семь тысяч километров. Еще сумел разделить на двести дней – получилось тридцать пять километров.
– Врет он все, – пришел к выводу я, – не может этого быть, чтобы голодный, обессиленный зэк двигался по тайге в таком темпе. Человек этого сделать не в состоянии, понял? Только Бог – Аллах по-вашему, если по-нашему не понимаешь. Человек не может!
– Человек не может, – покорно согласился совсем пьяный Раис, – а один человек может все! Потому что он может подать пример… остальным.
Я очнулся, приподнял голову, чтобы посмотреть на настенные часы: двенадцать ночи, понял я по темени за окном.
– Выпить хочешь?
Я повернулся: у настольной лампы сидел отец и смотрел на меня своими насмешливыми армянскими глазами.
– Очень хочу, – просипел я тихо.
– Сейчас, – сказал он и закрыл книгу – о войне конечно, других он не читает.
Медленно встал и вышел в коридор. Тихо хлопнула входная дверь. Он вернулся минут через десять.
– У Мильчакова взял, взаймы, – похвастался отец, ставя на стол целую бутылку водки. – На, сынок, пей.
Я пил водочку – по пол стакана, чтоб скорее. Отец курил, стряхивая заскорузлыми пальцами пепел в пепельницу толстого зеленого стекла, и молчал. Мать спала в другой комнате – через открытую дверь слышно было, как она ворочается на кровати. Кажется, в тот час не было на планете никого, кто был бы счастливее меня… Вот в этой комнате во время зимних студенческих каникул мы пили водочку из графина и запивали ее брусникой из высоких керамических кружек. Ковры, хрусталь, другие безделушки – все мать убрала куда-то в шкафы и комоды. Ничего не надо теперь мамочке, кроме нас.
– Слушай, что я тебе расскажу. Тут я увидел – канализационный люк открыт, никого нет, мухи летают, а рядом дети бегают. Ну хорошо, я пошел в райадминистрацию – девка молодая сидит, меня не знает. Я все рассказал ей. Она мне: не волнуйтесь, горкомхоз позаботится! Нет, говорю, так не пойдет, надо немедленно! Она: не беспокойтесь! Смотрите, пообещал я, в областную газету напишу! А как ваша фамилия? – спрашивает. Асланьян – отвечаю. Ты знаешь, не успел до дому дойти, у люка уже бригада сантехников работала!
– Ты эксплуатируешь мое имя, – улыбнулся я.
– Ну, не все же тебе – мое! – парировал отец.
Я знаю, на что намекает этот вредный старик. Такой вот, к примеру, случай был. Пошли мы с ним в кино, лет двадцать назад. Автобус – один на город, и того нету. «Я не пойду пешком, – говорит отец, – я только на охоте пешком хожу». – «Ну, – спрашиваю, – а на чем же мы поедем? Машину вижу только одну, но она в другую сторону идет!» – «Ну и что», – ухмыляется отец и поднимает руку. Уазик проезжает мимо. «Вот видишь, Иван Давидович», – радостно отмечаю я. «Смотри внимательней», – кивает он. Смотрю: машина проходит метров сто, замедляет ход, разворачивается и катит обратно, останавливается, дверца открывается, выглядывает шофер: «Куда вам, Иван Давидович?» Мы садимся в этот вездеход, и он везет нас к кинотеатру смотреть фильм «В бой идут одни старики». «Как тебе это удается?» – удивляюсь в фойе перед началом сеанса. «А ты поезди по этим дорогам жизнь», – отвечает. Что дверца машины! Это имя вообще открывало мне любую дверь, что там говорить…
О войне он рассказывает мало. Зато любит вспоминать о звере, с которым встретился осенью 1971 года. Накануне одна пассажирка-попутчица сказала ему, что местные боятся ходить в село Кузнецово от отворота с вишерского шоссе. И не стала выходить из кабины – уехала с отцом дальше, в город. На следующий день он взял в рейс ружье.
В то октябрьское утро у отворота на село отец увидел на дороге крупного волка, выскочившего из дальнего света фар и ушедшего по первому снежку в сосновый бор. У отца была двустволка шестнадцатого калибра и патроны с такой мелкой дробью, что только чердынских рябчиков пугать. Иван Давидович остановил машину, достал ружье из-под сиденья и шагнул в предутренние сумерки тайги. Через минуту он разглядел зверя на небольшой полянке, мерцавшей между сосновыми стволами миллиардами снежинок. Волк неподвижно стоял у покрытого снегом пня, повернув голову в сторону человека. Отец быстро поднял стволы и выстрелил. Серый шарахнулся в сторону и двинулся в глубь леса. Отец легко побежал за ним, приблизился метров на двадцать – выстрелил второй раз. Зверь развернулся – и пошел на отца, который переломил ружье и быстро-быстро начал вставлять в ствол патрон. Понял, что успеет, может быть, вставить один патрон. Третий выстрел пришелся раненому волку в упор, поэтому дробь еще шла довольно кучно, чтобы волчара свалился у ног охотника.
Я помню, как пришел в тот день из школы: во всю длину прихожей лежала серая волчья туша, длинная, как Муравьиный Камень. Вся звериная шкура была прошита мелкой дробью трех патронов, предназначенных для чердынских рябчиков – тех самых птиц, белое, нежное мясо которых поставляли отсюда к царскому двору, в Санкт-Петербург.
До сих пор забываю спросить отца, почему он взял тогда патроны с дробью, да еще мелкой, а не с пулями.
Широкое окно задернуто светлыми шторами с листьями вишневого цвета. На стене справа – черно-белый фотопортрет Сергея Есенина, курящего трубку, портрет, подаренный мне другом четверть века назад. По бликам на вьющихся волосах можно догадаться, насколько они золотистые.
– Я вчера Финнэ встретил – он американских художников на Помянённый повел. Ну что там за отдых? Я вот в отпуске был на бывшей даче секретарей крымского обкома! Нас, ветеранов, туда возили – показать, по всей территории провели: водоем с рыбами, бассейн, кинозал. Первые секретари там отдыхали!
– А надо было, чтоб здесь, на лесоповале.
– Раньше и здесь бывали, – отец поднял брови кверху. – Большие люди сидели! Царские полковники! Писатели, партийные… Да-а, а теперь кто… Ты знаешь, у нас тут кедры рубят?
– Где это «у нас»? – посмотрел я на отца, который опять, похоже, начал загружать меня проблемами, как лесовоз хлыстами. Да, гигантскими сосновыми хлыстами – такими, какими они казались мне в детстве, когда эти машины ползли по гравийной дороге нашего Лагеря.
Я никогда не слышу его армянского акцента, но мои друзья утверждают, что он у отца есть. Я привык – не могу отделить отца от себя.
– На Велсе, мне Бергман рассказывал. Знаешь Васю Бергмана? – весело ответил Иван Давидович.
Ага, смеется, будто я не ведаю, о чем он, старый армянин, думает: ну что, демократы рваные, теперь делать будете? Что, чайники, не получается?
Вокруг нас лес рубили так, будто траву косили. Но в имени «кедр» имелось что-то мистическое, сакральное, запретное.
– А чалдоны при советской власти не рубили, что ли? Валили бензопилами только так, за мешок шишек.
Под портретом Есенина стоял телевизор – на комоде, в ящиках которого хранились документы, фотографии, лекарства, слесарный инструмент, охотничьи ножи, ружейные патроны и многочисленные рыболовные снасти.
– Ага, при советской власти. Сто кедров свалили, может быть, за всю чердынскую историю, а тут – воруют тысячами кубометров! – отец наклонился вперед, снова вскидывая брови. – При советской власти они бы уже давно сидели!
– Сидели бы, да только не они.
– А сейчас они сидят? А? Надо, чтоб по справедливости было. А взять уральских алмазников – ты думаешь, они не продают камешки за границу тайно, минуя царскую казну? То-то…
Я налил в стакан водочки, выдохнул от души и выпил, закусил розовым кусочком малосоленого хариуса. Отец ловил рыбку на 71-м, там же и солил ее. Спасибо за рыбу, папа…
– При любой власти люди – разные. Поговори с Бутаковым, побеседуй с Абатуровым. Иначе откуда бы вы тута взялись, такие умные, хорошие? Думаете, из космоса занесло? Главное в мире – человечность. А вы ничего еще не знаете, вам только кажется, что знаете.
У сарая залаяла Найда, отцовская лайка. Иван Давидович прикрыл глаза – прислушался.
– Блюхера, Егорова, Тухачевского – всех расстреляли, – кивнул он головой, откинулся на спинку стула и стал разминать очередную «приму».
– Плевать на маршалов – они сами убийцы, а вот за что вас, подпольщиков и партизан, репрессировали – не пойму.
– Нас выслали как национальность, – отвечает он тихо, – рабочие руки были нужны стране.
Он обрабатывал меня ночным разговором уже в сотый раз: сначала настраивал против советской власти, теперь – против демократической.
– А ты мне скажи, почему Есенин так мало жил? А Маяковский? А? Э-э-э…
Большие карие глаза армянина пристально смотрят на меня, он опускает веки и хрипло начинает петь какую-то балладу, привезенную предками с территории Западной Армении, из Трабзонда, где дома были, как глиняные соты над берегом Чёрного моря.
– О чем эта песня? – спрашиваю я отца в сотый раз.
– О том, что сегодня утром наш партизанский отряд уходит в горы…
Где-то там, за белой, за цветущей Тавридой, за Чёрным от горя морем, осталась страна нашего народа, которую он никогда не видел, христианская страна, вырезанная турецкими янычарами.
Я помнил о том, что Иван Давидович когда-то на спор поднимал сто шестьдесят килограммов в кузов машины. Я с завистью смотрел на могучий корпус семидесятилетнего отца, на руки воина и труженика. Старый армянин, он прошел все насквозь и все видел перед собой: цветущие вишни, белый саманный домик в райских предгорьях Крыма, дымок с огородов, мотоциклы иноземцев, орду западной цивилизации, каменистую землю, которую разрывал ночью ножом, чтобы схоронить убитого десантника, парящую жару и каменные жернова ручной мельницы, путь по пыльной дороге, которой его вели на расстрел за пачку немецких сигарет, которую он украл у офицера, лошадь и тележку с мешками муки и крупы для умиравших от голода партизан, оцепление солдат, желтую яйлу под ослепительно синим небом своего отрочества…
– Выпьешь, папа?
– Наливай, – задумчиво отвечает он и начинает напевать другую песню, уже на татарском языке.
О, я помню эту песенку. Как-то он пел ее за столом, давно, когда я был школьником и записывал его на магнитофон. «Иван, переведи», – начали просить гости. «Один мужик привез на мельницу зерно, а мельничиха говорит, что у нее работы много, не соглашается принимать его…» – он замолчал. «Ну а дальше что, Иван? Дальше что?» Отец посмотрел на меня, улыбнулся: «Ну, в общем они договорились…»
Слышно было, как тяжело встала мать, нашарила ногами тапочки, прошла через кухню в туалет.
– Слушай, – говорит отец, – а они тебя не убьют?
О, гадство! Видимо, по пьянке рассказал ему. Старый партизан молча смотрел на меня и курил.
– Если я буду публиковать материал, то подпишусь псевдонимом – Павел Кичигин. Откуда им знать, кто это такой? Пусть ищут, если хотят. Бесполезное дело!
– Да, пусть ищут, – удовлетворенно сказал он, – бесполезное дело. Это ты ловко придумал! А если позвонят в редакцию и спросят, кто это такой – Павел Кичигин?
– У нас запрещено раскрывать псевдонимы – под страхом расстрела или пожизненной каторги.
– Да, и это правильно! – улыбнулся отец. – Под страхом каторги – как у нас, в сорок четвертом. Это правильно.
Вся история матери и отца, бабок и дедов, всех бесчисленных потомков по русской, угорской, армянской и греческой линиям, вся эта какофония лагерей и войн, репрессий и геноцидов вела к тому, чтобы в конце концов в середине XX века на Северном Урале появился пацан, свободный и независимый, который взял в руку перо и сел за стол с дерзкой мыслью рассказать о настоящем и прошлом территории Бога. Да разве я справлюсь с этой задачей? Господи, никакой «пьяный ворот» мне не поможет: паралич, интернат, инсульт и кладбище… О, спазмы моих сосудов, о, близкая старость…
Этот человек пришел ко мне из тайги и сел напротив. Светловолосый, невысокого роста. Назвал свою фамилию.
– Знаю, – кивнул я в ответ.
– Есть версия, что не Василий Зеленин убил директора, – сразу сказал мне этот человек, живущий в золотом доме на хрустальном фундаменте.
В фантастической повести «Тайна горы» Аркадия Гайдара действие происходит в верховьях Вишеры, где в двадцатых годах американские империалисты ищут золото. И золотой телец, жажда наживы, заводит этих искателей туда, куда Макар телят не гонял. В борьбу с ними вступает бесстрашный пермский журналист. О дед Гайдара, ведал бы ты…
Драгоценные чаши выходят из-под земли – здесь пересекались пути из Москвы в Сибирь, из Аравии к Ледовитому океану, отсюда везли куницу и соболя в горы Персии. В обмен на золотые изделия. А зачем? Не ведали, что свое лежит – россыпное, самородное, рудное. Золото – символ красоты, качества, тайны и богатства. Золото – ковкий и коварный металл.
Ко мне пришел Василий Бергман, немец из таежного поселка Золотанка, который так называется потому, что у них там все золотое: Золотой Камень, Золотое урочище, две речки Золотанки. Ну и жизнь, конечно, золотая… Кто помнит сказку про то, как в золотом дворце жили люди с золотыми волосами, вынужденные есть золотой хлеб? Да сегодня так живут в тайге все! Хотя на Вишере золота добывается немного и всего два процента российских алмазов, остальные – в Якутии. Зато какие это камешки! Бриллианты имеют зеленоватый оттенок хвои. Рассказывают, в Америке дамы носят вишерские бриллианты. А вишерские женщины – кунгурскую бижутерию. В семнадцать лет я лежал в больнице с ровесником, Серёжей Кучинским, который уже успел поработать техническим руководителем на лесозаготовках. Однажды он шел у лесной речушки и увидел в прибрежной гальке крохотное стеклышко, нагнулся – рядом второе. Отнес одному знакомому геологу – алмазы. Геолог купил камешек за сто рублей. «А где второй?» – спросил я Серёжу. «А вот», – ответил он весело и достал из кармана халата кошелек, выкатил на ладонь стеклышко, тусклое, как капля смолы на сосновой коре.
Василий Васильевич Бергман – электромеханик радиоузла, охотник-промысловик и лесодобытчик. Он рассказал, что Коля Кин, тоже немец, с которым я когда-то служил в армии, несколько лет назад ушел за Уральский хребет в поисках незолотого хлеба. И недавно вернулся. Да, Кин в нашей роте ходил по краю, но не падал: ему, рядовому, предложили должность заместителя командира взвода, а он равнодушно отказался, как от глотка чифира. Кто служил, тот знает. Это всё они – строптивые пермичи, беглые русские с немецкими, армянскими и татарскими фамилиями.
Однажды я был у Кина в гостях с друзьями – он угощал хариусом, а потом мы пили чай с морошковым вареньем. Я вышел из поселка с товарищами по направлению к хребту Кваркуш. Мы километров двенадцать, кажется, прошли по хорошей гравийной дороге, которая неожиданно оборвалась в лесу. Как потом объяснили местные, дорогу построили для вывозки леса, а леса, дескать, там не оказалось. Но скрипели по ночам темные ели от ветра, плакали в темноте, как дети, так, что страшно становилось. Неужели еще одна дорога в никуда – в светлое будущее, в царство сухих, мертвых лесов на уральских отрогах? Кому нужен пронзительно скрипящий сухостой? Страшно становится от детского плача оставленных в лесу стариков…
О, эти белые борá, перышко глухаря в сухом песке, сверкающая на солнце паутинка…
С тех пор как на Золотанке построили зону, я там не бывал. Рассказывали, что местные мужики конфликтовали с осужденными из-за женщин – дело до стрельбы доходило. Правда, стреляли только с одной стороны и не очень точно. Может быть, снова дойдет. Докладывали, что трактора поднимались до субальпийских лугов Кваркуша в поисках золота, золотого корня, родиолы розовой, ее лекарственного корня.
Василий Васильевич Бергман стал районным депутатом и участником движения «зеленых» – экономика и экология существуют рядом. «Уродуя друг друга», – добавил он.
«Зеленые» добились запрещения молевого сплава, когда бревна идут по мелким притокам врассыпную, забивая дно топляками и пропитывая воду фенолами. Одиночки не плоты, они чаще гибнут. В 1990 году настырные демократы добились выселения лагерных зон из района. Через некоторое время Вишерский целлюлозно-бумажный завод остался без древесины, основного сырья. Кушать стало нечего, поэтому, мне рассказывали, за Ледовитым океаном закупили целый теплоход жвачки. Чтобы люди жевали, жевали, жевали. И те зажевали – а потом проглотили, что жевали. Правильно, чем дольше я смотрю на корову, тем больше понимаю, что такое человек. Домашнее животное, жвачное.
Было создано несколько акционерных обществ лесодобытчиков, быстро разорившихся и признанных банкротами. Рынок, получается, погубил.
– А на самом деле не так, – говорит Бергман, – рынка там не существовало и в помине: все входили в ассоциацию и реализовывали лес через единый коммерческий центр. Тех, кто продавал лес на сторону, наказывали. Районная власть не допустила децентрализации комплекса, но не смогла справиться с управлением. Вы знаете, что старые трактора-трелевочники тонут в снегу и в болоте? Тяжелые, с высоким удельным давлением на грунт. Так и наши начальники… Каков ясак – по пять соболей с лука берут, суки.
Колонизация чуди завершилась. Неправда, что нельзя все сделать сейчас, в настоящем времени. Можно, только трелевочники не дадут. Василий Бергман создал собственную бригаду из четырех человек, работали бензопилой и топором. Ежедневно отправляли в город до сорока кубометров древесины.
– Я тут лягушку видел – ласты откинула и плывет, балдеет. Эти жабы вообще такие прикольные. Но человек подобным образом жить не может, правильно? Сегодня нужны не объемы, а дешевый лес.
И я вспомнил крутой берег Вишеры, по которому, будто сотни рассыпанных и поваленных в одном направлении спичек, лежали стволы. Такие вот губительные ветровалы…
Бригады, вооруженные пилами, блоками, лебедками и топорами, могут загружать баржу за баржей и отправлять вниз по течению. Неоднократные обращения Бергмана к руководству завода остались риторическими вопросами. Немец так и не смог определить, кто там, в городе, самый вменяемый. Проще вернуться к зоне, сплаву и золотой роте. Вот она – экономика и экология в сознании людей, тяжелом, как старые трелевочники.
Золотанку посетили руководители района с приезжим генералом. Говорили о необходимости снова открыть здесь золотую зону. И нашли поддержку у населения – в основном утех, кто наживался на спекуляции самогонкой и чаем среди заключенных.
Старые трелевочники… Конечно, зимой в лесу надо ходить на лыжах, чтобы не проваливаться, на лыжах, подбитых оленьей шерстью, чтобы весной снег не лип, чтоб не скатываться при подъеме.
В фундамент одного из паженых домов в поселке Золотанка хозяин вложил вместо булыжника друзу горного хрусталя. На счастье и богатство. Назло американским империалистам.
– Есть версия, что убийство Идрисова связано с незаконной добычей кедра, – сказал мне в конце разговора Василий Бергман. И вышел.
На следующий день отец не дал мне долго спать. Опять начал водить меня по своим старикам, как по кругу. Ну сколько можно!
– Эй, ты когда колокол достанешь? – разбудил он меня весело. – Вставай, будешь работать!
– Не хочу работать, – робко отозвался я, шаря глазами по комнате в поисках сохранившейся выпивки.
– Придется, – подбодрил он меня, выставляя на стол одну бутылку пива. – Сейчас я поведу тебя к Бутакову – ты должен поговорить с этим человеком, пока он жив. Вставай, разгильдяй, пьяница, слабак.
И я пошел в дом этого человека, как первый раз – в церковь. О, это еще одна вишерская легенда.








