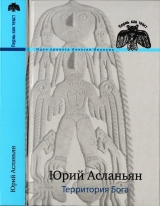
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
До места встречи оставалось минут пятнадцать, когда Вселенная взорвалась: справа раздался выстрел, а через секунду – еще один. Инспектор замер, прислушиваясь к обрушившейся на тайгу тишине, пытаясь определить место действия и азимут дальнейшего передвижения. Он присел на корточки, навалившись спиною на сосновый ствол, прикрыл веки, вдохнул запах смолы. «Не успел. Кажется, не успел…»
Теперь он уже не спешил и, может быть, от этого – оттого что переставлял ноги медленно – почувствовал, как они дрожат от усталости.
Он шел долго, но все-таки вышел к речке, встал на колени и, зачерпнув ладонью холодную воду, сделал три глотка. Луна светила в глаза, превращая воду в плавленое олово, мерцающее в темноте там, где поток огибал большие донные камни.
Инспектор сделал еще глоток, поднялся и шагнул с берега в мелкое русло, двинулся к середине реки. Он наклонился над одним из валунов и перевернул его – так и есть: в ночное августовское небо смотрели мертвые глаза Идрисова.
Он оглянулся: на берегу темнел какой-то предмет. Рюкзак – догадался он. С минуту Югринов простоял в раздумье, потом перевернул труп в первоначальное положение и осторожно пошел вниз по течению. Через двести метров он выбрал слева пологое место, поднялся на берег, пересек тропу и пошел параллельно Большой Мойве – к Малой, которую преодолел вброд, и направился к южной оконечности Тулымского хребта.
Югринов покидал заповедную территорию тем маршрутом, которым пришел. Точнее, он хотел уйти тем самым маршрутом. Он шел, оставляя позади прошлое, тайгу и тезку небольшой морской рыбки – Мойву, бобровую речку пермяков. Оставил по левую руку тундру Лиственничного хребта, обогнул его и пошагал на юг, где стоял высокий каменный гребень – Курыксар, Петушиный царь. К перевалу – сори, если по-местному.
Силы после отдыха на кордоне были, и Югринов не считал ни часы, ни километры. Может быть, он бессознательно делал это, чтобы впасть в безотчетное состояние полусна. Его тело воспринимало природную неровность земли как естественную, его голова мелькала в просветах кустарниковых зарослей. Он шел на Курыксар, как хариус против течения, разрезая холодное пространство августовской ночи.
Нет-нет, Югринову, только миновавшему Петушиного царя, лишь на мгновение показалось, что он сбился с пути. Он перешел вброд речку Доганиху и оглянулся, чтобы попробовать разглядеть останцы, но не разглядел ничего. Ничего не было позади, и ничего, казалось, впереди.
Взгляд Югринова засек какой-то тусклый блик в темноте, а может быть, ему просто померещилось, но вскоре он всей кожей почувствовал присутствие большой, неподвижной воды. Потом почудился запах печного дыма. Выходило, Инспектор не ошибся, когда решил идти той же дорогой, которой пришел на кордон. Фёдор Николаевич снова приветил его.
Югринов взошел на крыльцо и поднял руку, чтобы постучать в дверь.
– Входи, Яков, – раздался из глубины голос хозяина.
В углу топилась каменка. Фёдор Николаевич сидел на топчане, рядом, на столике, сделанном из широкого пня, лежала толстая книга. Такая вот фигура. «Только так и надо жить», – мелькнуло в голове Инспектора. Он приставил ружье к стене и стащил с плеч брезентовую куртку, с ног – сапоги.
– Что, кто-то перевел часы на кордоне? – произнес старик вместо приветствия.
– Откуда вы знаете? – удивился Югринов.
Он прошел к деревянной лавке, стоявшей у стены, сел поближе к огню каменки. Он смотрел на Фёдора Николаевича, но, казалось, ничего не ждал от него, будто ответа не могло быть вообще.
– Проживи в тайге сорок лет – и ты будешь знать, сможешь предугадывать, – ласково усмехнулся старик. – Начнешь чувствовать пространство и сдвигать время. Читал «Письма о слепых в назидание зрячим» Дени Дидро? Нет? У тебя еще есть возможность… На самом деле Бог создан по подобию человека, а не наоборот. Что смертный захочет, то и сделает, а не сделал – значит, не захотел. Значит, не стал представителем Господа Бога на нашей земле.
Югринов вытянул ноги и откинулся головой к стене – устал все-таки. Фёдор Николаевич тихонько поднялся, прошел к столу и насыпал в фарфоровый чайник сухую заварку: листья смородины, золотистый зверобой, белый цветок таволги, синий – вероники, фиолетовый – бодяги луговой.
– Сорок лет – это жизнь. Я вас правильно понял, Фёдор Николаевич?
– Правильно, – услышал он далекий ответ и журчание кипятка. – Например, я за три дня узнал о том, что сегодня пойдет дождь. Как я узнал? Ель стала стройной и острой, потому что ветви опустились вниз. Это клетки дерева реагируют на влажность воздуха и разницу давления. Послезавтра она распушится, разойдется в стороны – значит, можно будет выходить на охоту. Вообще, в жизни надо быть очень и очень внимательным, наблюдательным. Чтобы не закончить ее раньше времени. Оставленные в печи красные угли с голубоватым пламенем могут обернуться угаром и смертью не одного человека. Это ты знаешь. Помнишь и то, что шпонку у мотора реальней всего сорвать на перекате, где мелко.
– А там было плёсо, Свинимское, – дошел до Югринова смысл сказанного.
– Ты все делал сам! Я только попросил тебя свернуть левее, ближе к берегу, там, в одном месте под водой, завис старый топляк. Но это все ерунда. Люди вообще имеют невероятные возможности – например, читать Пушкина или Достоевского, писать поэмы и романы, изучать астрономию, звездное небо, генетику… Любой человек может стать богом, но согласными на это оказываются только единицы. Остальные потом, перед смертью, начинают плакаться, жаловаться, обвинять. А кого, Господи?
– Наверно, такими богами могут стать «травоядные», – кивнул головой Югринов так, как будто старик мог не заметить его плотоядной усмешки.
– Нет, эти люди никогда не смогут достичь пределов, – покачал головой Фёдор Николаевич, – выморочная идея, без личной крови, пожизненная инфантильность. Пройдет с десяток лет, и они все станут преподавателями, руководителями средней руки, менеджерами, бригадирами…
Старик показал пальцем в сторону транзисторного радиоприемника, стоявшего на дощатой полке.
– Геолог один в подарок оставил – Игорь Попов. Сегодня «травоядные» находятся не на своем месте, поэтому доставляют таежным людям лишние хлопоты. Кроме того, как я понимаю, директор заповедника использовал их в качестве провокаторов в той войне, которую вел с местным населением. Да, вайские называют «травоядных» «одуванчиками»! Кстати, очень точный образ: дунь – и ничего не останется. Но могут спровоцировать агрессию человека, у которого дома сидят голодные дети. Сам Идрисов тоже был провокатором.
– Вы уже знаете, что был? – открыл глаза Инспектор.
– Слышал выстрелы – двадцать восьмого калибра, кажется.
С чего бы это? Югринову показалось, что сидящий напротив старик – ожившее дерево, кедр, рубленый Илюша, неожиданно шагнувший вперед, оборотившийся человеком. Югринов прямо-таки отслеживал безукоризненные движения старика.
– Это был один из тех сумасшедших, отягощенных безудержным тщеславием. Из домов сталинской архитектуры выходили выродки, путавшие честолюбие и тщеславие, а из черных бараков – пацаны с ущербной психикой, порожденной нищетой и завистью. Пролетарии интеллекта, мальчики, которые с детства мечтали пожрать – за любой счет.
Идрисов – обыкновенный агрессор, оккупант, решивший создать свое государство там, где люди уже жили тысячи лет. Алмазы, золото, цитрины, вольфрам, соболя, лосятина, хариус – все это помутило слабый рассудок. Специально подбирал себе таких людей, неуравновешенных, «травоядных», с комплексом неполноценности. Поэтому тебе пришлось уйти, а Василию – убить его. Многие хотели, чтобы он сдох.
Яков с благодарностью принял из рук старика старую керамическую кружку с травяным чаем и снова прикрыл глаза.
– А почему Гитлера никто не пристрелил? Миллионы посылали ему проклятия!
– Потому, почему и Сталина – никто, – улыбнулся старик. – Миллионы ненавидели, а миллионы – любили, даже обожали, жизни готовы были отдать за своих вождей. Охраняли! До поры до времени, конечно, пока в очередной раз не поумнели.
– А может, потому, что Сталин был гений – так говорят? – возразил Инспектор.
– Конечно, гений, – согласился старик, – только гениальный ум способен раздавить миллионы, превратить в говно так, чтобы они ему за это были благодарны.
– Но ведь гений и злодейство несовместны?
– Правильно, значит, речь идет не о гениальности бандита, а о безмозглости народа. Народа, покинутого мной – не могу жить в бараке, с рабами. Есть такой класс людей – сдвинутые: президенты, министры, чиновники, политики, бизнесмены, генералы и другие уроды, установившие на земном шаре свои нормы, стереотипы, трафареты, понятия, ценности, законы, акты, рецепты, программы, песни, стихи, музыку, кино… Нормальным людям жить в этом желтом доме невозможно, поэтому они бегут, а чаще – гибнут. Сопротивляться способны очень и очень немногие. Единицы. В тридцатом году здесь, в четвертом отделении СЛОНа – Соловецких лагерей особого назначения, сидел Варлам Шаламов. Мы встречались с ним позднее, на берегу Охотского моря. Интересную он мне фразу сказал: «Я имел возможность почувствовать всей шкурой, всей душой, что одиночество – это оптимальное состояние человека».
– Да, я встречал эту мысль в его антиромане «Вишера», там он пишет: «Идеальная цифра – единица. Помощь единице оказывает Бог, идея, вера».
– В России ввели мораторий на смертную казнь.
– От слова «мор», – кивнул головой Югринов. – Столько людей мрет ежедневно, что нет смысла в официальном расстреле – они перешли на самообслуживание, приговаривая друг друга. Это и есть распад империи.
– Вот именно. Но Василий Зеленин вернулся к военному варианту публичного расстрела. Потому что в стране идет гражданская война.
– Но почему «публичного»? – не сразу понял Югринов.
– Потому что он сделал это на глазах начальника охраны, который уже через неделю его предаст.
– Догадываетесь или знаете? – опешил Инспектор, задержав руку у кружки на дощатом столе.
– Это называется жизненным опытом, молодой человек, – хитровато усмехнулся старик. – Я знаю, что Идрисов один по тайге не ходил, что у него появился новый начальник охраны, которого надо ввести в курс дела. Правильно? А самое главное – Василий безвинного не тронет.
– Через неделю, говорите. Страна предателей. Война шла здесь всегда – угры, тюрки, русские… Я читал, первые славяне появились здесь в XIII веке – новгородские ушкуйники, православные.
– А ты знаешь, кто такие православные?
– Нет, не слышал.
– Это те самые люди, которые сожгли протопопа Аввакума, писателя.
– Понятно, – протянул Инспектор, закидывая голову, чтобы размять затекшую шею. – Вы знаете, Гаевская, жена Василия, рассказывала, будто Идрисов претендовал на родство с Чингизом Айтматовым, знаменитым киргизским писателем.
– Да-а… А как сам писатель относится к Идрисову?
– Боюсь, он мог только догадываться о его существовании, судя по книгам – кстати, великолепным: «Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток… А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства – Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей».
Югринов шел от старика к югу. Он думал о том, что в табунах горного тумана можно заблудиться, что в одно и то же время в низовьях идет зеленый дождь, а в верховьях – фосфоресцирующий снег. Представлял, как в зеленой воде шевелят красными перьями гигантские таймени. За километр слышал гул вишерских порогов и мысленно благодарил тех, которые динамитом взорвали большую часть подводных камней. Он знал: рядом с порогами не слышно человеческого голоса, а ниже города родниковая вода реки становится темной от болотных притоков.
Он стоял на пожарной вышке Полюда и всматривался в даль, прозрачную на пятьдесят километров вокруг. Он видел каменные замки у реки, одинокие башни и «грибы», многотонные шляпки которых, казалось, покачиваются от ветра, вспоминал песчаные косы и сосновые бора на пологих берегах, разглядывал известняк с остатками морской фауны, цветное дно перекатов. Ему чудилось, что он идет по долгому дну моря, где камни медленно нагреваются и медленно остывают, где весенние заморозки не пугают, а радуют своей последней, детской, неожиданной наглостью.
Я получил письмо от Василия Зеленина.
«Здравствуйте, Юрий Иванович! Примите мою запоздалую благодарность за ваше участие в моем деле. Или, если не возражаете, нашем деле, поскольку вы раньше меня пытались поставить вопрос о деятельности покойного директора. Тогда никто не услышал, вернее, не захотел услышать.
А мы с женой смеялись и недоумевали: „Глянешь, плюнешь, отойдешь – ничего в нем нету, только скоро эта вошь всех сживет со свету…“
Но мы не директору более удивлялись – по нему психушка плакала (хотя, конечно, феномен, в грязном деле – гений). Местное население удивляло нас: людей топчут, унижают, с дерьмом заживо мешают – терпят, кто-то даже лебезить пытается. А вроде не совсем забитые. Как друг друга, так из-за соболиного хвоста под корень положить готовы. А тут ублюдок, соплей перешибешь – и никто пальцем не тронул. Ни за себя, ни за близких. Даже мент-полковник, сестра которого из-за Идрисова попала в больницу. Столько крови он из нее высосал. Трудно объяснить, но ведь умел – не зря один из свидетелей назвал его на суде вампиром.
Рассказывали, когда Идрисов работал в заповеднике „Басеги“, его прямо в конторе били – за то, что одну сотрудницу таскал за волосы по полу. А уволить нельзя – в Москве где-то партнер-покровитель. Если писать о его министерских сношениях, то, вероятно, их можно назвать „абрикосовый джем“. Не думаю, что звонки с угрозами вам делали залетные пермяки, скорее всего – столичные птицы.
С „Басегов“ Рафика кое-как на Вишеру сбагрили – с повышением и сопроводиловкой: мы с ним помучились – теперь вам предстоит. Зато в суд из того заповедника пришла крайне положительная характеристика. Люди сами себя приговаривают, будто в карты проигрывают.
И мне сама следователь сообщила, что Алма-Ата интересуется делом и меры ко мне будут применены самые суровые. Я спросил тогда: „При чем здесь Алма-Ата? Мы в какой стране живем с вами?“
В вашей статье, к сожалению, была неточность: меня прокурор спросила: „Кто дал вам право судить, то есть выступать от имени государства?“ (а не народа – как у вас). Не было смысла объяснять ей, что государства у нас разные: для нее это – погоны, мнение вышестоящих, немалый гарантированный оклад и прочие радости, для меня это – люди, среди которых я живу, и земля, на которой живу.
Прозвучало еще нелепее, когда та же женщина заявила, что Идрисов был положительным человеком, потому что не пил вина и не ел мяса. У меня сразу возникла аналогия с вегетарианцем Гитлером – тоже, похоже, положительным героем был.
На суде я, помнится, сказал, что Идрисов мое национальное достоинство унижал. И свидетели подтвердили – да, говорил: „Вы, русские, будете сосать у меня…“ И тут судья развел демагогию, что русский мужик, мол, такой… что русский мужик просто обязан сосать у всякого чурки вот это самое. А превозносили судью как спеца, автора статей разных. И по фамилии вроде русский… Национальный вопрос в России всегда замалчивался – с той самой ложной деликатностью, которая русскому народу стоила моря крови.
Однажды весной Идрисов спрашивает нас: „Ну, как зимовали?“ И я давай ему: численность, урожайность, глубина снега, толщина льда… Тут директор застенчиво так, но серьезно спрашивает: „А вот аномальных явлений не было?“
Вообще-то всем приходится мерзости в жизни творить, кому-то по материальным соображениям, кому-то для самосохранения. Идрисов творил мерзость ради мерзости, а это уже идеология, которую он, кстати, не скрывал. Идеология его была параноидной – аномальным явлением, восточно-травоядной кашей. Представлялся буддистом, хотя учение толком не знал. Тут же начинал проповедовать дианетику, какие-то навороты из разных магий, астрологий и шаманизмов. Единственное, что не признавал, – христианство. Помню, как с пеной у рта всю ночь доказывал художнику Городилову, православному старичку, свою правоту: „Это что за вера такая, если сказано: ударят по щеке – подставь другую?“ А про ислам ничего не говорил, хотя это его наследственная религия.
Еще он считал, что все, кто с ним в плохих отношениях, будут наказаны. То ли высший разум этим возмездием занимается, то ли сам Рафик, с помощью своих сверхспособностей, – я не понял.
Читают в конторе вслух газету „Березниковский рабочий“, сообщение: авария на производстве, обгорел аппаратчик Якушев. Вскакивает Рафик и орет на всю степь: „Я же говорил, кто против меня пойдет, тот плохо кончит!“ Потом оказалось, что это не тот Якушев, который работал в заповеднике инспектором.
Радику Гарипову, бывшему начальнику охраны, на ногу падает металлическая плита. А Рафик заявляет: „Испортил со мной отношения – теперь инвалид“.
Вертолетчик Савченко в свой последний залет на кордон узнает, что продукты, которые оставляют нам „мафиозные“ туристы, Рафик ставит на подотчет и собирается высчитывать за них из наших зарплат, по любой цене. Мы это всерьез не воспринимаем. А Савченко обещает, что разберется с Идрисовым. Игорь Пушков, бортмеханик, прямо при Рафике говорит: „Да как вы с таким дурным директором и в таких условиях работаете? Я найду вам место у себя в Кировской области“. Через полтора месяца слышу по радио сообщение: в районе Очёра разбился Ми-8 с тремя членами экипажа и двумя врачами. У меня появляется нехорошее предчувствие. Через три дня Рафик на связи: „Радио слушаешь? Да? Так вот, двое из них – это Савченко и Пушков!“
Так и сказал – слово в слово. Я в бесовщину не очень верю, хотя и не отрицаю. Опер, один из тех, которые меня брали, сказал, что у трупа нашли христианскую молитву. Я сначала удивился, но потом вспомнил, что сатанисты читают эти молитвы задом наперед.
Сначала я, когда слышал эту идею от других, был категорически против убийства Идрисова, считал, что слишком легкий для него конец. А тут самого замкнуло, стал как зомби: исчезла ненависть, заданность какая-то появилась – убить. Отчет, правда, себе отдавал, понимал, что я камикадзе, а после в тайгу убегать – жену оставлять опасался, что на растерзание… Они, что чурки, что мусора, друг друга стоят. А готовить все заранее, поверьте, я и не думал (вы в статье версией следствия воспользовались, но я не в претензии). Однако злоба меня душила и возмездие должно было грянуть. Правда, я думал, это сделает кто-то из местных, сильно обиженных, которые не раз говорили: если что – рука не дрогнет. Я и сейчас этих людей помню и люблю, хотя меня там все забыли и считают идиотом. А о том, что я тогда чувствовал, сказано в Библии: „Ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя“. Может, я неправильно понимаю, но для меня это не столько жизнь отдать, сколько взять грех на свою душу.
А насчет того свидетеля – знал, конечно, что он меня сдаст. И то, что не вышло из меня Раскольникова, вовсе не значит, что я его пожалел: просто дня меня вопрос такой не стоял. Симпатии к свидетелю как человеку я никогда не испытывал, скорее наоборот. Но прощения у него на суде просил вполне искренне. Парень даже в армии не успел послужить, а тут при нем – шарах-бабах! Нельзя от каждого партизанской выдержки требовать – он и так неделю держался, хотя ничем мне обязан не был. И меня он не боялся, когда у ментов сидел, просто к потерпевшему относился „как и все мои товарищи“. Помнится, под давлением всеобщей уверенности, что я просто обязан был убить свидетеля, начал оправдываться: мол, он русский, поэтому я его отпустил… Да нет, конечно, будь он узбеком, я все равно отпустил бы его. Хотя я националист – в свободном Казахстане им стал.
Что-то не то я вам написал… Сегодня я существую по обязанности. Давно бы кончился, если бы жена своим жизнелюбием не поддерживала. И о родителях думаю – как-то ближе они мне стали. К прежней жизни на воле вряд ли удастся вернуться, а любая другая для меня – не жизнь… Сейчас выбрал бы пожизненный срок, чем остаток этого… Я человек развращенный – тишиной, покоем и свободой.
Извините за беспокойство. Всего вам доброго.
Василий».
Служить Василий был готов. В Заполярье. В 1984 году.
Но кальсоны старослужащим стирать не собирался. И на один удар отвечал двумя. Поэтому советские азиаты начали вызывать Зеленина по ночам, каждый раз – для последней разборки. А он оклемается, свинья грязная, и опять за свое…
В восьмидесятых годах двадцатого столетия на территории СССР сказалась разница рождаемости в шестидесятых: сверхнизкая – в метрополии, сверхвысокая – на южных окраинах. К тому же проявилась разобщенность белой расы и сплоченность «черной». Короче, более половины зеленинской роты составляли узбеки. Они устроили очередную разборку на стрельбище, точнее, чуть в стороне. Четверо напали на Василия, закрутив на правую ладонь конец кожаного поясного ремня с медной бляхой на свободном. Когда двое от зеленинских ударов рухнули, подскочил еще один, с эскаэсом в руках, разворачивая на ходу не штык-нож, а штык старого образца – ромбический. Василий успел это заметить… Полная победа ислама! Граненый металл вошел в живот российского солдата.
Русские офицеры нашли машину, плашмя забросили Зеленина в кузов и отправили в госпиталь. А Василий, утратив зрение, со сплошным северным сиянием в голове, стонал, скрипел зубами, пытаясь запихнуть свои резаные кишки обратно.
– Когда случилось? Три часа назад? – услышал он голос свыше.
Ответил медику сопровождавший раненого мичман.
– Да ты, парень, уже давно на том свете, – склонился над Василием военный врач.
«Вы старше меня на десять, – писал Василий, – поэтому не застали в армии „черную“ экспансию, поддержанную продажностью белых офицеров. Вспомните Рубцова, который когда еще писал: „Россия, Русь! Храни себя, храни! Смотри, опять в леса твои и долы со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы“. Хотя против настоящих татар и монголов я ничего не имею. Но я знаю, что в девяносто первом в Душанбе с девятого этажа выбрасывали русских младенцев. А сегодня они везут сюда героин, чтобы довести до конца начатое тогда дело. Вот оно – предательство белых…»
В Усть-Каменогорске, казахском городе с русским населением, Зеленин и Гаевская сделали последнюю пересадку, граница была совсем близко… Ночью на вокзал ворвались трое здоровых, будто верблюды, казаха и начали избивать пассажиров, а в зале ожидания были дети, женщины и старики. Из мужчин – Василий да один освободившийся зэк. Они переглянулись, оторвали от скамеек тяжелые рейки и бросились к «черным», но верблюды, вообще, быстро бегают… Имелась возможность появления белой милиции, но так и осталась возможностью. Точнее, «розовые лица» появились после дел – как всегда, трусливое, продажное племя…
Мы сидели за дощатым столом во дворе будущего дома Алексея Копытова, который за пять лет в одиночку залил стены первого этажа монолитным железобетоном и уже два года поднимал второй этаж из гипсоблоков. Рядом с дорогой, которая вела в сторону брошенного, пустынного, песчаного пространства аэропорта и далее – на Ваю и Велс. В десяти метрах начинался сосновый лес, на севере поднимались Морчанские поля, с которых когда-то мы запускали радиоуправляемые планеры, а правее виднелась деревня Берёзовка. Алексей неторопливо рассказывал – мне и Раису.
– В этой Берёзовке родился Железный Влас – знаете об этом? Ну-у… – удрученно покачал он чуть поседевшей головой, дивясь необразованности своих вечных учеников. – В 1973 году его именем назвали теплоход, имевший ледовый класс.
«Опять эти корабли», – весело подумал я. Копытов, помнится, часто вспоминал древних: плавать по морю необходимо – жить не так уж необходимо. Алексей и дом-то поднимал для того, чтобы иметь возможность строить рядом с ним яхту, на которой по Вишере, Волге, Волго-Донскому каналу и Дону уйти наконец в Азовское море, Чёрное, Средиземное, а потом, понятно, в океан, Атлантический…
– Кстати, длина теплохода – сто пятьдесят метров.
Алексей замолчал. Наверно, он представил себе эту длину – и ушел в океан своей мечты.
– Он был приписан к Архангельску. Оттуда много лет назад русские проложили путь в Европу и Азию – правильно? А потом, во время Второй мировой войны, туда шли корабли союзников с оружием и техникой.
– Ты нам чего рассказываешь – о теплоходе или человеке? – не выдержал флегматичный Раис Сергеевич. – Я знаю про Архангельск, неподалеку служил в ракетных войсках – вентиляционщиком. Вентилятор командиру включал по утрам – жарко там, особенно в январе. До сорока доходило.
– О человеке! – согласился Алексей Алексеевич. – Америка тут не просто так. Ничков Влас Никифорович! В Берёзовке родился, здесь же работал – учителем в школе, потом учился в Ленинградской сельхозакадемии имени Кирова, ныне покойного. Поняли? Учитесь. Воевал на Ленинградском фронте, в минометном полку. Доктором экономических наук стал. Возглавлял Всесоюзное объединение «Экспортлес».
– Был награжден орденами и медалями, – не выдержал я вечно дидактического тона друга. – Ты что, некролог цитируешь?
– Очерк о герое-земляке, – Алексей достал из кармана сложенную вчетверо газетную полоску и начал читать уже по ней: «Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями…»
– Двумя орденами Трудового, – воскликнул я, – Красного, блядство, Знамени! А я даже значок ГТО потерял, по пьянке.
– «…Позднее Влас Никифорович возглавил советскую торговую фирму в США – „Армторг“, которая начала свою деятельность еще в двадцатых годах. На этом посту он много сделал для организации эффективной торговли между двумя странами. Тогда его и прозвали Железным Власом – за твердость, за непреклонность в проведении служебной линии. Надо думать, Ничков жестко защищал интересы СССР на международной арене. И тем не менее за границей к нему относились с открытой симпатией. Вот как писал корреспондент газеты „Советская культура“ Леонид Почивалов о корабле „Влас Ничков“: „…на борт идущего первым рейсом судна в западных портах, обнажив головы, поднимались десятки людей – коммерсанты, брокеры, промышленники – те, которые считали своим долгом почтить память уважаемого коллеги“».
– Ну и в чем мораль? – спросил я.
– Как в чем? – затянулся Раис американским дымом. – О нас так не напишут. Вот в чем!
– О нас напишут иначе! – лениво возразил я.
– О вас вообще не напишут, – поставил точку Алексей Алексеевич. – Может быть, эпитафию только, в стихах. Об эпитафиях. Читаю далее: «В 1972 году на советское торговое представительство в Вашингтоне был совершен налет – террористический или просто бандитский, с применением физического насилия. Факт этот долгое время скрывался и до сих пор широкой общественности не известен. Влас Ничков, бывший уже на семидесятом году жизни, тяжело пережил нападение – вскоре у него случился сердечный приступ, после которого он скончался. Похоронен „железный“ человек в Москве…»
– Все россияне мечтают быть похороненными в Москве, – заметил Раис, – кроме тех, которые воюют за Москву в Чечне. Те просто мечтают быть похороненными.
Эти вишерские легенды свели с ума целые дивизии людей! Сколько пацанов сбежало в мир с мечтой о похоронах в Москве. А кто знает, сколько динамита взорвано у Полюда авантюристами, приезжавшими сюда в поисках заваленной пещеры? Люди мечтают. Еще в тридцатых здесь видели лагу, с помощью которой открывался каменный вход в подземелье, и толстую веревку, уходившую вниз. И кто только не искал затонувшую на Вишере баржу с чугунными чушками, в которые хитроумные французы, добывавшие в верховьях руду, заливали тайно намытое золото, чтобы вывезти его за границу. Но все это фигня по сравнению с рассказами об армейском разведчике, майоре Павлове, которого после войны посадили в лагерь на Перше. Когда он покинул зону – сбежал с молодым зэком, разоружив караул, – в небе барражировали самолеты, а леса оцеплялись войсками НКВД. Но старый лазутчик усадил у костра манекен, по которому стреляли солдаты – и попали, сразили наповал беглеца, подошли к костру и были на куски порезаны автоматной очередью. Мой отец утверждал, что Павлов был убит и привезен на Вишеру в кузове грузовика. Другие были уверены, что разведчик ушел в тайгу и до сих пор там скрывается.
А какой силой обладала легенда о том, что злу не миновать воздаяния? Во все века! Мой отец рассказывал вишерскую историю. В двадцатых годах советская власть собрала в одном язьвинском амбаре иконы, свезенные с окрестных церквей, деревень. А в тридцатых годах в этом амбаре стали складировать мясо. И работал там один мужик. Он брал иконную доску, переворачивал ниц и разрубал на ней мясо. Потом началась война, мясника забрали на фронт, откуда он вернулся с обрубками вместо ног. Было что-то в этом: не убит, а обрублен… Заканчивая рассказ, язьвинские бабки поднимали указательный палец вверх! Как восклицательный знак. Как это делал Раис, пока не бросил пить водочку.
Я сидел возле дома Алексея и вспоминал одну картину, которую мне удалось увидеть тридцать лет назад. Солнце, как огненный щит воина, заходило за тайгу левее Полюда, и три багровых луча-меча расходились по августовскому небу в сторону города, до самой Вишеры, до того высокого берега в березах и соснах, где я, пораженный зрелищем, смотрел на феерический закат моей юности…
Потом я снова вернулся в Пермь. И в сквере Уральских Добровольцев неожиданно встретился с главным интеллектуалом Перми – Олежеком Гостюхиным, собиравшим пустые бутылки из-под пива, знаменитые «Чебурашки».
– Ты знаешь, зачем наш милосердный Бог сделал муравьев такими маленькими? – спросил Олежек. – Чтобы мы не страдали, когда случайно наступаем на них. Поэтому я такого роста – понял?
– Да, – согласился я, – а если бы они были большими, как слоны, то давили бы нас.
Понятно, мы немного выпили – на лавочке, рядом с которой стояла железобетонная урна, откуда мой вечный лингвист достал последнюю тару.








