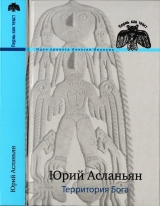
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
9
В год смерти деда Давида и Сталина, пятьдесят третий, Паша Кичигина поехала в Сибирь, чтобы навестить Лидию Никаноровну и Мишу. В Тюмени, переночевав на вокзале, она села на пароход и с долгими пересадками, живя на пристанях по два-три дня, поплыла в страну хантов. Прошло более полумесяца, и она осталась на берегу с двумя мужчинами-попутчиками, сказавшими ей, что тоже добираются до родных. «И как не побоялась – молодая была, двадцать три года…» На лодке перебрались на другой берег, где заночевали в гостеприимном доме местного учителя, накормившего путников ухой. До сих пор помнит… Чем дальше в лес, тем больше хороших людей попадалось. И попутчики оказались порядочными. Тридцать километров прошагали они по тайге вместе, на руках перенесли ее вброд через реку.
– Ой-е-е-ей! Как же ты добралась сюда? – встретила ее мать.
К тому времени большинство ссыльных уже жили в бараках без комнат, от торца до торца сплошь заставленных кроватями. В трюмах, вагонзаках и бараках советская власть продуманно лишала людей уединенности и личной жизни, чтобы избавить их от чувства собственного достоинства. «Ваше место у параши», – говорила она им.
В тот год Лидия Никаноровна работала уборщицей – после того как Миша заблудился и его искали в лесу всем поселком. А в таком случае пропасть было просто и тем, кто был в своем уме. Так произошло с одной женщиной, которая, зная, что ее будут искать, стала разрывать свое платье и сорочку, развешивая лоскутки на деревья там, где проходила. И женщину нашли по этим знакам – вернее, то, что от нее осталось… Мишу нашли живым. Но он нуждался в присмотре, он нуждался в надсмотре – всегда: потом, когда жил с Лидией Никаноровной на Вишере, местные пацаны швыряли в кудрявую беззащитную голову камнями, а один раз даже подожгли на нем фуфайку. И кто из них был более лишен рассудка? Бедные, убогие дети, родившиеся в советском лагере…
В пятьдесят третьем ссыльным уже жилось теплее, у иных имелись даже свои дома. И сытнее – был хлеб, прямо на улицах лежали горы сухих кедровых орехов, люди собирали ягоды и яйца уток, а рыбу «черпали из реки ковшами». Одна из женщин, владелица двух коров, начала уговаривать Пашу Кичигину выйти замуж за ее сына. Паша только улыбалась, она думала о другом – о том, как вытащить отсюда мать и братишку на Вишеру.
Погостив в Сибири, запомнив советы бывалых людей, как лучше действовать, она отправилась в обратный путь, который оказался еще труднее, поскольку вышли почти все деньги. В Тюмени ночевала у добрых студенток в общежитии, а водителю такси в поздний час пришлось отдать одеяло. Так и добралась до дому – голодным зайцем. И сразу начала хлопоты по вызволению родных из ссылки, пошла обивать пороги. Потом научили уму – поехала в Верх-Язьву, в колхоз, собирать подписи о том, что сельчане ничего не имеют против возвращения Лидии Никаноровны с сыном из ссылки. «Людей не собрать, иди по домам», – посоветовал ей Пётр Егорович, директор школы. И Паша пошла по домам земляков…
Но в тот год моя бабушка вернуться не успела, поскольку кончилась навигация. Они с Мишей приехали в пятьдесят четвертом и остались жить в городе, поселившись в деревянной будке одной из водокачек. Лидия Никаноровна топила печь, грела трубы, чтобы не перемерзали. Ей исполнилось всего пятьдесят лет, когда она умерла от рака в этой же будке. «У нее не жизнь была, а мучение», – говорит моя мама.
«Дороги, которые ведут в никуда» – так назвала наши лесные лежневки Галина Матвеева. А Женя, муж ее, добавил: «На Вишере снова начали появляться из земли кости…» – «У той самой конбазы, где расстреляли моего деда», – вспомнил я.
Куда вела дорога эта? Расступается земля, темнеет в глазах от белого света, хлынувшего в пустые глазницы прошлого. «Это город тополей и тюрем, это город слёз и тополей», – поет Женя Матвеев.
Поет о матери Марии. Так звали мать Фёдора Щепина, мужа моей сестры Анны.
До сих пор стоит он в центре города – двухэтажный двухподъездный дом, бревенчатый, черный, на восемь коммунальных квартир. Стекла на лестничной площадке выбиты. Перила покрыты блеском прошедшего времени. Стены пропитаны запахом недорогой человеческой жизни. Очень недорогой.
Помню, в девятиметровой комнате сидят две старухи. Гостья, Анна Алексеевна Карионова, на три года старше хозяйки, своей подруги Марии Яковлевны Щепиной, рассказывает мне про подругу:
– Помню, как она бегала с братиком и сестренкой под окнами – маленькие, как пестики, все игрища устраивали…
И распахивается на миг бездна. Плачет старуха. Восемьдесят годов прошло.
– Я в девять лет уже по миру ходила, в лаптях, – продолжает она. – Мужа на войну взяли – обратно не вернули. Все простила теперь… Девяносто лет прожила на свете – ни одной буквы не знаю. Да и глаза плохо видят. Вот Марии грибы принесла.
Мария Яковлевна и сама еще «по губи» ходит. Каждый день через дорогу – в городской парк. Медленно ходит, как знак вопроса.
Мать у Марии рано умерла, а отца убили белые, когда ей было восемь лет. Остались четыре сироты. Жила «у одних» в Чердыни, с детьми водилась. Правда, кормили и по семьдесят копеек в месяц платили. Не училась – хозяева говорили: «Потом научишься письма писать». При советской власти два раза сильно голодали – «траву ели, а сегодня хлебушко кушаем, хоть и дорогой».
Когда Мария приехала на Вишеру, в будущий Красновишерск, здесь не было ни одного дома. Этот дом, первый в городе, построили заключенные. В эту комнату она вошла шестьдесят лет назад – молодой, здоровой, красивой.
Тусклое зеркало, искусственные цветы. В углу – старый шифоньер, на котором образ Богоматери из календаря. Образ Матери…
Дочка Марии умерла перед войной, от кори. Сын, инвалид от рождения, лежал, ничего не понимал и не разговаривал. Пролежал одиннадцать лет – и умер. Старший сын, Фёдор, муж моей сестры, умер недавно. «Федю похоронили – день и ночь жалею…»
Мария Яковлевна работала официанткой, техничкой, прачкой в детсаде – пока руки не покрылись экземой. «Плакала, да работала…» Всю жизнь, с восьми до восьмидесяти лет, ходила за детьми, своими и чужими. Николай Гурьянович Чагин, с которым воспитывала своих детей, домой не вернулся. Остался в братской могиле под Ленинградом.
Во время войны, когда Валерик лежал один в этой девятиметровой комнате, она работала на лесозаводе, оставалась после смены – и еще работала: «таскала брак – по рублю в час платили». А ночью стояла в очереди за килограммом хлеба.
Квартиру никогда не просила, поскольку знала, что все равно не дадут. Дали вторую комнату, с окном, напротив которого стоит памятник Ленину, покрытый свежей серебристой краской настолько, что похож на инопланетянина в костюме. Откуда, с какой планеты он залетел сюда, Господи?
На стене я заметил пустую рамку для фото – кого в ней сегодня нет? Сына? Дочки? Мужа? Никого нет…
Россию у нас называют Матерью. Я вспомнил слова Евгения Рейна о будущем страны: «Мы все тогда войдем под колокольный звон в Царьград твоей судьбы и в Рим твоих времен». Мать Мария не читала стихотворения поэта из Ленинграда, где погиб ее муж. И Анна Алексеевна читать не умеет. Впрочем, разве это имеет какое-нибудь значение перед величием их трагедий.
Старший сын Марии Фёдор стал мужем моей сестры Ани. В сорок три года он заболел раком, полгода лежал. Аня каждый день покупала две бутылки водки и садилась рядом с кроватью – снимала ему боли. Фёдор оставил троих детей… Потом сестра, о чем бы ни шла речь, могла на любой вопрос ответить, казалось бы, потусторонней фразой: «Не говори мне про любовь…»
10
И вот он наступил – год пятьдесят шестой. Анну Михайловну вызвали в комендатуру и объявили: вы свободны, вы можете покинуть Вишеру. Вот Кавказ, а вот Средняя Азия – поезжайте куда угодно. Только не в Крым. В Крым нельзя – и точка, и подпись, то есть крестик, что не поедете.
Освободили, но денег не дали, дом не вернули, на родину не пустили. В тот год уехали Ваня Чалухиди, Степан Теназлы и Степан Манов – те, у кого было на что. «Остались братья Багчивановы, Юра Николаиди, я остался…» Отец называет их так: Ваня, Юра – тезки, ровесники, земляки. Депортации, оккупации, переселения, миграции…
Анна Михайловна жизнь повидала. Она родилась в 1886 году на станции Ислам-Терек в семье грека Узунова, у которого было семеро детей. Во время Гражданской войны погиб брат Иван. Тогда же погиб брат Георгий, похороненный в братской могиле в Белогорске. Они были партизанами, как и ее сыновья. Остались пять сестер, она старшая. В Крыму погиб сын. На Вишере умер муж. И вот комендант ей сказал: вы свободны. Это в семьдесят-то лет!
Армянак и Ованес были женаты, имели детей – им трудно сорваться с места. И она решила ехать с одним Богосом на родину! Но в милиции Карасубазара, ставшего к тому времени Белогорском, ее не ждали. Удивленные начальники сказали ей вежливо, но коротко: даем тебе сутки, чтобы ты с сыном успела исчезнуть с территории Крыма.
– Я ничего не могу поделать, вам запрещено сюда возвращаться. Поезжайте обратно. Или в Азию, – пытался образумить упорную старуху секретарь райкома партии, к которому она пришла после милиции.
Анна Михайловна встала и подошла к окну его кабинета.
– Тогда выкопайте из могилы моего сына, – сказала она, – я повезу его на Урал.
В то время вторая могила Гургена еще находилась в городском парке, перед белогорским райкомом партии.
– Он похоронен здесь! – показала она рукой на памятник, под которым лежал прах трех погибших в марте сорок четвертого года партизан.
Секретарь райкома все понял. И тотчас вызвал по телефону начальника милиции.
– Мамаша, подождите пока в коридоре, – попросил он.
И минут через пять ее пригласили обратно.
– Где вы хотели бы прописаться – в городе или в деревне?
– Я поеду в Пролом, – ответила Анна Михайловна.
Армянские дома в деревне были давно заняты. Поэтому старуху и сына поселили в старой пустой школе. В той самой, где Ерванд Асланян учил пацанов армянской грамоте. Но вскоре они переехали в Васильевку, поскольку Богос женился на тамошней гречанке. Русский выбор Ивана Анна Михайловна не одобрила, и даже очень, не ведая, что творит. Пройдут годы, и, умирая в доме моего отца, она попросит у моей мамы прощения. И на севере, и на юге Иван выдержал давление национального консерватизма – и сделал, слава богу, по-своему. Вот родители! Наградят детей своим характером, а потом диву даются, откуда что появилось.
Через год после Анны Михайловны в Крым выехал мой отец. Мне тогда было два, а сестренке – один год. Продать вещи, оставить жилье – это было рисковым предприятием. И точно: сельсовет в прописке отказал сразу. Тогда Иван послушался людей и рванул за счастьем по одному кубанскому адресу. Там его будто ждали и поэтому вели долгий и лукавый разговор. «В лапу хотели получить, – поясняет он, вспоминая те дела, – а что давать-то?»
Иван Давидович вернулся в Крым. В белогорской милиции его развернули. И в Симферополе, в облисполкоме, отказали. Отказал председатель, солидный человек. Иван Давидович вышел на улицу и закурил. И вдруг видит, что к нему подходит мужчина в кожаной куртке, появившийся из дверей того же учреждения. Как по следу вышел.
– Зачем приходил, товарищ? – спросил он душевно.
Отец, простой человек, охотно объяснил все, с надеждой глядя на незнакомца.
– Документы есть? Покажи. Хорошие документы.
Кроме прочих бумаг была у отца справка, полученная Анной Михайловной в Киеве, которая официально подтверждала, что семья Асланян – партизанская.
Через двадцать пять лет после этого случая моего университетского товарища Алексея Стаценко будут таскать на допросы в Пермское отделение КГБ. Там немало вопросов зададут ему обо мне и моей семье. «Его отец был в партизанах!» – скажет Лёшка. «Это еще надо посмотреть, в каких партизанах он был!» – отрежет молодой, розовощекий гэбист. Вот бы в проломовские леса козла вонючего…
– Хорошие документы, – отметил мужчина в кожаной куртке. – Приходи сюда вечером, приноси две тысячи – и прописка будет.
«Занять деньги! Да… Ты там выписался, здесь не прописался, убьют – и никто искать не будет!» – так сказала ему вечером моя мать. Так встретила родина своего Ованеса. Уже другое, не проломовское, а советское подполье действовало тут. И, завязав котомки, он с семьей отправился на Урал второй раз, но уже без охраны. Во второй раз, но не в последний.
Два года он проработал на самосвале, доставляя гравий на строительство вишерского аэропорта. А затем снова поехал туда – к прохладным скалам и цветущим вишням своей родины. На этот раз в Симферополь направилась Анна Михайловна – в управление внутренних дел. И добилась своего – прописала сына. Хар-рактер у нее был!
Нашей семье дали двухкомнатный кирпичный дом в новом углу Васильевки, который местные прозвали «бендеровским поселком». Везло нам на лихие названия – что Лагерь, что это… Нищета приезжая, голь хохляцкая да кацапская жила там. Пустая улица, без вишен, без яблонь, с углем и поленницами прямо в комнатах, чтоб не украли. В доме были голые стены. Мы жили в одной комнате, а во второй лежали доски, привезенные с Урала для строительства дома в Проломе, о котором мечтал отец. И все было бы ладно, и все было бы так, да родная советская власть не желала убирать руки с горла своего терпеливого народа.
Иван Давидович работал шофером – для него других профессий не существовало. И в 1960 году в колхозе имени XXI партсъезда он имел самое большое количество трудодней. Он в первые никогда не рвался, но не любил быть вторым, а тем более третьим. Во время уборочной страды с восьми часов до пяти возил зерно от комбайнов на ток. И я, сидя в его горячей, перегретой кабине, срывал абрикосы с веток бесконечных лесополос вдоль пшеничных полей. В тот год они уродились, их коврами стелили на черепичных и шиферных крышах – сушили сочные плоды юга, готовясь к очередной голодной зиме.
А вечером и ночью Иван Давидович успевал сделать два рейса в соседний район на элеватор. И отпускал руль, чтоб остыл, только в пять утра, три часа спал – и снова пылил в поле. Ему нужны были деньги. Он ездил в горы за камнем, закладывал фундамент дома в Проломе, уже собирался строить. Деньги нужны были.
Председатель колхоза обещал заплатить за трудодень пятьдесят копеек! В конце года. И отцу приходилось вертеться вместе с рулем, поскольку на руках было двое детей, больная жена и сумасшедший шурин Миша, которого взяли с собой. В том же году поздно вечером принесли телеграмму. Громко заревела мать, и мы, дети, ничего не понимая, сильно перепугались. Оказалось, на далекой Вишере умерла бабушка Лида…
– Ты почему не воруешь? – спрашивали Ивана соседи, регулярно посещавшие колхозные сады по ночам.
– Пусть подрастет, – мягко отвечал отец.
У этих бедных людей в «бендеровском поселке» дома сидели дети, которые хотели есть. Сейчас это страшно вспомнить, и вот я думаю: а я бы пошел, я бы пошел воровать… Потому что народная нравственность не совпадает с лагерно-милицейской. В этом мы уже убедились.
С колхозных полей тащили все, потому что своих не было. У вербованных хохлов, заселивших новый угол Васильевки, не было и садов – они чистили по ночам колхозные. Набивали мешки яблоками и грушами, продавали фрукты на городских базарах. И я с сестренкой лазил по виноградникам, и нас гонял сам однорукий заместитель председателя колхоза.
Как-то отец вез в кузове женщин с поля. У них под белье, под юбки и кофты были засыпаны кукурузные зерна. А на дороге колхозниц уже ждали участковый милиционер и зампред. Одна из женщин, испугавшись, побежала, однорукий – за ней. И тут кто-то удачно бросил в него камнем, угодив прямо в голову. Убить не убили, а того, кто бросил, не выдали.
Вот такая гражданская война шла. Вернее, продолжалась и идет до сих пор. Сам председатель и рад был бы дать колхозникам, да что? Зерно забирали, а денег за него никто не давал. И однажды председатель сам решил отогнать четыре машины с луком в Харьков, потому что в местной заготконторе давали всего двадцать копеек за килограмм. Но когда колонна подошла к Чонгарскому мосту, милиция развернула ее обратно. Будто страна была рассечена на зоны. Тогда председатель увел подчиненных в степь, где все легли спать. А с наступлением ночи машины, выключив фары, тихонько вернулись к мосту и быстро проскочили его в темноте. Чем не боевая операция? Проспала милиция. «Ну, теперь мы на Украине!» – радостно констатировал председатель. В Харькове они сдали лук по сорок копеек за килограмм.
Какая-то машина сбила под Запорожьем двух человек. Гаишники искали преступника. Они остановили колонну, председателя и всех восьмерых шоферов забрали в милицию. А чего мелочиться! Привыкли брать бригадами, партиями и народами. Выпустили только через сутки.
Когда позднее бывал в Крыму, я видел драки, избиения, мошенничество, но бегущую на помощь милицию я не видел никогда. Конечно, мне просто не везло. Мне повезло только один раз: когда я ехал по горной троллейбусной трассе из Симферополя к морю, на каждом отвороте стояло по «красноголовику». Как оказалось, они встречали не меня, а какого-то члена правительства.
Зато они любили встречать моего папу, хотя он не в черных лимузинах ездил. Через три дня после возвращения из Харькова он отправился в Симферополь за лесом на железнодорожную станцию. Он сидел за рулем ЗИС-5, армейской машины, с которой сняли прожекторную установку.
– Фары освещения не отрегулированы. Штраф пять рублей! – радостно сказал ему гаишник, тормознувший машину на выезде из Белогорска.
– У меня нет денег, – пожал плечами Иван Давидович, – мне их один раз в год дают, ведь я за трудодни работаю.
– Плати штраф! – с улыбкой продолжал выколачивать деньги блюститель закона.
– Хорошо, бери трудоднями! – осерчал отец. – Хочешь – бери сто, хочешь – двести бери!
Надо видеть этого армянина, когда он сердится, – темперамент! И хитроумный мент быстренько составил протокол «за оскорбление автоинспектора». Похоже, он просто не знал, что такое трудодень. А через неделю на заседании районной комиссии Госавтоинспекции отца лишили водительских прав на год. «Конечно, колхозник. Белогорским всем права вернули, а у них машины первоклассные были – э-э! Не то что моя…» Лишить его машины на год! Иван Давидович переночевал у друга и пошел на прием к секретарю райкома партии, все рассказал начальнику. «Нет, я был трезвый», – ответил на обязательный вопрос. Секретарь хорошо знал, что такое трудодень и сколько он стоит, – секретарь посмеялся. «Верните права!» – только и сказал он в трубку телефона.
Но в тот день, когда председатель колхоза послал отца в город за корреспондентом газеты, как лучшего гостя встретили его гаишники. Проверили – точно, люфт у тяги! Пригласили в милицию, составили протокол, спросили: член партии? дети есть? И отобрали права. Отец зашел в райком и снова все рассказал. «Где они?» – спросил секретарь. «Да вон, на перекрестке стоят», – показал Иван Давидович в окно. Секретарь вызвал инспектора к себе и приказал тут же вернуть права.
– Я все равно тебе дырку сделаю! – зло пообещал милиционер отцу, когда они вышли в коридор.
– А я снова в райком пойду, – ответил Иван Давидович так просто, что гаишник растерялся.
В конце года вместо обещанного полтинника за трудодень дали по двадцать копеек – как за килограмм лука в местной заготконторе. Точнее, не двадцать копеек, а зерно и растительное масло на эту сумму. Кроме того, Ивану Давидовичу вручили красивую почетную грамоту – за трудовые достижения. «Год проработал – одни долги, рубашку купить не на что было».
Не на что было купить лекарства, в доме не было сахара. Вскоре вышли последние деньги. И отец поехал в город сдавать свою любимую «белку», которую он привез с Вишеры, – охотничье ружье с двумя стволами для мелкокалиберных пуль и патронов тридцать второго калибра. Короче, сдал он ружье за тридцатку, идет грустный по улице, а навстречу – автоинспектор, обещавший ему обязательно проколоть талон в водительских правах.
– Ты почему не сказал мне тогда, что партийный? – спросил он Ивана Давидовича.
– А я каждому не докладываю! – самоуверенно ответил отец, из красных советских книжек имевший только одну – члена охотобщества.
А потом в нашем доме загорелся бензин. Мать бежала по улице, и на ней факелом горело платье… Нас развезли по разным больницам. Родители потеряли сознание – ожоги были страшными. В палатах они провели два месяца. Тяжело вспоминать об этом. Как будто за каждым поворотом нашу семью ждала судьба с каким-нибудь красным околышем.
Пахать в колхозе было накладно – на долги дом не построишь. Поэтому Иван Давидович перешел работать шофером в Белогорский лесхоз, где каждый месяц давали по шестьдесят рублей. И мы переехали в Пролом, в тот самый дом под скалой, где жил руководитель подполья, погибший в 1942 году Иван Федченко.








