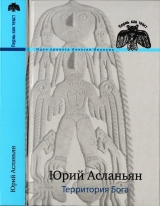
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
И тут он увидел: по зеленой полянке в его сторону бежит бригадир Зыков, двухметровый «бугор» по прозвищу Миша-машина. С топором в руке, которая сама напоминала оглоблю.
Бригадир, плотник по зоновской профессии, имел странности свободного человека: зарубит кого-нибудь в гневе, построит в лагере церковь собственными руками, помолится за упокой души несчастного, получит условно-досрочное освобождение и снова становится свободным человеком со странностями. На этот раз, похоже, «несчастным» должен был стать Югринов.
Миша-машина весело осклабился и на ходу вогнал плотницкий инструмент в мягкий дерн. «Рукой убивать будешь, – вздохнул Яков, – а ты такой большой – не достану я…» Он сделал короткий шаг влево, чтобы правое плечо нападавшего было напротив собственного правого. Замер. Миша – машина стандартная: прямой правой пошел в голову Якова, тот ушел маятником влево, одновременно «отдал честь» правой, обкатывая удар. И в тот момент, когда рука «бугра» проскочила мимо, правой ногой нанес скручивающий удар под правое подставившееся колено Машины. Ребром правой ладони двинул в голову противника, создал пару сил, захватив левой поясницу и отправив Зыкова в полет – броском по спиральной траектории влево. Бригадир молча ушел головой в бревенчатую стену стоявшего рядом сарая. И сполз по ней, размазав на черном дереве кровь.
– Что значит плохо знать коллектив, – покачал головой Инспектор. – Надо знать интересы и возможности подчиненных. Работодателя это, кажется, тоже касается.
Яков зашел в сарай и вынес оттуда канистру с бензином, щедро плеснул на угол гостевого дома, стилизованного под древнерусский терем. Когда бригада во главе с главным хитником сбежалась, он достал зажигалку, чиркнул, помаячил огоньком, кивнул належавшего у стены Зыкова, приветливо улыбнулся.
– Все сожгу, если краденое не вернете!
Хозяин кивнул головой – и вся команда свалила в сторону склада, стоявшего за балком. «Ага, припрятали, суки, догадывались, что я могу появиться – как снег в июне. Воруют, но боятся». Вернули – принесли и аккуратно сложили на траву перед Яковом.
– Идрисов мне все про тебя рассказал, – заявил бригадир на прощание. – Он узнавал, сколько стоит отстрелять такого, как ты. Оказалось, дешевле, чем он думал.
Югринов медленно пошел к перевалу и далее – в сторону речки Молебной. Василий говорил, что через два дня директор прилетит на Цитрины, а потом двинется к Мойвинскому кордону. Надо перехватить ублюдка.
Когда Идрисов не появился в девять часов вечера, Яков понял, что его не будет и в двенадцать. Было такое ощущение, будто кто-то водил Югринова по тайге и топил печь перед его приходом. Казалось, кто-то все время находится рядом.
Обычно Инспектор засыпал, втыкая над головой длинный офицерский кортик в сосновый сруб. Он владел холодным оружием – мастер спорта по фехтованию саблей. А по тайге ходил с ракетницей, в которую вставлял патрон двенадцатого калибра. Это так Идрисов вооружал свою охрану – боялся казахский хан русских романтиков: перекрестятся, сморкнутся в руку, вытрут сопли о штаны, а потом пристрелят как суку.
Яков Югринов по прозвищу Инспектор стремился к буржуазной педантичности – пунктуальнее человека, чем он, на Северном Урале не было, не существовало точнее часов, а слова – обязательней. Если он сказал, что убьет, то уже не стоит бегать по блатным корешам, лазить по загашникам и расчехлять незарегистрированные стволы, надо варить рис с изюмом и писать прощальные письма, а не заявления в милицию. Потому что все твои жизненные заботы уже позади. Да нет, он никого никогда не убивал, просто слово свое держал.
А ружей, припрятанных где надо, у него хватало. Ракетницу носил для понта.
Он шел в длинной накидке из полиэтиленовой пленки, светился от огонька сигареты, будто призрак, и посматривал на песочные часы Ишерима – камни, покрытые замшей времени, напоминали песок, сбежавший в нижнюю колбу из верхней, невидимой. Интересно, сколько камней в этих часах? Рубиновых камушков. Надо было торопиться, святое дело – раздать старые долги. Конечно, могут взять в оборот Василия Зеленина, а если он – все на себя? Этот придурок способен на многое. На миг Инспектору показалось, что сигарета слабая – да, не достает до дна. И он только головой повел, будто бык.
Валаам – остров на Ладоге. Какой-то уникальный микроклимат, древний православный центр. Гаевская приехала туда в восемьдесят пятом, Зеленин – годом позже. «Все в том острове богаты, изоб нет – одни палаты…» Жили в монастырском корпусе. Всего человек четыреста. «Светлану я, конечно, сразу заметил, – сказал Василий, – она меня, конечно, нет…»
До ближайшего берега пятьдесят километров. Летом добирались на кораблях, зимой – на вертолетах. Когда подсчитали, прослезились: Ми-8 в тот день ожидали четырнадцать человек, а борт брал только двенадцать. У трапа началась борьба за первые двенадцать мест, остальные места не были вторыми, даже третьими не были. Потому что двое должны остаться за бортом – как лишние люди из учебника русской литературы XIX века.
И тут небесная арифметика отличилась невероятной, божественной точностью: именно два человека отказались работать локтями. Они стояли и смотрели на захлопнувшиеся изнутри двери. Поскольку винты борт не глушил, ничего не было слышно. Василий увидел, как командир экипажа выглянул в открытое окно и показал ему большой палец – дескать, молодец парень! А потом ткнул указательным в землю – жди меня здесь!
Эти двое, что остались на земле, друг друга знали только в лицо. Женщина сразу же спросила:
– Почему не стал давиться за место на небесах?
– Наверное, им это место нужнее, чем мне, – ответил он.
– А мне сегодня надо было быть там, на материке.
Они стояли рядом с разбитой аэродромной будкой. Потом начали прогуливаться, не замечая, как летит время. Еще как летит… Летит! Это возвращался на остров вертолет. Вот это да. Погнал небесный архангел вверенный ему борт в заведомо убыточный рейс. За двумя пассажирами погнал, которых он заочно обвенчал – при нулевой слышимости, на языке морского сигнальщика. Они запрыгнули в пустой и просторный салон, сели к иллюминатору. А пилот – он не спешит, пилот – он понимает… Низко-низко идет он над Ладогой. На льдинах тюлени загорают, улыбаются, задрав морды к борту. Март 1989 года. Возможно, сплошного ледостава в ту зиму на озере не случилось из-за того самого парникового эффекта-дефекта.
Женщина оказалась родом с хутора Латгалии, куда они и отправились жить – как оказалось, на два следующих года. Ездили по ее родным местам. Потом жили у бабушки Василия.
Мистика. «Не называйте детей именами тех предков, которые плохо кончили» – так написал мне Василий с чусовской зоны. Прадеда Зеленина по отцу звали Василий Алексеевич – полное совпадение. На фотопортрете, сделанном до 1915 года, запечатлен офицер царской армии, служивший в Варшаве. Его сын, Василий Васильевич, дед Зеленина, родился в Риге. (Кстати, Светлана Гаевская имеет латышско-польское происхождение.) В тридцатых годах Василий Алексеевич был репрессирован и умер в лагере. Плохо кончили…
Время перестройки осталось в памяти как бардачный угар алкаша – что-то ирреальное, вонючее и липкое. «Эстетика помойки – не моя эстетика».
На бабушкином хуторе, в девяноста километрах от Питера, стояло зимнее безмолвие. Василий вслух читал Светлане книгу Саши Соколова «Между собакой и волком» и радовался, чувствуя, что ей тоже нравится. Окружающий мир был пиром безобидных алкашей, местных артистов жизни. Василий знал это измерение: он в него рано вошел и быстро вышел. Заблеванные столики – не его эстетика. «Вообще, – возразил мне Василий, – я не бежал от жизни на край света, не бежал, а просто возвращался в то время, когда мне еще не исполнилось семь лет. И там был не край света, а Светлана, ясный зимний свет…» И это ощущение давали ему заповедные места с недоугробленной природой: «А Светоньке моей всегда хотелось филармонии – в уральской тайге и теплохода с рестораном – в каких-нибудь чучмекских горах. И наоборот… Это от жизнелюбия. Она вообще запредельная оптимистка, а я – клинический пессимист».
Я дочитал очередное его письмо и, уже лежа в постели, открыл сборник стихов одной красавицы, живущей в столице, поэтессы по имени Анна Бердичевская, которая родилась за колючей проволокой – в Соликамском лагере, в ста километрах от вишерского Лагеря, где родился я. И вот, вообразите, читаю в книге такое стихотворение: «На Вишере в поселке Вая уже никто не жег огня, и лайки местные, не лая, смотрели строго на меня. Они лежали в теплой пыли вдоль холодеющей тайги, их уши острые ловили скрип елей и мои шаги. В тот час привычное доверье к собакам дрогнуло мое. Для них домов закрыты двери, они – таежное зверье! Чьи зубы там блестят во мраке? Чьи там глаза горят из тьмы?.. Но знали лайки: „Мы – собаки!“ И волки знали: „Волки мы!“».
Меня удивило название стихотворения – «Час между волком и собакой». Я сразу вспомнил повесть Саши Соколова, так любимую Василием Зелениным. Какой-то код прочитывался во всех текстах, разговорах, воспоминаниях…
В Мойвинской геолого-съемочной партии царил культ личности Игоря Борисовича Попова. Например, имел место такой случай вандализма. Известно, что в Перми жил и работал изобретатель радио, однофамильцем которого был начальник партии. Преданные начальнику люди сорвали с одного из домов на улице имени изобретателя указатель с фамилией ученого, привезли в тайгу и прибили к дереву у палатки. Так на берегах Мойвы появилась улица имени Попова. Кстати, одна американская миллионерша целую минуту ржала – не могла остановиться, когда Игорь Борисович на пальцах объяснил ей разницу между Поповым и Поповым.
Геологи – не экологи. Более того, экологи для геологов – инородное тело. Это Попов открыл месторождение цитрина. Рабочему, копавшему тот шурф на берегу Ольховки, Игорь Борисович пообещал: «С меня стакан „Агдама“». Да что там кристаллы хрусталя в фундаменте паженого дома! И все эти речки Золотанки с руслами, усыпанными сухими, как яйцо, камнями! Возможно, есть третья речка Золотанка, которую все ищут. А на самом деле золота здесь немного, Сибирёвский прииск стоит чуть-чуть южнее, на реке Велс, той самой, по которой шел первый путь из Руси в Сибирь. Веревки привязывались к стволам деревьев, стоявших на берегу, и суда подтягивались вверх физической силой ушкуйников, казаков и неугомонных негоциантов. Они шли в Азию, а за бортом лежала шкатулка, имевшая форму «вогульского треугольника», вершинами которого являются Полюд, Помянённый и Саклаимсори-Чахль, и наполненная золотом, алмазами, хрусталем, железом и медью, вольфрамом и нефтью. Но зачем вольным новгородцам минеральное сырье?
В 1955 году, в том году, когда я появился на свет, в Молотовском издательстве вышла книга Николая Асанова «Волшебный камень». (Молотов – так с 1940-го по 1957 год назывался областной центр в честь живого министра иностранных дел.) Я прочитал в книге, что на золото-платиновом прииске у села Крестовоздвиженское Пермского уезда четырнадцатилетний мальчик Павел Попов, рабочий вашгерда – станка для добычи золота, снял с промывочной машины первый кристалл алмаза, который он принял за топаз – «тяжеловес», как его называли на Урале. Было это в 1829 году. Удивительно, но цитрины открыл тоже Попов, правда Игорь Борисович. «Кристаллы отличались от африканских и индийских камней своей необыкновенной прозрачностью, так называемой водой». Интересно, что уже тогда здесь вовсю промышляли хитники – втайне от казны. Хитники – это кто, хищники? А мастера «при помощи простого болотного хвоща полировали гранит и мрамор неделями».
В пространстве и времени по каким-то неведомым мне формулам были разбросаны, будто драгоценные камни, совпадения, которые мне никак не удавалось идентифицировать…
Там же, помнится, прочитал: у скал Камня Писаного все дно было забито останками судов, бревнами-топляками, чугунными чушками, а может быть, и слитками золота. Около деревянных богов, обращенных на восток, лежали каменные плиты с углублениями посередине, куда стекала когда-то жертвенная кровь людей и животных. Кровь жертвы стекала…
Из показаний Юрия Агафонова, начальника охраны: «От поселка Вая до 71-го квартала мы поднимались на моторной лодке. К Чувалу шли по старой французской дороге. На кордоне Ольховка, где никто не живет, спрятали радиостанцию, шахтерский фонарь, резиновую лодку, весла и направились к Цитринам. Когда вернулись, вышли на связь. Собрали вещи и упаковали в непромокаемые мешки. Директор начал сплавляться, а я пошел по правому берегу Большой Мойвы. Друг от друга находились в поле видимости. Остановку запланировали около скалы Печка. Ели рис, зеленый лук, хлеб, пили травяной чай. Там он вытащил на берег и отдал мне рюкзак – сказал, что лодка переполнена. И быстро скрылся из виду…»
Разве Василий Зеленин знал, что Рафаэль Идрисов остановится? Что он остановится за пять-семь секунд до встречи со своим врагом, на открытом месте, освещенном потусторонним светом? Скинет рюкзак и отвернется к реке?
Я подумал, что Зеленин увидел Идрисова издалека – когда тот еще «мелькал». Тогда, читая дело, я не знал, что Василий вел Идрисова более километра в ожидании подходящего момента. Но почему нож Идрисова оказался на земле? А потому что они здесь остановились. Идрисов сменил обувь – сапоги на ботинки. При этом ножом что-то перерезал.
Я долго рассматривал фототаблицу уголовного дела: в высокой траве лежал человек – лицом вниз, в брюках защитного цвета с широким кожаным офицерским ремнем, в куртке-штормовке, немного задранной. Спина в крови. Справа виднелся комель старого березового ствола, обломленного, наверное, ураганным ветром. Почему-то вспомнились слова маленькой девочки, подслушанные мной в троллейбусе: «Тама ничего не было, мама, тама одна трава, зеленая…»
Жалко тебе эту жертву, кровь которой стекала в Мойву по каменному желобу? Мне – может быть. Или нет? Я понимал, что этот человек был сыном матери и отцом маленьких детей. Странно, я смотрел на убитого, но не испытывал обыкновенной жалости – приличного чувства, необходимого для участия в черном ритуале. Только и заметил, что холодным речным ветерком прошло что-то по груди – может быть, сожаление? Печаль о несостоявшейся жизни? В стране диктовала свои примитивные правила гражданская война, вторично развязанная большевиками, поэтому я привык к виду бесчисленных трупов на телевизионных экранах – людей, расстрелянных в подъездах и автомашинах, на окраинах чеченских сел. Василию жалко не было, и я, кажется, его понимал…
Светлана Гаевская передала мне с оказией диктофон с пленками. Я пришел с работы домой – сын вылетел навстречу: «Папа, нам сегодня сказали на уроке, что Пушкина убил Дантес! Ты знаешь, все готовы были разорвать его на кусочки. Вот бы построить машину времени!»
Прежде всего меня интересовала фигура начальника охраны Димы Холерченко, главного телохранителя бизнесмена – Владимира Петровича Кузнецова. Это все еще был мой шкурный интерес, но уже, конечно, не тот. Гаевская рассказала в письме: всегда вежлив, дружелюбен; когда стреляли из пистолетов, несмотря на спитость, в нем проявился офицер – в классической стойке при стрельбе. Больше и добавить нечего.
Стрелять умеет. Но меня стрельба уже не пугала. Кажется, не пугала. «Добавить нечего» – это что, характеристика чекиста, развитое чувство мимикрии?
Убийцы свидетелей не оставляли, а заказчики – убийц. Если все изложено верно, получается, Зеленин знал о том, что будет свидетель, которого он не убьет. Или не успел он убить? А может быть, растерялся?
Если человек получает пятерки, первый разряд по боксу или большую зарплату, бывает, у него создается иллюзия, будто он лучше других – умнее, сильнее, поэтому достойней самого большого куска. Но это иллюзия, золотой песок и голубой океан, в котором утонули миллионы млекопитающих. Скажи человеку о мираже, он все равно не поверит – и полезет своими босыми ногами проверять глубину Марианской впадины. Почти все жившие на Земле, миллионы и миллиарды людей, ставшие потом ее почвой, плодородным слоем, прошли печальный путь эмбриона до конца. Каждый близнец пытался сожрать своего брата еще в утробе матери. Почти все жившие, почти все, но все-таки не все. Одиночки. И на них вся надежда.
Я продолжал читать показания начальника охраны Агафонова: «К 23 часам мы вышли к устью Мойвы. Направились в сторону кордона. Двигались с дистанцией метров двадцать, иногда переговаривались…
Зеленин выстрелил и стал поворачиваться в мою сторону – он практически посмотрел мне в глаза… И я побежал прочь, с одной только мыслью: чем дальше убегу, тем лучше. Раздался второй выстрел… Я сбросил рюкзак, сорвался в воду, начал вброд переходить речку. На другом берегу свернул в тайгу, спрятался в какой-то яме и просидел там до двух часов ночи… Боялся… Но Зеленин за мной не пошел. Я решил согреться и разжег костер. Для себя я решил, что моя жизнь практически закончена. Меня колотило…»
Очень странный начальник охраны – обыкновенного убийства испугался. Как же он собирался охранять эту землю? По правилам каспаровских шахмат или кремлевского тенниса? Молодой. Потому Идрисов и взял его, что тот ничего не смог бы защитить. А ты – ты сам разве не испугался? Ну, немного.
Тут другая жизнь – денег за выстрел не платят и стреляют метко. С двухсот метров в рябчика попадают. С берегов Вишеры белое мясо поставляли к царскому двору, а потом вывезли этот двор на Урал – и перестреляли в упор, кого в пермском логу, кого в подвале Ипатьевского дома. Куда колокол везти – неизвестно. Такой стала месть за безумные преступления царской династии.
В уголовном деле упоминалось, что оружие убийцы имело техническую неисправность, – деталь, которая кое о чем говорила. Человек, живущий в тайге круглый год, пользуется неисправным ружьем? Или пользуется им редко? На охоту ходит с неохотой? Не хищник по натуре? Действовал в состоянии аффекта? Кстати, надо уточнить значение этого слова – аффект. Вдруг я не так понимаю слово. Утверждает, что нашел ружье, – врет, наверное, разве можно найти ствол в такой тайге, как вишерская? Попов, конечно, знает, что говорит: «Если это не так, то с меня стакан „Агдама“». Но мне кажется, не стал бы Зеленин присваивать конфискованное ружье – только в случае длительной подготовки к убийству, а такой, похоже, не было. У меня отец, опытный охотник, потерял ружье в тайге. Один раз в жизни такое случилось. Приставил его к дереву, отошел – и всё, не смог вернуться обратно. Будто кто-то увел его в сторону. И еще: если Василий действительно нашел ствол, может быть, по высшему закону убийца попадает под амнистию – значит, Бог послал этот ствол Зеленину, чтоб он нарушил заповедь. Благословил, одним словом – или двумя.
«Пыжи, изъятые с места происшествия, имеют общую родовую принадлежность и, как было установлено, сделаны из обреза валенка, изъятого из дома подозреваемого… Принимая во внимание… Принимая во внимание свойства входных ран и наличие войлочных пыжей, следствие пришло к выводу, что повреждения причинены из гладкоствольного оружия». Замечательно сказано: «повреждения». А какая стилистика: «наличие войлочных пыжей». Кстати, где они взяли эти пыжи? И что это за неисправность в ружье? Я вернулся к уже просмотренным страницам.
Всё, включая баллистическую экспертизу, указывало на охотничье ружье УТ-2176 модели ТОЗ-34Р, калибра 28, которое технически оказалось неисправным, но для стрельбы пригодным. Указывало… Прежде всего указывал сам обвиняемый. Интересно, был адвокату Агафонова? Кто дал право столько времени держать его в ментовской камере?
С пыжами в материалах следствия не сходилось. Василий объяснил мне эту нестыковку. Пять пулевых патронов были заряжены далеко от Мойвы. И войлок от тех же валенок никак не мог оказаться в доме на кордоне. «Но мне, честно говоря, эти ментовские навороты были без разницы, – закончил он свое сообщение. – Вообще, все основывалось на показаниях Агафонова и моем признании».
Вот оно что. Происхождение пыжей – это навороты, предназначенные для того, чтобы придать следствию более убедительный характер. Дешевые пинкертоны, браконьеры вишерские – ничего сделать не могут, импотенты…
Если Зеленин заранее планировал убийство, то почему не исправил ружье или не подготовил другое? Наверное, все происходило в состоянии аффекта – психического взрыва, извержения вулкана… Да, можно было и пораньше сообразить. Значит, что-то произошло – конкретное и очень опасное. Человек вернулся из отпуска, а там…
Тут я что-то почувствовал. Действительно, в цепочке не хватало одного звена. Стоп – вот оно! Причина расстрела очевидна, но где повод? Не провокация, а повод! Неожиданный, эмоциональный, безудержный! Он должен быть! Василий по типу личности не является расчетливым убийцей, наемником или мстителем. С чего это вдруг – до отпуска не убил, а после, притом сразу, пристрелил, да еще двумя выстрелами. Второй вообще был похож на контрольный, только без паузы.
Угрозы в мой адрес вызывали подозрение, что дело нечисто. Это уголовное дело. В голову пришла мысль, требовавшая срочной проверки. Если еще есть возможность стать человеком, то не следует ею пренебрегать.
Короче, я решил съездить в поселок Велс. Чтобы, дескать, написать материал о реальной жизни России. Или сбежать от друга Раиса. Или найти в тайге какого-нибудь старика с речки Шудьи. А если еще точнее – попробовать заглянуть в собственную бездну.
Хотелось узнать, что думают по поводу убийства местные жители – с Велса, самого близкого к заповеднику поселка. Да и в конце концов, добыча кедра на заповедной территории или в охранной зоне – это чьи-то миллионные доходы. Часто случается, когда грабители делят добычу – начинают истерично стрелять. А бывает, все начинают стрелять друг в друга. Правда, для этого необходимы определенные условия – например, особая духовность нации, «тайна души» и, конечно, снежная высота помыслов.
Как раз с женой и детьми мы должны были встретить там трех моих друзей, переходивших Уральские горы с резиновой лодкой на плечах – из Азии в Европу. И все-таки мне хотелось найти человека – «приемного сына лесника, работавшего в тридцатых годах на Шудье». И отец попросил передать привет Виктору Краузе.
На том берегу реки, куда нас переправил в лодке десятилетний капитан, на крутом, на зеленом берегу стояли, как старинные каменные башни, две скалы. На первой застыл маленький кедр – с человеческий рост, крепкий, неподвижный, блестящий, как игрушечка.
Романтичное место выбрал для себя управляющий заводом – перед этими береговыми камнями, сложенными из известняков и доломитов силура, покрытыми мхом и лишайниками. Около скал сохранились остатки фундамента того здания, которое до сих пор помнят здесь как «дом барона». Имелся в виду французский управляющий заводом, живший на берегу в начале XX века.
Левее, вверх по течению Вишеры, тянулись сплошные прибрежные скалы, серо-белые, с какими-то красноватыми, охровыми разводами над зеленой водой, напоминавшей полнокровный березовый лист.
Правее начинался Велс – самый северо-восточный населенный пункт Пермской области. Деревянный поселок, среди срубов которого стояло много свежих, разящих запахом дикой таежной жизни. В течение последних ста лет это, считай, третье поколение домов на острове.
Вот именно – на острове… Соловецкие острова, остров Возрождения, Новая Земля, Валаам.
На берегу мы обнаружили ручейковый поток голубоватых, зеленоватых камешков, похожих на бирюзу, любимый минерал восточных самодержцев. Как раз тут проходил до XVI века тот самый путь из Европы в Азию – он поворачивал с Вишеры в русло Велса и шел на северо-восток. До тех пор пока не открыл дорогу от Соликамска Артемий Бабинов, которого называли вожем сибирской дороги.
А голубоватые камешки – сохранившийся шлак от горного завода, построенного в конце прошлого века французским акционерным обществом. Домна и кирпичный корпус находились на острове, но узкая протока между Велсом и Вишерой была засыпана отходами металлургического производства. В результате поселок очутился на стрелке рек.
Об этом рассказал мне Павел Терентьевич Горшков, живший с женой Надеждой Ивановной по соседству с большим пустующим домом, который нам предложили для временного проживания местные. Горшковы вырастили девятерых детей, из которых – «семь сынов», как с гордостью произнес отец. В семидесятых годах семья уехала жить на юг, на Кубань, где растет виноград, но уже через полгода дети сказали: «Папа, вернемся, а? Мы тебе сами хариуса ловить будем». Дрогнуло отцовское сердце – он смотрел, как поднимаются на Российский Север перелетные птицы, стягивая с неба зимний брезент.
Как подумаешь о первопроходцах – тянуло же рисковых людей в безумный путь. У «французского барона» склады находились в Велсинской пещере, длина которой составляет двести шесть метров. При сооружении складов там нашли кольчугу и шлем, оставшиеся, вероятно, со времен дороги в Сибирь.
В пещеру вели деревянные полозы – рельсы, по которым двигалась вагонетка. Вход закрывался воротами. Барон хранил там французское шампанское. А при советской власти, в тридцатых годах, были оборудованы ледник лесопункта и продовольственный склад.
Строился лесопункт – второе поколение домов (после «французских») – спецпереселенцами, раскулаченными со всего Советского Союза. По словам Варлама Шаламова, немного южнее Велса бывал сам Эдуард Берзин – надо думать, чекист добирался на своем гидроплане и сюда.
От дома Виктора Краузе, к которому я зашел передать привет от отца, хорошо просматривался просторный остров на речке Велс. Здесь и был в тридцатых годах аэродром, куда регулярно прилетал двухместный самолет. А телефонная связь существовала еще в конце XIX века!
Дома строились не очень большие, чтобы легче было обогревать. Виктор Краузе, однофамилец философа-идеалиста, сын феодосийского немца, высланного сюда во время войны, – мужчина в зрелом возрасте, крепкий, как сибирская сосна. Он работает в поселке электриком – свет с шести часов вечера до двенадцати, от дизельного генератора.
– В тридцатых по всему району света не было, а здесь – пожалуйста. Напротив того места, где мой дом, стояла небольшая гидростанция. Спецпереселенцы, спецы, построили плотину на Велсе, отводной канал и ворота, поднимавшиеся во время паводка вручную. Гидростанцию закрыли во время войны.
Новый сруб из бруса, три большие комнаты, кухня, веранда, автономное отопление, вода проведена в дом и в баню. Во дворе стоит ЗИЛ-157, собранный собственными руками из брошенных деталей и купленных запчастей. Перед окнами – сплошные цветы.
– Это моя немецкая кровь скрестилась с русской кулацкой – мать выслали сюда из Татарии.
Поселковая улица, где стоял дом Краузе, отличалась обоснованной претензией на долгое будущее. Слева – большой новый дом Александра Цахареаса, справа – такой же, со стилизованной саблей на трубе, Виктора Шевченко по прозвищу Тарас. Еще правее начинал строить дом Леонид Шиллер, глава местной администрации.
Шевченко, Краузе, Шиллер… «А Гёте у вас нет?» – спросил я одного местного. «Может, и был в сороковых», – ответил мужик серьезно, безо всякой улыбки.
Да, Велс родине нужен. Когда война идет, например. С Германией или Чечней.
Среди переселенцев был старик Затей Боровков, сын которого в тридцатых ушел в дальние бега и вернулся сюда только после войны, с фронта, без ноги. Забрал стариков и увез в родную Сибирь, которой до сих пор весь мир пугают. Откуда на Урал ссылали, однако. Представляю, что было в доме Боровкова, когда вернулся сын, с того света.
В поселке я познакомился с Василием Дроздовым, парнем в защитной армейской форме. За девять месяцев он отправил из Чечни три письма, но не получил ни одного. Родители писали ему, да, как оказалось, не туда, а родина не побеспокоилась сообщить верный адрес. Обещали выдать два с половиной миллиона за войну – не выдали. «Что делать будешь?» – спросил. «В Казахстан уеду», – ответил.
Наездами здесь появлялись сторонние работодатели, например господин Горобинский, которого вспоминали, не подбирая слов: «В случае чего так разденет, что не скоро оденешься». Я еще не знал тогда, что придется столкнуться с этим господином.
Молоко тут такое, что, пролившись на стол, отказывалось бежать. Это по склонам, между останцов, августовской земляникой и малиной, по зеленой травке, без пастухов, как божьи коровки, передвигались коровы местной, велсинской породы – коровы-скалолазы.
Хозяевами улиц стали свиньи, пугливые овцы тихо наглели. С наступающим безденежьем люди активно разводили домашний скот. Потому что быстро поняли, в каких случаях родина о них вспоминает. Картошка, лук, репка, черноплодная рябина. «Была бы мука да сахар, – сказал Александр Цахареас – и нету других забот».
Продавали хариуса. В день нашего приезда предлагали пятикилограммового тайменя. Иван Александрович Неклюдов, чердынский учитель математики, автор путеводителя по Вишере, написанного в 1935 году, приводит случай, когда местные поймали белугу весом в сорок пудов. Во время движения рыбы вверх по реке на перекатах у нее были видны плавники.
Люди жили рекой и лесом, как первобытные. Завалить медведя – обычное дело: если человек – пария, то к чему ему чужой закон? Только не забывай, что у медведей в августе гон и в это время с ними лучше не встречаться. А в сентябре – у лосей, могут растоптать. «Я еще ни одного охотника богатым не видел – только горбатым», – сказал мне Шиллер. Сам Леонид Андреевич пятнадцать лет проработал охотником-промысловиком госпромхоза «Денежкин Камень».
В шестидесятых годах по реке Велс был заказник баргузинского соболя, да недосмотрели, случилось, зимой – распустили. И до сих пор мелькает в тайге след – черный цвет меха.
Деморализация велсовских личностей была успешно подготовлена безудержным советским пьянством. Алкоголь настолько вошел в составные обмена веществ, что отдельные организмы пропивали даже «детские» деньги. Как говорил Шиллер, таким и продуктами выдавать помощь бессмысленно – они пропивали все, продавая соседям. Интересно, что соседи покупали. Конечно, в этой ситуации страдали самые маленькие, которые уже умели щелкать безымянным пальцем по горлу: кроха-сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Папа, это хорошо?» – «Да, сынок, неплохо». Некоторые семьи голодали в буквальном смысле этого слова.
Между Тулымским и Березовским хребтами ветер гонял тяжелые тучи. Шел обложной дождь – который день, беспросветный.
Тут многие остались за бортом белого теплохода – в длинной, узкой и черной лодке, которую кто называет «вишеркой», кто «чалдонкой» (позднее появилось новое название – «бурмантовка» – с кедровым днищем, по имени чердынского мастера, соорудившего такую на заказ для одного известного путешественника). И оставшись в лодке, люди пристали к ближайшему берегу, достали свои ружья и обрезы. Но и в этой ситуации один убивал зверя, продавал мясо и покупал детям одежду, а другой – пропивал деньги. У каждого свой моральный кодекс строителя капитализма.








