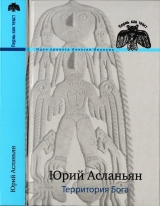
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Песнь о вещем Олеге
Никакая это не «Песнь о вещем Олеге», обыкновенный протокол. Хотя, конечно, милиционер сам виноват был: зачем он говорил слова, коробившие изысканный слух Олега Николаевича? Олег Николаевич вообще терпеть не может, когда общаются «в рот, ухо и вокруг шеи».
Сержант стоял на дощатом уклоне пола, вроде пандуса, при входе в медвытрезвитель, которые нередко находятся в каких-то полуподвалах, с окнами, как в общественных банях. В любом случае ощущение погреба оставалось всегда. Да вы сами вспомните, где бывали, – хотя бы спецприемник на Перми II. Это и на подвал не похоже – могила какая-то, египетская пирамида, саркофаг четвертого блока. Тусклый электросвет, общие нары и удушающий запах сырой одежды на бельевых веревках.
Короче, сержант, засунув руки в карманы, покачивался с носков на пятки. И в тот момент, когда встал на каблуки, Олег Николаевич тихонько толкнул его в грудь. Центр тяжести милиционера вышел за черту опоры, он, как выражаются в единоборствах, «загрузился» – и слетел с каблуков, рухнул со всей своей высоты назад.
И наступила пауза всеобщего изумления, после которой послышался нарастающий хохот – это в восторге пригибался к коленкам собутыльник Олега, Шурик Завьялов. Как они потом догадались, милиционеров не столько возмутил антиобщественный поступок первого, сколько взбесил наглый смех второго. Поэтому милиционеры стали избивать Шурика. Впрочем, Олегу Николаевичу тоже досталось – только очки прошуршали по полу в дальний угол.
Откуда было знать этим убогим ментам, что Олег предпочитает блатному языку русский, в крайнем случае – древнерусский или старославянский. А если бы он заговорил на любимом английском? Рассказывали, к англоговорящим алкоголикам они вообще относятся с недоверием.
Конечно, это досадное недоразумение в медвытрезвителе могло произойти лишь в те далекие советские времена. Сегодня, как известно, там работают люди, которые прошли элитные школы этико-лингвистической подготовки, овладели эвристикой, эвфемизмами и знают, что такое эгалитаризм.
Сегодня властью обладают вообще люди другие. Впрочем, как говорит мой восьмилетний сын, если ударить по мозгам бронзовым тазом, то получится тот же эффект, что от газового баллончика. Такой вот красный галстук – зеленый прикид. Олег, кстати, по этому поводу заметил: «Когда комсомольцы называют друг друга „господа“, я начинаю тащиться так, будто на меня снова надели противогаз…»
А ты говоришь «Песнь»… Хорошо, если песню на следующий день вспомнишь.
Олег Николаевич, невысокий, сутулый, худой, передвигается в толпе так, словно галсом идет, стараясь занимать как можно меньше места. Зато когда Олежек выпьет, он поднимает все паруса и бороздит волны чайным клипером вокруг мыса Доброй Надежды: «И бегу я к началам ночей, обходя баб, ментов и врачей. Спросят: „Чей ты, бич?“ А я ничей. Ох, бичей на Руси, ох, бичей…»
Свободный он человек. И я решил попробовать так же – например, прочитать Пушкина слева направо. Белым по черному – в негативном варианте. В собственном ракурсе. И в зеркале. Такова моя прихоть. Мой каприз. Мой субъективный фактор и вектор.
Как ныне сбирается вещий Олег… Правильно, только не собирается, а собирает – бутылки из-под пива, «Чебурашки», самые ходовые у приемщиков стеклопосуды, приехавших к нам с далекого юга.
В бессмертной студенческой пьесе «На дне. Почти по Горькому» была одна такая фраза: «Юристы – это которые черненькие и прыгают». Имелись в виду кавказцы, проникавшие на факультет любыми путями, чтобы использовать закон (и беззаконие) с максимальной пользой – для себя, конечно. Олег Николаевич любил театр нашей жизни, а также изобразительное искусство, неплохо владел карандашом. И еще он утверждал, что имперская экспансия вернулась ответной волной с юга.
А куда собирается вещий Олег? Отмстить неразумным хазарам… Как сейчас помню, Хазарский каганат был разгромлен только в 964 году Святославом Игоревичем. Так ли? Время обманчиво, как зеркало, в котором переворачивается любой текст. И древнерусский князь оборачивается Олегом Николаевичем, реальным человеком и фантомом. Недаром он быстрее других понял работу Соломона Адливанкина «Очерки праславянской фонетики». Кроме того, проявил подозрительные знания, сдавая экзамены по истории, сначала в Кировском институте, потом в Пермском университете. Правда, ни разу не снизошел до пятого курса, считая диплом обременительной формальностью.
– Скажи мне, Олег, честно, это твой щит на вратах Цареграда? – спросил я.
– Пушкин все перепутал – то место называлось «химградом», химическим городком. И вообще, действие происходило на Сахалине, дружина была Советской армией, щит – шанцевым инструментом, а цареградская броня – противогазом и ОЗК, общевойсковым защитным комплектом. В результате, к несчастью, я стал химиком-разведчиком.
– А волхвы не боятся могучих владык?
И он мне напомнил строки: «Я не потерял до сих пор головы, кружась на земле океанной. Мне рыбу совали седые волхвы, копченую рыбу в пивнушке стеклянной…»
В то лето Олега взяли в качестве рабсилы братья из Закарпатья в Гремячинск, откуда он вскоре сбежал.
А в тот вечер он допивал шабашные деньги в пивном стеклянном чепке, что неподалеку от Перми II. На следующий день волхвы прогнозировали похмелье без пива и рыбы, поскольку в кармане оставалась сигаретная мелочь. А вокруг – никого, ничего, ни дома, ни родителей, которые неожиданно умерли в один год. («Желтеет лист на глянцевитой луже, как высохшее сердце на ладони», – написал он тогда свое единственное в жизни стихотворение).
Он стоял в чепке – вспомните: Пирует с дружиною вещий Олег при звоне веселом стакана… Вот-вот, а потом наступил черный провал. Шел 1983 год.
Олег так и говорит: «Я виктимная личность, за мной тянутся следы несчастий и преступлений». Правда, надо добавить – чужих преступлений.
Очнулся он на заднем сиденье «Жигулей», за рулем – человек с кавказской внешностью, говорящий почти без акцента и называющий Олега по имени. Справа лежала какая-то куча тряпья. «Как я сюда попал?» – «Ты сказал вчера, что нет денег, я предложил тебе подзаработать, ты согласился, на один месяц. Голова болит?» – и водитель достал из бардачка бутылку водки. «И мне!» – неожиданно раздался сиплый голос, а затем из кучи тряпья вылезла скрюченная рука.
Машина двигалась в сторону Оханска. В тех местах, как выяснилось позднее, обосновалось несколько строительных групп чеченцев, освоивших практику сколачивания рабских бригад из пермских бичей. Чеченцы подряжались выполнить объем работ, значительно превосходивший собственные возможности. А потом совершали набеги на привокзальные места.
Жили во времянке, оборудованной сварной железной печкой. Баланда, хлеб и работа в течение всего светового летнего дня. Вручную мешали в больших чанах бетон, заливали им полы будущего овощехранилища, таскали камень, кирпич и гипсоблоки. При появлении людей в милицейской форме прятались в лесу, в ближайшем кустарнике, как приказывали братья-чеченцы Мамед, Магомед и Муса.
Механизм рабства основывался на том, что бригада формировалась из полукриминальных элементов или бичей, людей без прописки, которым грозила статья за бродяжничество. «Хлебайте эту баланду, если не хотите тюремной», – предупреждали рабовладельцы. Таким образом люди оказывались в безысходной ситуации. «Убежать было невозможно – ни денег, ни документов. И надзирающий чеченский глаз».
– Ты доволен, что Чечню разбомбили?
– Кого? Разбомбили, да не тех, а те, что поумнее, давно расползлись по России.
Отпустили Олега не через месяц, а через полтора. И за эти железобетонные работы он получил в десять раз меньше обещанного – тридцать еще советских рублей. А из Перми привезли другого.
Конечно, мы не рабы – рабы не мы, а другие – люди, пережившие смерть родных, потерю жилплощади или документов, стресс, вызванный сокрушительной утратой иллюзий, тяжелую болезнь, а может, и хуже – близкое знакомство с тюрьмой или казармой.
Но разве не сами они выбрали дорогу? Свободу от семьи, прописки, работы, начальства, денег? Как писал Галич: «Я выбираю свободу – пускай груба и ряба, а вы – валяйте, по капле „выдавливайте раба“! По капле и есть по капле – пользительно и хитро, по капле – это на Капри…»
Кстати, о писателе, жившем на этом острове. В бессмертной пьесе «На дне. Почти по Горькому» имелась еще одна замечательная фраза: «Человек – это звучит горько!»
Наши домохозяйки называют таких людей бесхарактерными, на цивилизованном Западе – социально незащищенными, я бы добавил – лично беззащитными.
…На холме, у брега Днепра, лежат благородные кости. Только не Днепра, а его притока – Припяти. Неподалеку от последней столицы князя Олега.
Это был самый долгий срок пребывания союзного военкоматовского призыва в тридцатикилометровом «кольце окружения» – последний срок, четырехмесячный.
Каждое утро Олег Николаевич шел по бетонной дороге к четвертому блоку ЧАЭС. Через километр он подходил к контрольно-пропускному пункту, рядом с которым стояло уцелевшее здание с надписью: «Мы придем к победе коммунистического труда!»
Вот и пришли – в касках, в робах и в респираторах, лепестках так называемых, марлевых намордниках.
В отстойнике, одном из самых чистых мест станции, командир, точнее, бригадир давал каждому задание. Делали всё: мыли полы, пробивали стены, укладывали клеть из гнилых шпал, которая поддерживала треснувший саркофаг. И конечно, был бетон, опять бетон – как у чеченцев! Только теперь в полиэтиленовых мешках. От этого бетон легче не стал.
Во время очередного кратковременного пребывания в одном спецприемнике наш герой услышал легенду о местном начальнике, майоре милиции, кавказце по национальности, который создал целую систему работорговли. Майор принимал заказы от своих земляков, а потом проводил в своем «пансионате» психологическую работу с клиентами, попавшими с уголовной мелочевкой, – бичами: «Хочешь свободу?» И продавал в рабство целыми бригадами. Ну, конечно, это легенда, ведь мы были и остаемся самыми свободными людьми в мире. Особенно Олег Николаевич.
Последний чернобыльский призыв будто забыли, будто решили оставить в саркофаге навсегда. В ответ на забастовки и письма приехал какой-то генерал-лейтенант, собрал всех в клубе и заявил: «Мы тут решили дать вам дембельский аккорд».
Дезактиваторщиков моют дожди, засыпает их пыль, и ветер волнует над ними ковыль, а этот одно что «аккорд»! Зал по-мужски хохотнул и стал рядами выходить вон. «Это что за штатские штучки?!» – продемонстрировал генерал свой бас. «А пошел-ка ты на хуй!» – с удовольствием ответили из зала.
У Олега началось замутнение хрусталика одного глаза. Тело изошло коричневыми пятнами. «Теперь косточки к непогоде болят». Давление прыгает – вегето-сосудистая дистония смешанного типа. Но разве официально зарегистрированное количество полученных бэров, биологических эквивалентов рентгена, может отразить всю глубину угнетенного состояния психики? Когда человек находится на таком уровне, где «мой каприз, мой субъективный фактор и вектор» не играют роли.
Вероятно, Пушкин был очарован мыслью о фатальности существования личности. Или хотел сказать другое: человек, предоставивший себя Судьбе, обречен. Недаром князь так возмущался: Кудесник, ты лживый, безумный старик! Он верил ему. Он верил волхвам, которые подсовывали рыбу в пивном чепке у Перми II. Он предал коня – свой каприз, свою волю. Поэтому и очнулся в чеченском жигуленке.
«Но жить – обязательно значит выйти за пределы самого себя в то абсолютное вовне, которое и есть среда, мир; это значит постоянно, непрестанно сталкиваться и противостоять всему, что этот мир составляет: минералам, растениям, животным, другим людям… Это неизбежно… Я должен проделать этот путь в одиночку» – так писал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, умерший в год рождения Олега Николаевича Гостюхина.
Конечно, каждый человек виноват в своих бедах, но моральное право говорить это имеет только он сам, лично.
В паспорте нашего князя отмечена только та самая «зона отчуждения», тогда как он работал непосредственно на самом четвертом чернобыльском блоке. На запрос Ленинского райвоенкомата Перми из Киева ответили, что данных по рядовому и сержантскому составу не имеют.
Если вспомнить слова Махатмы Ганди о том, что «цивилизация начинается с ограничения личных потребностей», то можно сказать: Олег Николаевич – один из самых цивилизованных людей в Перми. Не был замечен в чтении только одних книг – по диетологии. Имеет читательские билеты Пушкинки и Горьковки. Не имеет ни угла, ни работы.
– Я бы, конечно, мог сходить и проголосовать нынче за президента, – заметил он с усмешкой, – но мне как-то совестно стало, ведь я не налогоплательщик.
– Сегодня нет работы, но и рабства нет тоже, – попытался отстоять я демократические завоевания.
– Конечно, – сразу согласился он, – подъезжай к центру занятости и бери хоть роту, по любой цене.
Говорят, во времена древнегреческой демократии рабы не чувствовали ущербности собственного статуса. И к нашему полиэтиленовому мешку с бетоном приклеили фирменную этикетку. Поэтому остается только одно утешение: мы – самые свободные люди в мире, поскольку лишь свободный человек может понять, что живет в V веке до нашей эры, в древнегреческом государстве, в эпоху расцвета демократического строя.
– Понятно, – кивнул я, – а в Бога ты веришь?
– К нам, в наркологическое отделение, пришел святой отец и окрестил пятерых. «И как?» – спросил я одного. «Да что там, – отвечает, – всего и налил-то по ложке кагора».
Конечно, больничная палата – это не тот брег, на котором пирует дружина Олега. Да и за окном уже летят желтые листья, как из того вещего стихотворения.
Мы выпили с Олежеком по паре бутылок «Рифея», и я пошел на долбаную работу. Отец рассказывал, что в год моего рождения в город во время сильных морозов зашел одинокий волк – его обнаружили в подъезде двухэтажного дома, стоявшего на берегу Вишеры. Видимо, он перешел реку по льду, со стороны Полюда. Там и застрелили этого зверя, сжавшегося от холода, страха и ненависти в темном деревянном углу. Чего это я вдруг вспомнил про волка?
Я остолбенел: навстречу мне двигались по мраморному полу два тяжеловоза, один из которых сильно хромал. Они тащили письменный стол – будто проклятие. Бог мой, цирк и немцы…
– Что стоишь, как ювелирный магазин? – радостно прокряхтел Корабельников, опуская груз на пол.
– В чем дело, ребята? – спросил я, изумленный картиной сурового социалистического реализма.
– Нас выселяют – ты что, не в курсе? – улыбнулся Матлин. – Депутаты Законодательного собрания расширяются.
– Э, так у них и так два этажа! – искренне изумился я.
– А теперь им надо три, – ответил Саша, – число помощников возросло. Господа будут всегда, ты помнишь?
Андрей Матлин, умница, застенчиво улыбнулся, будто прося прощения за накладные расходы демократии. Было понятно, что мы покидаем свою пармскую обитель навсегда, не гоношась, как последний романтический бред двадцатого столетия – и вместе с ним. «Неужели ты с такой легкостью отдашь им свою мечту?» – спрашивала меня по ночам Судьба. «Да за стакан „Агдама“, мадам, – отвечал я ей, – пусть берут, если своей нет».
– Андрюша, давай уедем на Сейшельские острова…
– Не-е, я на юг больше ни ногой, – ответил Матлин. – Вот помню, я жил там. В Капской пещере. И съел как-то два соленых рыжика – в том заповеднике они встречаются редко, рыжики. И отравился. Выжил, конечно, гадина. Думаю, что на юге эти грибы более, чем на севере, способны концентрировать яд. От которого только водка спасает. Да, только она, родимая, горькая, ненаглядная, белая, светлая, ясная, спасет от смертельной интоксикации. Ты меня понимаешь, друг?
О, я его хорошо понимал. Оба тяжеловоза пристально смотрели на меня, гипнотизировали, сволочи. Интоксикация у них. Нет, меня в это дело не втянешь – я быстро обогнул Корабельникова и рванул в сторону, от самого себя, прыжками.
Поднимаясь по лестнице, я вдруг остановился – я вспомнил слова Василия из последнего письма: «Какой-то странный недуг у меня случился, похоже на пониженное давление – слабость, сонливость…» Может быть, он чувствует атмосферу вообще? Не только в смысле барометра. А что дальше? Я достал его конверт из сумки: «Обычно это бывает в начале отсидки, когда человек привыкает, а у меня уже четыре года… Особых душевных переживаний, как в начале срока, тоже нет, живу одним днем, а далее – неизвестность».
Я привез в редакцию новый материал с Вишеры и сдал его в секретариат. Потом зашел в отдел социальных проблем.
– Тебя пора назначать собственным корреспондентом по северо-востоку Прикамья, – улыбнулся Матлин.
– Я сам себя назначил, – ответил я.
– Почему он убил Идрисова ночью, в тайге? – спросил меня Слава. – Надо было вызвать директора на дуэль! Чтобы честно было. Или пристрелить публично.
– У тебя что, крышка слетела? Да если бы Идрисов узнал о том, что Зеленин задумал его убить, то уже на следующий день на кордон прилетела бы милиция и нашла бы в доме капкан с мясом. И какое-нибудь нарезное оружие нашла бы. А насчет публичного расстрела ты прав. Зеленин так и поступил – расстрелял его на глазах начальника охраны.
– Один выстрел. «Пусть не решит он всех проблем, не решит всех проблем, но станет радостнее всем, веселей станет всем», – запел Андрюша Матлин. – А два выстрела – уже праздник.
– Идрисов шел своей дорогой, на вершину горы Ишерим, – кивнул я. – Туда ему и дорога. Не жил, а Бога гневил.
Да, я искал бандитов, которые угрожали мне смертью. А нашел Василия Зеленина, Якова Югринова и Алексея Бахтиярова – инспекторов заповедной территории, которые видят в темноте, спят на снегу и стреляют без промаха. Я правильно сделал, что родился в России и начал писать книги. Я никому в мире не завидую, кроме самого себя. И я тоже думаю, что все только начинается. И закончится не скоро. Мой старый, мой седой друг, обогнавший меня более чем на двадцать лет, Роберт Белов, говорит, что «писатель – профессия посмертная». Он оптимист. Он тридцать лет ждал публикации своего романа «Я бросаю оружие». Гоголь, рассказывают, вообще сжег второй том своих «Душ», а некто Анатолий Сороченко свои опубликовал.
В нашей редакции была информационная доска, на которой вывешивались материалы, признанные редколлегией лучшей публикацией минувшей недели. Я вернулся с Вишеры: первая неделя – мой материал висит, вторая – мой, третья – опять мой. На четвертой неделе информационную доску сняли. Наверное, чтобы не травмировать психику редактора. Когда стало ясно, что другого выхода нет, что руководство меня сознательно выживает с территории, я перешел на работу в Пермский региональный правозащитный центр, который выпускал газету «Личное дело», – ответственным секретарем.
И вскоре опубликовал еще один вишерский материал.
Валера Демаков рассказал мне про знакомого, Игоря Белобородова, начальника партии в Магадане. В молодости Игорь служил во внутренних войсках. Однажды его с автоматом и тремя заключенными забросили на какой-то дальний кордон, чтобы мужики построили там домик. Осужденные работали, а солдату вообще делать было нечего, но в балке он обнаружил один из томов Большой советской энциклопедии, где слова начинались на «гео». И он столько раз прочитал этот том, что все выучил наизусть. Вернулся из армии и с легкостью поступил на геологический факультет.
У меня тоже не было выбора, потому что я родился на берегу Вишеры. Хорошо, когда достается один какой-нибудь том из Большой советской энциклопедии, другим, убогим, вообще ничего не достается. Поэтому они сбиваются в банды и бригады, синдикаты голубых и отряды коричневых, армии красных и белых, в похоронные и зондер-команды, во всенародные партии, инородные образования и антинародные спецслужбы; они становятся коммерческими фирмами, оперативными группами, телевизионными сериалами и массовыми галлюцинациями; они стаями идут по следу суровых одиночек, отрывающихся от преследователей – в тайгу, в тюрьму и на тот свет, отмахивающихся, отстреливающихся от потных, наглых жлобов, сбитых в банды и бригады, команды и спецслужбы.
Рассказывают, что крест, который стоял на могиле Адама, был сделан из кедровой древесины. Конечно, имеется в виду ливанский кедр. Крест, поставленный поэтами и альпинистами Перми Великой на Помянённом Камне, вырубили из сибирской сосны, которую на Вишере тоже называют кедром.
Машины в этих краях встречаются не так часто, как раньше, поэтому Валерий не мог не обратить внимания на лесовоз, шедший навстречу. Когда КамАЗ проезжал мимо, Демаков не поверил своим глазам: он был гружен кедром! Машина въехала на паром, Валерий быстро развернулся, навел фотоаппарат и несколько раз щелкнул затвором. На фото проявились даже номера: 57–83.
В тот день Валерий Демаков выехал из поселка Вая по дороге, которая вела в сторону так называемого 71-го квартала, где с берега реки начинается тропа в заповедник «Вишерский». Да, люди и машины встречаются здесь очень редко – реже кедра.
Валерий знал, что в нескольких километрах находится единственный в области кедровник – Велсовский, памятник природы, площадью четыреста сорок один гектар. Правда, следы лесодобытчиков он обнаружил не там, а неподалеку от дороги. Профессиональный геолог, проведший в тайге два десятка сезонов, он никак не мог спутать сосну или ель с кедром – у кедра кора мягкая, красноватого оттенка. Да и нет здесь уже сосны – повырубали. Так что если увидел машину с сосной, знай: это кедр.
Правда, следы оказались какими-то странными: метровые отрезки стволов с проставленными на торцах цифрами. Зачем их отпиливали, Валерий не понял. Из шестиметровых бревен получались пятиметровые – зачем? Обычно эти цифры, обозначающие диаметр ствола, ставит таксатор, определяющий объем добытой древесины. Не отрезают их никогда. Демаков сфотографировал остатки стволов.
Через неделю он снова встретил тот же самый лесовоз – уже в поселке. Прикинул – пятнадцать кубов. Выяснилось, что каждый день одна и та же машина увозит отсюда лес по дороге, ведущей к городу. В течение двух месяцев. А Демаков встретился с ними в середине августа. Появилась версия, что древесину доставляют в Березники. Потому что добывает лес тамошняя фирма «Форест». Этому же предприятию принадлежит переправа через Вишеру у поселка Вая. У кого паром, тот и переправщик…
В начале лета, когда Демаков, который возглавлял фонд помощи заповеднику «Вишерский», начал снова ездить на север, ему вообще отказывались выдавать приходные кассовые ордера. Он простодушно вынудил паромщиков соблюдать закон.
Он слышал, что кедр можно рубить только тогда, когда участок выделяется под сплошную рубку, а само дерево находится на волоке, по которому стволы тракторами доставляются к дороге. Судя по следам, оставленным добытчиками, основная работа шла дальше – ближе к Велсовскому кедровнику, а может быть, вообще на его территории.
Он узнал, что в постановлении губернатора области «Об усилении охраны ценных и редких пород деревьев, кустарников» сказано: «В лесах области произрастают породы деревьев и кустарников, которые являются редкими в общем составе лесного фонда и ценными как с точки зрения сохранения вида и видового состава лесов области, так и с точки зрения общей хозяйственной и природной ценности. Из хвойных пород наибольшую ценность представляют кедр (сосна сибирская) и лиственница (лиственница сибирская, лиственница Сукачёва), для сохранения которых необходим особый режим лесопользования».
Я показал цветные снимки, сделанные Демаковым на Вишере, Василию Васильевичу Груздеву, начальнику отдела лесопользования и лесовосстановления Комитета природных ресурсов по Пермской области. Василий Васильевич долго рассматривал фотографии и сделал заключение, что не может совершенно точно определить – кедр это или нет. «А зачем это вам?» – спросил он.
Конечно, можно было сказать, что я вырос на Вишере, и рассказать, как мы подолгу кружили в поисках кедра и его шишек. Да просто – жалко стальных красавцев.
Древесина мягкая и крепкая. Конечно, карандаши, музыкальные инструменты, паркет и резная мебель нужны. Но в Прикамье кедр остался только на Вишере. Дерево стало действительно редким. Встречается так же часто, как алмаз. Подумаешь, растет оно двести-триста лет! Плодоносное-орехоносное…
В календаре друидов, говорят, на дуб приходился один день в году. А на кедр – два. На остальные деревья – большее количество. Уже в древности дерево стало символом особой ценности.
Я вспомнил рассказ о том, как мужики валили кедры бензопилами, для того чтобы собрать шишки с верхушек. Дикие люди, советские. Нынешние березниковские добытчики поступают так же: чтобы хорошо пожрать, они заваливают бесценные вековые деревья.
Кто им судья – Бог? «Нет, – покачал головой Валера, – природоохранная прокуратура».
Я вспоминал вишерскую тайгу, белые от мха сосновые бора, перья глухарей в песке, паутинки, сверкающие в лучах осеннего солнца, чавканье болота, тяжелую походку идущего впереди отца, развесившего руки на ружье, как на коромысле, плавленый сыр и черный хлеб на привале, далекий лай Джульбарса… Отстреляемся.
Василий писал: «Зная мою жену, вы, должно быть, и обо мне имеете представление».
Действительно, подумал я, о тебе я имею только представление. Приблизительное. По материалам уголовного дела, письмам, рассказам, диктофонным записям. Когда казалось, что твой портрет завершен, образ преступника дополнялся все разрушающей деталью, моментом, мелькнувшим в просторах черного мироздания будто молния, трещина в скорлупе над моей головой.
– У тебя был конфликт с обществом, – констатировал я.
– Нет, – отвечал он, – конфликт с обществом был у Идрисова! Речь не идет о любви к людям или ненависти. Я не люблю людей, не ненавижу их – я отношусь к ним с той же долей признательности за сообщество, что и они ко мне. Может быть, больше других мне нравятся пилоты вертолетов. Понятно, это мое личное.
– У тебя тоже, думаю, был конфликт, но со знаком плюс. Потому что по отношению к истине вы – полюсы общества.
– Скорее всего, дело в моей расстроенной психике. Ну и в человеческом опыте.
– Какой опыт ты имеешь в виду?
– Опыт беженца. Правым я себя не считал еще в самом начале, просто замкнуло – предохранитель перегорел. Кто-то должен был его остановить. Наверное, каждому нужно брать на себя столько, сколько сможет вынести.
«„Здесь я выстрелил! Здесь, где родился, где собой и друзьями гордился, где былины о наших народах никогда не звучат в переводах“. Я на этом воспитан, этим смешон, понимаешь?»
Я прочитал и подумал: славянин цитирует человека, который придумал для себя красивую русскую фамилию – Светлов. Цитирует поэта, революционера – из тех, которые захлебнулись пролитой человеческой кровью. Прочитал и вспомнил, что, будучи рядовым тринадцатой роты четвертого батальона военной части 6604, выучил это стихотворение наизусть. Тогда меня учили стрелять ночью трассирующими пулями по поясным фигурам людей. А ты, Василий, взвалил на себя посильный груз? Язва желудка, туберкулез, депрессия… Национальный герой России, последний патриот, уже пять лет сидит в лагере, за колючей проволокой.
– Ты сделал это для других людей, – сказал я, – но тебя почти все забыли. Чуть позднее забудут и другие – у людей короткая память. От этого все проблемы человеческие.
– Кто помнит, тот не забудет, а кто забудет, тот не помнит, – ответил Зеленин. – Я шел с этим человеком на мировую до последнего предела. Таков мой предел. Я познал его. И никто другой. Да, и что касается свидетеля. Толстый пермский опер смеялся, рассказывая, что Агафонов представил меня крестным отцом мафии, кричал, что «у Зеленина длинные руки», и просил пожизненную охрану.
А раскололи его, говорят, на детекторе лжи. Этот аппарат он упоминал сам, когда стоял на коленях перед моей женой и бил себя в грудь: «Лучше б он меня убил!»
Светлана жила тогда в домике возле конторы заповедника. Непьющий до того Юра Агафонов запил. Сотрудники «Вишерского» с ним не разговаривали. И по вечерам он заходил к Светлане – покаяться и поужинать, поскольку все пропивал. «Что делать?» – спрашивал он мою жену, как известный революционер Чернышевский. Светлана советовала уехать подальше.
Но он остался, привез жену и ребенка. Теперь на Вае детей уже двое. Прошлым летом, когда я был на больнице в Соликамске, приезжала Алёнушка, рассказывала: Агафонов работает учителем, живет бедно, выглядит плохо. Уже не тот жизнерадостный спортсмен, борец с вредными привычками. Жизнь не таких обламывала. Я сказал, помню, Алёнушке: «Передай ему, что я зла не держу, пусть не мучается». На что она ответила так: «Ты его слишком переоцениваешь – он этим совсем не мучается».
По поводу того ружья двадцать восьмого калибра, из которого он стрелял в директора, Василий ответил мне неожиданно: «Я не воспользовался легальным исправным ружьем, потому что не для того давали мне этот ствол».
«Я очень редко вижу сны, – писал мне Василий из лагеря, – а те, что называются кошмарами, – вообще никогда. Случаются сны тревожные, но очень редко – раз, может быть, в пять лет. Один такой я видел в апреле 1997 года, когда стояла невероятно скверная погода – снегопад с бураном. А мне приснилось, будто иду ночью по полю, перегороженному жердями загонов для скота. Очень много загонов на летнем поле. Или лётном поле? Все загоны пустые. Мне приходится постоянно пролезать между жердями. Со всех сторон слышен собачий лай, который неумолимо приближается, разрывает воздух клыками, клубками колючей проволоки. И вот уже в нескольких метрах я различаю силуэты псов, прыжками несущихся прямо на меня. И я кричу – и от этого просыпаюсь…
А через два дня после этого сна я услышал по центральному радио сообщение о разбившемся в Прикамье вертолете. Помните, я говорил вам – тогда сразу закралось в душу нехорошее предчувствие, которое Идрисов подтвердил по радиосвязи: разбились те самые мужики, за которых я особенно опасался. И я почему-то сказал жене, что видел во сне то место, где произошло крушение.
Тут недавно распустили пенсионный отряд – и к нам подняли около тридцати дедов. Я разговорился с одним из них, тоже Василием, из Очёра. Спросил, помнит ли он, как весной 1997 года на окраине города разбился вертолет. И дед рассказал, что ему было известно. Борт летел санрейсом в какое-то дальнее село, к тяжелобольному. На взлете зацепился за растяжку телевышки и упал на поле, где летом обычно находятся загоны для скота. Разбились насмерть все пятеро – экипаж и два врача.
При Иванове, который был директором до Идрисова, никто не погиб, не изувечился на заповедной территории.








