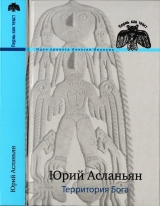
Текст книги "Территория бога. Пролом"
Автор книги: Юрий Асланьян
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Отто Штеркель
Туз и два короля. Такими оказались карты Володи Штеркеля. А я решил взять еще одну, нарвался на девятку – понятно, вышел перебор. Это был сильный удар. Володя взял мои десять копеек и покинул заброшенный сарай, где играли в «очко» и «дурака», а также рассказывали похабные анекдоты. Банк срывал Володя Штеркель, а анекдоты, конечно, рассказывал мой братан Шурка.
Сарай стоял на том самом месте, где кончались щитовые финские домики. Потом шли частные – «свои» дома, слева начиналось открытое болото, на котором пацаны собирали дикий лук, а еще дальше – между елей и сосен – сочные ягоды морошки.
За лесом текла холодная Вижаиха, а за ней – местечко, называвшееся Тепловкой, где когда-то жили офицеры четвертого отделения Соловецких лагерей особого назначения. Там им, наверное, было тепло…
Потом там построили пионерский лагерь. Слово такое – лагерь.
А свою последнюю игру Володя провел через три года после моего десятикопеечного проигрыша, когда я не смог сходить в кино на знаменитую картину «Подвиг разведчика».
Через три года, когда Володе было уже восемнадцать лет, он проиграл в карты свою жизнь вербованным. Облил себя бензином во дворе финского домика, где жил со своими родителями, ссыльными немцами, и младшим братом Отто. Облил – и поджег пропитавшуюся бензином одежду. Рассказывали, что он катался по снегу, в состоянии ужаса пытаясь сбить пламя. И орал от боли. Этот ор люди услышали, но спасти парня никто не успел. Черный человек лежал на белом вишерском снегу.
Меня в ту зиму дома не было, поскольку я в очередной раз лечился в школе-санатории от туберкулеза, в другом городе. Вообще я проболел им десять лет, и мать очень боялась, что где-нибудь я простыну в последний раз, остыну…
Прости меня, рыжий Отто, я забыл черты твоего веснушчатого лица. Прости, что напомнил тебе о брате, который не вышел из огня. А мы с тобой прошли холодную воду, если ты помнишь. И что нам теперь медные трубы?
Наш первый, наш детский континент кончался кирпичными стенами и башней недостроенного мясокомбината за Вижаихой, темным притоком Вишеры. А все, что находилось дальше, к югу, оставалось географической картой, книгами, кино и восточными сказками взрослых.
В тот день мы пришли из школы, и через час примерно мне свистнул со своего крыльца вечно сопливый Мишка. Потом подошел Васька. Подбежали мой братан Шурка и ты, рыжий Отто. Сегодня, может быть, уже и не рыжий…
На речке стоял затор: серые, черные, коричневые баланы – до сих пор не могу сказать «бревна» – на сто метров плотно лежали скользкими и мокрыми торосами. Бурая, мутная вода затопила часть крайней улицы.
– Чё, побегаем? – спросил Мишка и привычно провел над мокрой губой рукавом фуфайки, которая всегда была не по росту, почти до колен.
Мы, вишерские угланы, были неразумными, смелыми были. Мы по трясине бегали – по зыбкому, ворсистому, страшному ковру. И как только не утонул никто в той трясине за поселком? Сегодня умными стали, потому что далеко не все выжили из тех, которые бегали – по болотам, трясинам, заторам.
А по заторным баланам надо бежать так, чтобы они не успевали целиком уходить под воду. И при этом помнить про все существующие подлянки: скользкий балан, крутящийся, тяжелый, быстро уходящий вниз.
– Так чё, побегаем?
– Беги первый, – ответил мой братан Шурка, самый старший и самый блатной из нас.
У Шурки за плечами было пять классов за шесть лет учебы и несколько мелких краж, которые не могла раскрыть местная милиция. Он присел на корягу, достал из кармана фуфайки «хапчик» и закурил. А Мишка в это время разглядывал затор, выбирая удачное место для старта и маршрут.
Застучали кирзовые сапоги. В одном месте он взмахнул руками – нога по колено ушла в воду. Он выдернул ногу, поскользнулся, но грудью успел упасть на толстое бревно.
– Сопливый и есть сопливый, – радостно отметил Шурка.
– Набрал? – спросил у Мишки Васька Сученинов.
– Чего-то есть, – пробормотал тот, сидя на комле и стягивая сапог.
Мой братан встал, приспустил челюсть вниз и враскачку пошел к воде. Шурка шкурой чувствовал, где они – грибы, ягоды, рыба и надежные баланы. Он прыгнул и легко побежал по затору, а за ним – Васька Сученинов. И все было бы хорошо, если бы Васька знал, что за ним устремился я – почти вплотную.
Обычно бывает так: бежишь и прикидываешь, на каком толстом и надежном бревне остановиться, чтобы перевести дыхание. Или прикидываешь сразу, на берегу, зря не рискуя. Вот Васька и остановился на таком бревне. И мне пришлось остановиться тоже, но на другом – более тонком и скользком.
Балан подо мной завертелся, я задергался в разные стороны – и вертикально, стремительно ушел под затор, втянутый туда деревянными валиками. Тяжелым холодом наполнились кирзовые сапоги и суконное пальто. Помутнело в глазах от воды и страха. Искали бы меня потом ниже по течению, а может, нашли бы тут же, под затором. Каких-то пять секунд оставалось на эту жизнь… Но яркая вспышка, бессознательная энергия самосохранения рванула мое десятилетнее, мое туберкулезное тело вверх – ровно настолько, чтобы над затором появились руки, безуспешно царапающие сырое и прокручивающееся бревно. И тут я ухватился за что-то – мертвой хваткой.
Что тут делать, мгновенно сообразил только Отто: он схватил длинную палку, лежавшую на берегу, и бросился ко мне по баланам. Тонкий шест, который он сунул в руки, тянувшиеся с того света, я не выпускаю уже тридцать пять лет. Спасибо тебе, Отто…
Домой я идти побоялся – и спрятался под высоким дощатым крыльцом магазина. И дрожал там, сидя на земле, не меньше часа, пока, крича и ругаясь, меня не вытащила оттуда мать. Добрые люди сообщили ей. И до самого дома я бежал по тротуару с ревом – впереди матери, подгоняемый попавшейся ей в руку вицей.
На следующий день я, конечно, в школу отпущен не был. Мать морила меня картофельным паром, посадив над кастрюлей с накинутым на голову одеялом, поила чаем с малиновым вареньем. Через день она заметила, что я умирать не собираюсь. И сама одела меня потеплее. Достала из шифоньера хранившуюся там книжку «Стихотворения А. С. Пушкина» и сказала:
– Пойдешь к Отто и подаришь ему.
Я сильно смутился и заупрямился: такие изысканные поступки в поселке, который всегда назывался Лагерем, просто не были приняты.
Но моя мать – женщина упорная.
Мне пришлось пойти в тот двор, где сгорел твой брат.
И ты, Отто, смутился не меньше меня. Ты порыжел в тот момент еще сильнее – может быть, от весеннего солнца, от запаха золотой сосны, от молодой крови.
Так и стоят передо мной два пацаненка – и не знают, бедные, что сказать друг другу. Поэтому приходится говорить об этом через тридцать пять лет. Научился. Где Отто? Где Магдалина? Где Роза? Широка страна моя родная – от Москвы до Магадана. И где они, эти медные трубы?..
Спустя двадцать пять лет я стоял на отвороте вишерской дороги на северной окраине Соликамска. С маленьким сыном, женой и тещей. Автобус уже ушел. Был выходной день, из-за чего я уже третий час не мог поймать ни одной попутки. Светила ночевка в страшноватой гостинице.
И вдруг появился синий ЗИЛ с металлической емкостью в форме кузова. Машина проехала мимо, но вскоре остановилась.
– Слушай, земеля, возьми, пожалуйста, женщин и ребенка, – начал уговаривать я шофера, оценив реальную вместимость кабины, – я с вещами останусь – доберусь как-нибудь.
– Конечно, – кивнул водитель, – давай их сюда.
Потом, стоя у распахнутой дверцы, я попытался объяснить водителю, в каком месте лучше высадить пассажиров, когда приедут в город.
– Не волнуйся, Юра, я довезу их до места, – сказал шофер.
– Извини, парень, – растерялся я, – не узнаю.
Водитель понимающе улыбнулся и тронул машину с места. А я закинул за спину тяжелый рюкзак и направился обратно, к перекрестку. И услышал, что ЗИЛ остановился. Шофер спрыгнул с подножки и медленно, вразвалку пошел в мою сторону, не скрывая насмешливой улыбочки. Мне, конечно, было неловко, что не узнал парня, любопытно, кто такой, но торопить события не стал.
– Сейчас подойдет второй содовоз, а у меня, сам видишь, только два места.
– Да, но он может не остановиться, – вопросительно заметил я.
– Остановится, – с той же улыбочкой возразил он, – проголосуй только.
Так мы стояли несколько секунд, разглядывая друг друга. Потом он повернулся и зашагал к машине уверенной мужской походкой.
Второй содовоз остановился. За рулем сидел знакомый, из старой вишерской гвардии шоферов.
– А кто в первой машине? – спросил я.
– Разве ты не знаешь его? – удивился водитель. – Кажется, в Лагере он жил неподалеку от вас. Это Отто Штеркель!
Вот тебе и «Песнь о вещем Олеге» – из того самого сборника Пушкина: Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною…
Недавно я был в поселке. Давно уже снесли те щитовые домики, в которых мы когда-то жили со своими родителями. Но домик Штеркелей еще стоит.
Знаю, не все смогли благополучно перебежать через свои заторы и трясины. А мне повезло, мне просто очень сильно повезло, что я бегал босиком по одной улице с Отто. А потом дружил с Розой и Магдалиной Декк, которые позднее уехали на свою историческую родину. Где они теперь, дети ссыльных немцев, болгар, татар, греков, армян? В каком это таком далеком Гамбурге?
Шофер из вишерской гвардии держал руки на руле – руки, похожие на карданы. Спокойный и мощный корпус, смуглое лицо, карие глаза, державшие взгляд над капотом. Что-то знакомое, из чего-то далекого, уже, казалось, совсем забытого… Я назвал себя – имя и фамилию, он улыбнулся, весело глянул на меня и тоже представился. И все в мире стало на свои места.
Особенно любил ходить на танцы Колька Бычин – ему, наверное, было лет одиннадцать, а мне десять. Мы шли на «милицейскую горку», поднимавшуюся над Лагерем, с фасадом деревянного кинотеатра, что имел высокую и острую, как вершина ели, крышу и был обшит дощечкой «в елочку». Вокруг стоял сосновый парк, в глубине которого находилась танцплощадка.
И вот мы сидим воробьиным рядком на вершине забора. Подтягиваются люди, несемейная молодежь: девчонки в приталенных ситцевых платьях, парнишки в пиджачках и «корах» двигаются «лондонским затяжным»… А мы знаем, кого ждем, и вот появляются они, группа пацанов из бараков сангородка: в центре двое смуглых парней в белых рубашечках. Один из них невнимательно достает из пачки сигарету, и та выскальзывает из пальцев на землю. Колька Бычин, воробей, ястребом падает на нее с забора, поднимает и гордо подает ее смуглому парню. Но тот едва кивает головой: бери себе. Достает вторую сигарету и шествует во главе процессии дальше. Начинаются танцы: звучит музыка, фокстрот, парочки удаляются в темнеющие сосны. А мы терпеливо ждем – скоро начнется…
И конечно, начинается – когда танцы уже кончаются. Слева, где встречаются забор и сосны, где курят парни, голоса звучат громче, появляется подозрительное движение. И через несколько секунд уже ничего невозможно разобрать – мужские тела превращаются в одну живую, сплошную, пылящую массу. Это сангородские дерутся с городскими. Наше напряжение достигает наивысшей точки, мы привстаем на заборе, пытаясь разглядеть, кто там кого, комментируя и повизгивая. Но вот диспозиции проясняются: в центре стоит самый здоровый из этих смуглых братьев – Набет. Его белая рубаха разорвана, на лице кровь. Он прорывается к забору и одним махом отрывает от него штакетину. Далековато от нас, мы срываемся вниз и приближаемся к полю боя – вот, вот сейчас оно и начнется… Из темноты выпрыгивает второй брат, младший – Эдик. Ну и начинается. Погнали наши городских.
Набет и Эдик – легенда вишерских пацанов, более весомая, чем сказки о каком-то Брюсе Ли. Об этих драках рассказывали в заброшенных сараях и на песке Вижаихи, вспоминали подробности и предсказывали итоги ближайшей схватки. А итоги были печальными – для врагов Лагеря. Ни разу я не слышал фамилии братьев, только имена, потому что легенда – это высшая степень персонификации, которая обходится без прибамбасов.
– А меня звать Набет, – представился водитель, не отрывая взгляда от белого, гравийного света дороги, которая тогда еще не стала асфальтовой.
О, я был ошеломлен: десятилетний пацан, дремавший во мне, широко раскрыл глаза.
– На-абе-ет?! – изумленно протянул я. – Тот самый? Вишерский боец?
– Ага, – устало улыбнулся он, – я боец Красной армии, механик-водитель. Это я на Дальнем Востоке служил, в танковой части. Лежу однажды на берегу Тихого океана, с белокурой девушкой, загораю на диком пляже. Вдруг слышу шуршанье какое-то, шаги, поднимаю голову – вижу: сапоги. И сразу удар, второй. Я вскочил, пару раз ответил, но сзади – мне по голове. Били прутьями, уголками металлическими. Но это уже потом мне рассказали ребята из экипажа – они меня сутки искали. Нашли в песке. Да, а в том месте только две части стояло – наша, танковая, и соседняя, артиллерийская. Ну, через три дня мы въехали на территорию их военного городка, в летнюю столовую, во время обеда, на танке. Там проход широкий, как дорога, по обе стороны – длинные столы. Ага, въехали, стволом над столами провели, три круга. Потом с командиром вылезли, пошли по рядам, я – с повязкой на голове, как комиссар Щорс. Двух человек нашли – запомнил, хотя по черепу били. Мы вытащили этих воинов в проход и прямо там отпиздили. В полной тишине.
Набет всю жизнь прожил в бараке сангородка, где, если вы помните, впервые увидел четвертое отделение Соловецких лагерей особого назначения Иван Абатуров. А потом я узнал от отца армянскую фамилию Набета, который был зачат в 1945 году, родился в Перми Великой, в семье крымских спецпереселенцев. О, если бы я знал об этом родстве в детстве! Каким авторитетом я бы стал! О, где моя вишерская штакетина?! И где Отто Штеркель, который спас мою десятилетнюю туберкулезную жизнь?..
На следующее утро я проснулся дома, на своей кровати, стоявшей у окна, у широкого подоконника, у белого тюля, у золотых корешков бессмертного Владимира Даля. Я проснулся на кровати, а Олег Гостюхин продолжал спать на полу. Прежде чем требовать братства и равенства, оглянись вокруг и спроси самого себя: о каком равенстве ты говоришь? О равенстве с кем?
Потом мы пили с ним пиво и говорили о жизни – со снисходительной улыбкой людей, прошедших сибирские казармы и чернобыльские зоны.
– Ты знаешь, – признался он грустно, – меня хотят убить.
– Что? – не сразу понял я. – Кто и за что тебя хочет убить?
– Меня хотят убить братья-бичи, которые прознали, что у меня в подкладе зашиты ценные бумаги, настоящие – понял? Паспорт, военный билет… В городе действует мафиозная организация, которая скупает документы убитых бичей. А потом по ним открываются разные фиктивные фирмы.
Я смотрел в окно, сквозь белый снег тюля, сквозь листья лимона, стоявшего в горшке на подоконнике, сквозь невозможную тоску цвета зеленого бутылочного стекла. И Олега, великого лингвиста, поэта Перми, хотят убить. Господи, в какой это стране я живу? Что это за люди вокруг меня? Да на ту ли планету я попал во время пермской панспермии – девятибалльного шторма в космосе? О чем думает Господь, глядя, как убивают в Байконуре? Надо думать, что Бог так же одинок во Вселенной, как бетонщик Олег Гостюхин, как капитан ракетных войск, беспробудно пьющий в чепке, как человек с нераскрывшимся парашютом, как деревянный Илюша, стоящий в мокрой, непроницаемой еловой хвое мойвинской тайги. Конечно, Бог – это самый великий из одиночек, отмечающий свою территорию светом истины, от которой белеют лица и руки альпинистов, как на картинах Рембрандта. Может быть, Господь плакал, когда увидел, что товарищ Ворошилов, бежавший из чердынской ссылки, спрятался от преследователей в часовне, что на Говорливом Камне, скрылся за красными кирпичами и узорчатыми металлическими решетками. Господь плакал оттого, что не имел морального права подсказать жандармам, где искать того меткого гада. Поэтому на Вишере и прозвучали выстрелы Василия Зеленина, будто эхо Говорливого Камня. Известно, что это большевики воспитали славную плеяду ворошиловских стрелков, учеников маршала, которого спас Господь. А эхо – оно ведь того, долгое… Попробуйте выехать в лодке на середину реки и крикнуть – посчитайте, сколько там выстрелов.
Я оставил у себя Олега, амбиции амебы, вчерашний день и пошел на новую работу – в правозащитный центр.
В последнюю зиму нам несколько раз посылали приветы люди, которые не представлялись и обещали разобраться с газетой в суде, на что директор Пермского регионального правозащитного центра Игорь Аверкиев с приветливой улыбкой, похожей на снег, коротко отвечал: «Конечно, это наша работа». Угрозы прекратились. И я парень упорный – из угров. Не читали, как написал о нас в прошлом веке профессор Сикорский? Читайте: «…общими характерными чертами являются: несокрушимая выносливая пассивная сила, смирение, настойчивость с ее обратной стороной – упрямством. Медленный, основательный, глубокий процесс мышления. Отсюда медленно наступающий, но зато неудержимый гнев». Прочитали? Один друг работал в «Статиме» – муниципальном похоронном предприятии. Так он отпуск всегда брал только в мае. «Почему не летом?» – спросил я его. «Ничего ты не понимаешь, – радостно ответил он. – В мае снег по лесам тает и появляются „подснежники“, „бедные Йорики“… Самое загруженное время для нас!»
Наверно, в лесу находили трупы убитых бичей. По всей стране шла резня, а белобрысые гэбэшники, шпана, щедро улыбаясь, обещали с голубых экранов газовые атаки, взрывы жилых кварталов и локальные ядерные войны.
В общем, в мае, как снег сошел, я с Валерой Демаковым рванул на северо-восток, на ту самую Ваю. Чего зимой под снегом найдешь? Мы ж не олени – копытами работать. Тайга – единственная радость в России: в нее всегда можно уйти, сбежать, скрыться от настырных сограждан. Только враг народа способен поднять на нее топор. Поэтому врагов отправляли на лесоповал. Все это мне объяснил Валера Демаков – веселый зверь с беснующейся по плечам лавиной черных кудрей.
За день мы прошли четыреста километров на белой «Ниве» Демакова – человека, который водит машину с закрытыми глазами, играет на гитаре и пишет бардовские песни, геолога, который спускался на лыжах с Альп, в «клети» – шахты Шпицбергена, поднимался по тропам на Тулым, Ишерим и Муравьиный Камень, на вертолете – в сухое небо Вишеры. Апологет греко-римской борьбы, он принципиально не пользуется лифтами, он пообещал, что, если я выкурю еще одну сигарету, высадит и заставит меня бежать за машиной. Тот еще гад – невысокого роста, но крепкий, как велсовский кедр. Это он объявил фирме «Форест» непримиримую гражданскую войну.
С этой фирмой вообще никто не мог справиться – ни управление по борьбе с организованной преступностью, ни прокуратура. Подполковник юстиции, старший следователь из Красновишерска Валерий Михайлов наивно утверждал, будто прокуратура пришла к выводу, что во всем этом деле черт ногу сломит. Господин Горобинский, директор березниковской производственно-коммерческой фирмы «Форест», настолько успешно организовал работу своего предприятия, что правоохранительные органы не в силах были определить, нарушается закон или нет.
Чтобы помочь прокуратуре, мы выехали на север.
На пути из Перми в сторону Березников повстречались два кедра, стоящие у самой дороги, самый большой – в три обхвата, с раздвоенной вершиной. Чаще попадаться они стали только за Соликамском, посылая привет из весенней тайги. Одиночки леса. Мне вспомнилась речка Молмыс, впадающая в Язьву, имеющая сухое русло – это когда вода уходит под землю и появляется через двенадцать километров. Господи, что там, в этом темном подземелье? Куда уходит первобытный лес, последняя тайга, которая прячется от нас за уральскими отрогами, скрывается в глубоких логах, зарывается в землю? Гудят, шумят, трубят, звонят, будто древние колокола, подземные реки Тулымского хребта.
Светились еще розовые березки, появилась первая мать-и-мачеха. За Красновишерском табунами ходил туман – наверное, от быстро таявших остатков лесного снега. Дорогу перебегали саблезубые зайцы, наглые предвестники неудачи. А по обочинам стояли ольха да ива, обгрызенные косыми на высоте человеческого роста и выше, что говорило о глубине снега прошедшей зимой.
Большая Колва несла большую, мутную, коричневую воду – возможно, с драгоценными камнями. Выше находится гидрокарьер. На речке Щугор, ниже железобетонного моста, в белом потоке тумана плавала пятиэтажная драга. Уральские алмазники.
Перед отъездом я посмотрел электронную карту лесов Прикамья, нашел единственное зеленое место – северо-восток, который весь надо бы объявить эталонной территорией, а не только сам заповедник «Вишерский» или Велсовский кедровник.
Через речки недавно проложили железобетонные мосты. Дорога поддерживалась в допустимом порядке. Речка Мутиха разлилась, вода шла такая, что сдвигала каменные глыбы, и деревья кружились в танце – по колено в воде и по пояс в тумане. Две речки – буйные Золотанки – шли на дорогу с горного склона, будто водопады, и, с ревом пролетая под мостом, исчезали внизу.
Когда глубоким вечером мы подъехали к берегу Вишеры, стояли туман, дождь и вайская темень. На пароме, принадлежащем фирме «Форест», нам сказали, что туда машину перевезут, а вот обратно – неизвестно когда.
Вода захлестывала трос переправы, отражая огни противоположного берега. Заночевали в балке на берегу. К утру река поднялась только на десять сантиметров, но мы переплыли на другую сторону в лодке. Узнали, что в тот день местная женщина отравилась сальмонеллезным яйцом, «скорая» направилась с ней к переправе, но вскоре вернулась обратно… Потому что вертолеты МЧС на безденежные вызовы не прилетают.
Мы выяснили, что фирма валила, а кроме того, в течение последних двух лет регулярно получала от других частных предприятий кедр в обмен на другую древесину или бесплатный провоз через Вишеру. Кстати, простой уход от налогов. Получалось, нищие вайские налогоплательщики были отданы на откуп частному лицу, который сдирал с них по второму кругу. Кстати, грабившая вишерскую территорию фирма налоги платила Березникам. Большая часть леса вывозилась нелегально, значит, и туда налоги поступали далеко не в полном размере. Мимо казны проскакивали ночные лесовозы.
По отчетам фирмы, показаниям рабочих лесозаготовительных бригад, по акту остатков заготовленной фирмой древесины на момент проверки, докладным запискам старшего оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью Аркадия Левинского, в кварталах 28, 48, 68 были срублены вековые гиганты, заготовлены тысячи кубометров драгоценной древесины. Но следов кедра в этих кварталах прокуратуре обнаружить не удалось.
Мы прибыли на место 22 мая. Собрали представителей местной власти: главу администрации, участкового, майора милиции, лесничего и представителя фирмы. Выехали к участку, где работала бригада.
По дороге встречались остатки кедровых стволов, лежавшие на обочинах. Вскоре мы попросили свернуть с дороги налево, в сорок восьмой квартал. И там увидели сотни две кубометров брошенного в штабелях кедра – подгнившего, сгнившего, посеревшего. Смертельный пейзаж. Сопровождавшие начали утверждать, что этот лес был «арестован за долги» фирмы судебным исполнителем да так и остался здесь, даже на дрова не вывезли. Ни у администрации, ни у жителей поселка просто нет возможности – ни техники, ни бензина. Раньше тут работал «Вишерабумпром», но на бумагу кедр не идет. Кедр вообще на бумагу не укладывался: объявленные прокуратурой объемы за прошлый год выглядели значительно меньше тех, которые называли свидетели.
– Кедр вывозится только с волоков! – утверждал сотрудник фирмы. – Оставлять его гнить?
Мы подъехали к пятьдесят девятому кварталу, где работала бригада фирмы. Волоки, которые должны быть пять метров, оказались в два раза больше, а пасека в два раза меньше необходимых тридцати метров. А на глаз видно, что вырубалось все подряд.
Заметно, что новая техника не покупалась – дожималась старая. Древний стиль хитников. Работали два трактора-трелевочника, погрузчик и лесовоз. Вдоль дороги лежали стволы ели, пихты, кедра, драгоценного дерева…
Участок представлял собой территорию примерно сто метров на сто, развороченную гусеницами, как танкодром, заваленную ветками, погубленным молодняком. Это в пяти километрах от последнего в Прикамье кедровника – Велсовского! Кедр, обнаруженный нами, нельзя было отнести к сухостою или гнилью – это были мощные стволы, здоровые, полные сил, свежего запаха.
Как утверждали свидетели, древесина вывозилась сразу, чтобы не привлекать внимания. Тот кедр, что в так называемой пасеке, между волоками, трогать нельзя. С участковым и лесничим мы зашли в пасеку и вскоре обнаружили четыре громадных пня, оставшиеся от недавно спиленных кедров, в пяти метрах друг от друга.
– Это что? – спросил я у проходившего мимо рабочего с топором.
– Что? Кедра, – ответил тот хмуро.
Он сделал ударение на конце слова – так произносили название местные – и отвел глаза в сторону.
Там же, в пасеке, лесничий показал мне последний номер районной газеты за 21 мая, в которой я прочитал сногсшибательную новость: «Хотя в целом кедр запрещен к рубке, есть постановление губернатора области, согласно которому его заготовка в некоторых местах может осуществляться. Прошедшая недавно прокурорская проверка на этот счет не выявила злостных нарушений».
Мы читали это 22 мая, стоя у свежих кедровых пней в пасеке пятьдесят девятого квартала.
– «В некоторых местах» – это где? – подумал вслух Валера Демаков. – В пяти километрах от единственного в Прикамье кедровника?
Мы узнали, что в поселке Вая люди ненавидели «Форест», получая за браконьерскую работу по сто-триста рублей – на хлеб. О, наши кидалы – профессионалы! И баланс фирмачи полностью кидали гнить, а елью расплачивались за распиловку кедра. Варвары шли по вайской земле. Как в бытность здесь исправительного учреждения В-300, щепа и комли горели по берегам – сжигались так, что только дым по реке стоял.
Десять лет фирма работала на Вишере и все эти годы пластала кедр. Так защищен и продуман был вертикальный механизм ограбления Вишерского края, что вообще не давал сбоя. Но люди рассказали нам, что творится в тайге, начертили схему, показали карту, написали график вывозки кедра за последние месяцы, поведали, что валка леса первой категории идет в водоохранной зоне Вишеры, на левом берегу, напротив поселка.
В одном из заброшенных балков лесозаготовителей мы увидели природоохранный плакат, на котором был изображен мальчик, поливающий деревце. А рядом – стихотворение: «Пусть скажут ребята из детского сада, каким надо быть и каким быть не надо». Мы прочитали и заплакали – от умиления, подумали: это любимые строчки господина Горобинского.
Точно вписалась Вая в излучину реки. На ровном берегу стояли чистенькие дома из бруса. Широкие навесы дворов. Высокие коньки сеновалов. Аккуратные поленницы, зеленая трава вдоль заборов…
– Даже если все уедут, один буду, но здесь останусь, – сказал лесничий Анатолий Анатольевич Дмитриев, высокий мужик в расцвете лет – как пожал мне руку, так я сразу понял, что такое сила.
В начале восьмидесятых восемь вайских одноклассников были призваны в армию – в Афганистан. И все восемь, слава богу, вернулись. «Он прыгал с вертолета в пыльный бред, который называется десантом». А на родине его семье, бывало, приходилось жить на одни детские пособия. Господин Горобинский устроил тут колониальную факторию.
Часть кедров стоит на каменистой почве, поэтому имеет слабую корневую систему. Некоторые наклонены. Бывает, падают от ветра. На эти ветровалы и пытаются списать свои немыслимые объемы «форестчики». Мне вспомнился Александр Галич: «А какой-то там „чайник“ в зоне все про кедры кричал… Делов!»
Когда отъезжали, я оглянулся: на обочине дороги, в грязи, лежал стальной ствол трехсотлетнего ровесника Перми, Петербурга и самого Петра Первого.
В машине, возвращаясь в Пермь, я вспомнил историю, которую рассказывал отцу его друг Николай. Они сидели вдвоем за жареной картошкой с мясом и пили водочку, а я, тогда десятилетний пацан, учил уроки и краем уха подслушивал разговор старших. Этот Николай вез на Ваю говядину, когда за километр до конца пути, до Вишеры, затянутой снегом и льдом, у него заглох мотор – бензин кончился. Не успел в городе подзаправиться, не дотянул. В сорокаградусный мороз сидеть в железной кабине – кто, скажите, пробовал? Только мой отец. Николай спрыгнул на дорогу и пошел к Вае пешком, один километр – не тридцать. Отошел, рассказывал, метров сто, а потом решил вернуться, перекрывая рекорды мира на спринтерских дистанциях, – и едва успел захлопнуть за собой дверцу ЗИЛа: грузовик окружили волки. Они выли и повизгивали, прыгая к деревянным бортам кузова, где лежало три тонны мяса, запах которого сводил голодных зверей с ума. Не сумев добраться до говядины прыжками, самые отчаянные полезли на капот – с крыльев и бампера, чтобы забраться в кузов через кабину. Они ползли по капоту – Николай видел близко, за не замерзшим еще лобовым стеклом, оскаленные пасти. Но когти скользили по гладкому железу, и звери с визгом соскальзывали вниз.
И только одному, самому голодному, самому сильному и удачливому из волчьей стаи, удалось добраться до цели – он разорвал клыками кусок мерзлого брезента и начал жрать окаменевшее на морозе мясо. Его товарищи внизу выли от голода, зависти и ненависти, разрезая голосами туманы, плазму и свет Вселенной. Волчья какофония продолжалась до утра, с небольшими перерывами и звериным плачем, пока на дороге не появились первые лесовозы. Николай запомнил эту ночь на всю жизнь.
Как мы – перестройку. И чего я вспомнил эту историю?..
А когда подъезжали к Красновишерску, Демаков сказал:
– Ты помнишь о том, что недавно алмазы обнаружили около Помянённого? А дорогу вот эту отсыпали тем гравием, что везли из карьера, от подножия камня. Представь себе, мы едем по алмазной дороге.
Я представил: мы набираем скорость: сто, двести, триста километров в час – по гравийной дороге, светящейся алмазной пылью, мы взлетаем и уходим к созвездию Тельца, в сторону красной звезды Альдебаран, про ветер с которой написал поэт Вячеслав Дрожащих. Интересно, ведь мой отец тоже возил песок и гравий – на строительство взлетной полосы вишерского аэродрома. Что бы это значило? Я возвращаюсь и возвращаюсь туда – в город, где, как сказал великий журналист Сергей Бородулин, хорошо проводить детство.
Вскоре мы добились выдворения березниковской фирмы с заповедной территории. Какой олень себя в стаде плохо ведет, того отправляют на мясо. А что, манси себя плохо вели? Но мы, дети и герои своего времени, конечно, понимали, что все только начинается… Ты уверен, что это твоя воля, твоя порядочность, твой разум? Смотри, за счастливым стечением обстоятельств, как правило, следует расплата. Еще никому не удалось победить жадность, злобность и завистливость господ горобинских. Все только начинается. Только начинается. Начинается. Президент прибрал якутские алмазы, а кто прибрал наши – даже мы не знаем. Да где же он – реестр тайных акционеров, подпольных ублюдков, этих белобрысых губошлепов из Губчека, расстрелявших одного Михаила Романова и задушивших другого в темном бассейне Камы?








