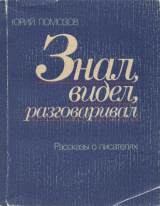
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ…
29 марта 1982 года
Каждая дорога сулит неожиданные встречи.
Только отъехали от Ленинграда – из соседнего купе выходит Георгий Константинович Холопов.
Оказывается, тоже едет в Крым, в ялтинский Дом творчества.
Давно я не видел Георгия Константиновича. Вроде бы огрузнел – семидесятилетие накатывает, не шутка! В серых глазах какая-то дымчатая, застоялая усталость. Не хочется докучать ему, главному редактору «Звезды», разговорами на сугубо литературные темы, А он вдруг пытливо, профессионально:
– Над чем будете работать?
Отвечаю и, в свою очередь, любопытствую о его творческих намерениях.
– А я постараюсь написать воспоминания о прозаике Вадиме Андрееве, сыне Леонида Андреева. И возможно, приступлю наконец-то к повести, которую обдумываю лет сорок.
– Как! – невольно вырывается у меня. – Целых сорок лет?
Медленно-тягостный кивок лобастой головы в поредевших седых волосах:
– Да, около сорока…
Слово за слово – и разговорились мы с досужей откровенностью «дорожных людей»…
* * *
Утро. Пасмурная теплынь после морозно-солнечного Ленинграда.
За Тулой – лоскутья снега среди черно выпирающей, дышащей земли. Мутно-усталые, притихшие после половодья реки.
Промелькнула станция Косая Гора. Вдали за ней – клубы рыжеватых и пепельных дымов двух домен на взгорье, а в понизи – плоский рабочий поселок.
– Косая Гора… Косогорск… – бормочет Холопов сдержанно-ликующе. – А я столько времени подыскивал название поселку в одном из своих новых рассказов! Уж чего только не перебрал в памяти: и Крутогорск, и Медногорск… Все привычно, все не то!
* * *
Ночью приезжаем в Симферополь.
Хлещет крупный, теплый, совсем летний дождь.
Садимся в «Икарус» – и плывут навстречу в ливневых потоках, как корабли, бетонные глыбы высотных зданий и точно бы размываются в темноте душной, парной…
– Осенью сорок четвертого мне, военному корреспонденту, – рассказывает Холопов, – довелось побывать в Симферополе. Низкие домишки в битой черепице, пустынные улицы с одичалыми собаками – вот первые впечатления… Но чем-то родным, южным уже веяло в воздухе, хотя я родился на Кавказе… Была возможность приобрести здесь, в Симферополе ил и Гурзуфе, хатку… Да разве думалось в ту пору о разных благоприобретениях!..
С годами, однако, юг все более притягательным становился для Георгия Константиновича. Я не раз слышал от него признание поселиться в Севастополе, был свидетелем его решимости вот-вот приобрести там одну половину дома вблизи моря. Но и тогда я уже знал: самым родным, единственным, надежным домом стала для Холопова «Звезда» – любимая, неотторжимая!
2 апреля
Старожилы печалятся: нынешняя ялтинская весна призапоздала почти на месяц.
Ветрено. В блеклой стылой голубизне несутся перекрученные жгутами облака. Высокие кипарисы гнутся упруго, со свистом. Трепетно, боязливо цветет миндаль. На платане тесные, рыжие сережки – точно слезы. Иногда косо стеганет дробью холодный, колючий дождик…
Зато в библиотеке Дома творчества тепло, уютно. Слышен мерный, успокоительный шелест страниц.
Это Холопов перелистывает, том за томом, сочинения Горького. Он уже в летней рубашке; обнаженные руки его крупны, по-рабочему мускулисты. Поневоле припоминаешь, что в молодости ему довелось быть и грузчиком, и слесарем-сборщиком.
– Что разыскиваете, Георгий Константинович? – спрашиваю с порога.
– Воспоминания о Леониде Андрееве. Хочу перечитать, прежде чем писать о его старшем сыне Вадиме.
– В таком случае ваши розыски напрасны.
– Почему же?
– Да потому, что составители вот этого тридцатитомного собрания сочинений Горького не включили очерк об Андрееве из каких-то, видимо, высочайших соображений идейности.
Обычно спокойно-рассудительный Холопов взрывается:
– Но ведь это же один из самых что ни есть идейно значительных очерков из числа знаменитых горьковских литературных портретов! С какой беспощадной обнаженностью Горький рассказывает о «трудной» дружбе с Леонидом Андреевым и о разрыве с ним именно по идейным соображениям, или, как он сам писал, из-за «непримиримых разноречий» в оценках действительности.
3 апреля
Уж наверняка после редакционной сутолоки Холопову хотелось пожить в Ялте уединенно. Но разве ж мог он подавить в себе природную общительность, острое и пристрастное внимание к собратьям по перу, жадный интерес вообще к жизни!
Не проходит и двух-трех дней после приезда, а Георгий Константинович уже расспрашивает писателя-волгаря Виктора Крюкова о будущей плотине у Ржева, о том, каким образом гидростроители хотят взять в «оборот» речку Вазузу, и хватит ли ее чистейших вод для «подпитки» Москвы?.. Он же подолгу беседует с членом редколлегии журнала «Сибирские огни» Китайником. И он же по-редакторски придирчиво читает однотомник И. Василевского, поэта из Белоруссии, знакомится с переводами стихов Григоре Виеру в журнале «Кодры»…
4 апреля
Довелось мне прежде слышать сетования некоторых поэтов: мол, недолюбливает Холопов стихи, идут они в «Звезде» только на подверстку…
Отправился я сегодня подбить подковки и повстречал сапожника неподалеку от набережной, да какого необычного! Сидит он в своем киоске-теремке и то молотком пристукнет по каблуку, то сейчас же замусоленный блокнот выхватит из обрезков кожи, авторучку вынет из-за уха подобно папиросе и мигом что-то запишет, а у самого уже глаза сияют отрешенно и не видят, как заказчики квитанции протягивают или туфли скособоченные суют в узкое оконце.
В конце концов выяснилось: сапожник стихи сочинял, зовут его Алексеем Никифоровичем Спасеновым, и не раз он печатался в местной «Курортной газете». Я заинтересовался стихами Спасенова, сказал, что живу в Доме творчества писателей. Он тотчас же заулыбался всем своим широким лицом и достал пухлую тетрадку из какого-то сокровенного ящичка.
Пока я читал, сапожник успел не только набить подковки, но и на все мои старые ботинки навел глянец, а плату не взял.
– Знаете, Алексей Никифорович, стихи мне нравятся, – сказал я словно бы в благодарность за бескорыстный труд, но совершенно искренне. – Особенно вот эти – о сапожнике, о том, как «ботинок раскрыл свой голодный роток» и как затем, после починки, показалось умельцу, будто «в небе звезды – как медные гвозди, а месяц подковою счастья горит».
Ободренный Спасенов тут же прочитал только что законченное стихотворение:
У волны есть размах
И торжественный гул —
Это ветер в нее
Свою силу вдохнул.
И прощает он ей,
Что в далеком краю
Она силу его
Выдает за свою!
– Прекрасно! – воскликнул я… и решил немедля показать тетрадку со стихами редактору «Звезды».
Из всех стихотворений Холопов выделил лишь «Сапожника». И вдруг высказал давнее, наболевшее, заветное:
– Я люблю поэзию гражданскую, некрасовского накала. А большинство нынешних поэтов никак не могут излечиться от мелкотемья. Надо через себя выражать Время, а не через Время только себя, свое маленькое подчас «я».
6 апреля
После завтрака пригласил Холопова съездить в Алушту и посетить музей Сергеева-Ценского, но он отказался: «Надо заканчивать воспоминания о Вадиме Андрееве».
Вернулся я из Алушты к вечеру, стал делиться впечатлениями о поездке, пересказывать услышанные истории про выдающегося русского романиста, «алуштинского затворника», как его называли при жизни, а Холопов мрачнеет – и вдруг резковато:
– Толстые романы сейчас плохо читаются.
Я возражаю: хорошая проза читается независимо от размеров, а у Сергеева-Ценского к тому же отличная проза, и надо ее только почаще переиздавать, чтобы взыскующая читательская душа могла наслаждаться словесной живописью большого мастера.
У Холопова непреклонно сжаты губы. И в душе я обижен на него: не оценил, не оценил «широкозахватную», размашистую манеру письма автора «Севастопольской страды» и многотомной эпопеи «Преображение России»!
Но сквозь обиду мало-помалу проступает и трезвое понимание такой непримиримости. Самому Георгию Константиновичу свойственна лаконичная манера письма. Она выявилась отчетливо еще в первой его книге рассказов «Бегство Сусанны». И эту манеру не только не разрушили его романы «Огни в бухте» и «Грозный год», «Гренада» и «Докер», но, наоборот, укрепили в них тот же энергичный, сжатый стиль.
7 апреля
Сегодня я похвастался: без устали прошел из конца в конец всю «Солнечную тропу»! Не без самодовольства прибавил, что во время «хождений» по Волге за день одолевал тридцать – сорок километров.
В дымчато-серых глазах Холопова пробились озорноватые огоньки, но заговорил он невозмутимо, даже с каким-то безразличием:
– Во времена оные, довоенные, работал я корреспондентом «Крестьянской правды». Однажды за сутки прошел по Валдаю восемьдесят километров. Вышел к Окуловке, смотрю: поезд на Ленинград стоит. Значит, надо поспешать! А ноги уже не слушаются: все мускулы одеревенели… Хорошо, рядом оказался пень. Грохнулся на него, вовсе окостенел… Так всю ночь и просидел на пнище. Да еще потом четыре дня отлеживался в окуловской больнице.
8 апреля
…Пасмурный выдался денек, невеселый. Среди цветущего миндаля особенно мрачноватыми кажутся кипарисы. Траурно-похоронной цепочкой бредут они вдоль шоссе, над оврагом, где картавый лепет ручья, суетня черных дроздов, мертвенный шелест прошлогодних листьев…
А над всей этой хмарью и печалью земной – властительно-реактивный гул сторожевого самолета.
– Если думать о неотвратимости войны – перо выпадет из рук, – внезапно произносит Георгий Константинович. – Ведь все погибнет в ядерном пекле! И твое выстраданное слово, и то, которое еще не выговорено – назревает.
Война, треклятая война! Она въелась в поры его солдатской души, именно солдатской, хотя был он тогда военкором. И нахлынули воспоминания…
– Столько смертей повидал, что о своей не думалось. Было еще писательское любопытство – самому все узнать. Вместе с бойцами входил в освобожденные села и города. А когда затем приезжали другие корреспонденты, они уже мало что видели…
…Жена моя Ольга Ивановна до войны была ворошиловским стрелком, посещала шоферские курсы. На фронт мы с ней ушли в первый же день войны. Жена сначала работала медсестрой, спасала раненых. Если на попутку их не брали – грозила револьвером. А сиганет струхнувший шофер в кусты – сама вела машину с ранеными!..
…Первые свои фронтовые рассказы я написал во второй половине сорок второго, в том самом селе Алеховщина, с которым сейчас столь дружна наша ленинградская писательская организация. Зимой того же года, в лютый мороз, приехал по Дороге жизни в осажденный Ленинград. По старой памяти зашел в редакцию журнала «Звезда». А там работало всего два сотрудника. На ладан, можно сказать, дышат. До моих ли рассказов им, отощавшим! Однако уже на следующий год, в январском номере, три из четырех моих рассказов были напечатаны.
…О войне надо писать обобщающе, сгущенно, что ли… Вот интересный случай из собственной литературной практики. Есть у меня новелла о герое-черкесе «Гвардии капитан Хабеков». Всего две страницы! Но нашли этакие совестливые сомнения: не мало ли? Отважный черкес достоин обширного повествования. И поехали мы с женой на родину героя, прожили там больше месяца. Я собрал массу материала о Хабекове. А перечитал затем новеллу и понял: ни повесть, ни роман писать не надо – все уже сказано на двух страничках.
10 апреля
Георгий Константинович сообщил мне, что закончил воспоминания о Вадиме Леонидовиче Андрееве, и попросил меня прочитать их, высказать свое мнение.
Воспоминания увлекли меня с первых же страниц. Холопов очень простым и ясным, точным штрихом воссоздает образ деликатного и благородного человека, глубокого патриота: недаром же его ужаснуло, что дочка Герцена, живя во Франции, начисто забыла родной язык. В самом же Вадиме Леонидовиче чужбина лишь обострила тоску по родине, а тоска родила и прекрасные стихотворения, и превосходные автобиографические повести «Детство», «Возвращение в жизнь», роман «Дикое поле», которые впоследствии печатались в «Звезде». И разве ж не за свою Россию он сражался в рядах французского Сопротивления?
В этих воспоминаниях ощутим и внутренний полемический заряд: эмигранты не все были одинаковы, у иных процесс осознания своей неправоты – разрыва с родиной – был мучительно-затяжным…
Я знаю другие воспоминания Георгия Холопова. Но и в них он не уподобился просто мемуаристу, которому куда важнее изложить различные факты и случаи из жизни описываемых выдающихся людей, нежели художественно зримо воспроизвести их облик. Нет, Георгий Холопов скульптурно четко, выпукло лепит портреты Соколова-Микитова и Чапыгина, Александра Прокофьева и Михаила Слонимского… Поэтому его воспоминания о писателях – одновременно и художественные произведения.
11 апреля
Отменный денек – ясный и теплый. Солнце проложило по морю к стылому еще ялтинскому берегу широкую ослепляющую дорогу.
Прогуливаемся с Холоповым по набережной. Скрипуче, прожорливо кричат чайки над самой головой. В воздухе – сверкающая пыльца разбитых волн.
– А море-то будто огуречной свежестью попахивает, – делаю я замечание.
– Надо бы не забыть огурцов купить, – откликается он буднично, прозаично.
Парниковыми огурцами, чудовищно огромными, выгнутыми как сабли, торгуют буквально на каждом шагу. Но их размеры угнетают Холопова. Он немножко гурман и старательно разыскивает самые нежнейшие, молоденькие огурцы, которые и впрямь благоухают морской свежестью.
Вскоре сумка Георгия Константиновича полным-полна – я вызываюсь нести ее, увесистую, однако мое предложение отклонено.
Кто из писателей не знает подъем к Дому творчества! Вроде бы он и пологий, но через какую-нибудь сотню метров ноги уже точно свинцом наливаются, шаг становится вязким, укороченным, дышится учащенно.
То же самое происходит с Холоповым. Дыхание у него вырывается уже толчками, ноги точно вязнут в плавком, нагретом асфальте.
– Давайте передохнем, – предлагаю я. – И вообще не мешало бы такси взять.
Холопов отвечает не сразу – лишь после того, как отдышался:
– Оно, конечно, можно бы и на такси. Да, как говорят, дурной пример заразителен.
– Что-то я вас не понимаю, Георгий Константинович…
– Тогда слушайте… В прежние свои приезды в Ялту я часто пользовался такси при подъеме. Однажды еду и вижу Мариэтту Шагинян. Лет ей в ту пору было восемьдесят, если не больше, а она спорым, упрямым шажком поднимается по шоссе, будто колобком катится, только вверх, вверх… Конечно, остановил машину, предлагаю: «Садитесь, Мариэтта Сергеевна, подвезем!» Она же сердито отмахивается: «Сама, сама!.. Без вас обойдусь!..»
13 апреля
Вчера взял в библиотеке книгу Г. Холопова «Иванов день», уже прочитал повесть «Долгий путь возвращения» – о бывшем бандеровце Фесюке.
С каким психологическим тактом писатель раскрывает заблудшую душонку его, но с какой праведной беспощадностью он выворачивает наизнанку кровавые души украинских националистов!
Делюсь впечатлениями о прочитанном, говорю Холопову, что его повесть вообще направлена против националистического угара – увы, живучего.
– Но, – прибавляю, – концовка повести могла быть более впечатляющей, динамичной: бандеровец не примиряется, что Фесюк избирает новый путь жизни, и убивает его.
Холопов замечает спокойно, взвешенно:
– В прежнем варианте повести концовка была более жестокая. Фесюк живет один, всеми отвергнутый, под тяжестью постоянного самонаказания. Но такая концовка вызывала во мне смутное чувство неудовлетворенности. Я решил показать повесть знакомому секретарю одного из райкомов Прикарпатья. После прочтения он сказал: «Таких Фесюков много. Их надо вовлекать в жизнь. Да так оно и есть в действительности: Фесюки через труд вовлекались и вовлекаются в нашу жизнь». Вот почему я считаю нынешнюю концовку повести и жизненно, и политически верной: она дает возможность задуматься скрытым Фесюкам.
25 апреля
Каждый день, прожитый с Холоповым в Ялте, невольно обогащает мой дневник интересными высказываниями писателя.
– Вот мы тут с вами рассуждаем о причинах долголетия горных жителей Азербайджана… А главная – в том, что они мало заседают.
– Взял почитать статьи Руссо о литературе и искусстве. Какая перекличка с современностью! Не потому ли великие по-прежнему остаются великими?
– Симонов работал по строго расписанным часам. Рецензию на мой роман «Грозный год» о Кирове продиктовал машинистке в Союзе писателей в девять часов утра. Хотел встретиться со мной, назначил время, да меня часы подвели. Являюсь, а машинистка говорит: «Он же вас ждал в девять утра». Хоть плачь!
– Просматриваю книгу Александра Фадеева «За тридцать лет». Не согласен с его оценкой творчества Леонида Андреева. Фадеев судил с позиций социалистического реализма, а ведь тогда был критический.
16 апреля
Прочитал еще одну «гуцульскую» повесть Г. Холопова – «Иванов день»[11]11
Сборник повестей, рассказов и воспоминаний Георгия Холопова «Иванов день» в 1982 году был удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Горького.
[Закрыть].
В центре ее – судьба пригожей вдовы Ганны Стефарук, к которой немало женихов сватается, и все они назойливы и самонадеянны, все кичатся нажитым добром, а предпочитает красавица Ганна скромного резьбара Федора с тремя осиротелыми детьми: ведь им так нужна материнская ласка.
– Какое разностороннее знание Прикарпатья и какое тонкое проникновение в характер гуцула! – говорю я Георгию Константиновичу. – И ни малейшего щегольства своими знаниями, какое свойственно писателям, побывавшим в творческой командировке! Вы органично, естественно слились с жизнью иного народа. Но все же скажите: откуда такие подробности бытия гуцулов?
Холопов улыбается:
– Представьте, подобный же вопрос задал мне и Микола Бажан.
– А что вы ответили ему?
– Я ответил, что целых пятнадцать лет посвятил Гуцульщине. Каждое лето жил там, начиная с шестьдесят третьего года, всю исходил ее. Изучил украинский язык. В оригинале прочел сочинения Михайло Коцюбинского, Леси Украинки, Ольги Кобылянской, Василия Стефаника, Марко Черемшины, Гната Хоткевича, причем некоторых – на галицийском диалекте, очень трудном.
19 апреля
Не заладилась нынешняя крымская весна: то дождь, то туман, то солнце, скуповатое на ласку. И все же зазеленела мелко, еще пугливо березка в парке, растопорщил, как пальцы, свои удлиненные почки дуб, погнал листву зубчатую…
Сегодня тоже туманно, да ко всему еще холодно. С моря долетают тревожные всхлипы словно бы заблудшего парохода… Я сижу в комнате Холопова и тяну вместе с ним сухое венгерское вино золотистого настоя.
Да, день вроде бы привычный – тусклый, без всякого намека на солнце, а на письменном столе две бутылки, огурцы, копченая колбаса, а сам хозяин – в празднично-белой рубашке с отложным воротником, в отглаженных брюках. И думаю-гадаю: уж не произошло ли какое-нибудь знаменательное событие в жизни Георгия Константиновича?
– Вчера из редакции получил телеграмму, – неожиданно сообщает Холопов, – а сегодня – сверку пятого номера «Звезды».
«Нет, – размышляю я, – ради этого едва ли стоило бы раскупоривать бутылки. Сие пиршество, видимо, по более значительному поводу».
А Холопов продолжает упорно и целеустремленно тянуть одну и ту же разговорную нить:
– Сколько вы, Юрий, напечатали в «Звезде» рассказов и повестей примерно за четверть века?
– Да немало, немало, Георгий Константинович, – отвечаю я, вконец заинтригованный. – Но почему именно за четверть века?
Холопов задумался, не отвечает, хотя уголки его тонких губ лукаво подрагивают, и опять тянет свою загадочную нить:
– Конечно, и «Звезду» можно в чем-то упрекать, но нам зачтется, что вот уж чуть ли не двадцать лет при редакции существует литобъединение молодых прозаиков. Успешно у нас работает и группа молодых критиков. Этим я особенно доволен. Ведь старички – те неохотно откликаются на новинки, все давно ушли в литературоведение, стали докторами наук. А сейчас вокруг журнала уже объединилось шестнадцать молодых критиков. Теперь все номера можно составлять из их критических материалов.
Я замечаю с улыбкой:
– Вас, Георгий Константинович, кажется, потянуло на подведение итогов своей редакторской деятельности?
– Ну, итогов не итогов, а за двадцать пять лет работы в журнале кое-что сделано.
– А-а, так вот, значит, какая славная дата в вашей жизни! – не могу не воскликнуть, не порадоваться я – и не призадуматься: четверть века «Звезда» сияла, не тускнея, и в этом, конечно, в первую очередь сказалась идейно-эстетическая взыскательность главного редактора, его глубокая партийность, а кроме того, был заметен и убедителен его индивидуальный редакторский почерк – бесстрашно и любовно печатать безвестных молодых писателей, предпочитая подчас их жгуче-современные повести, рассказы, романы «холодноватой» прозе маститых, ибо, как там ни суди, ни ряди, а будущее-то литературы – в них, молодых!
22 апреля
Любимый писатель Холопова – Максим Горький, если судить по такому страстному монологу:
– Вот вы говорите о спаде интереса современного читателя к книгам Горького, особенно молодого читателя… Согласен, согласен! А чем это можно объяснить? Отчасти тем, что многими сейчас овладела жажда необузданного потребительства, среди молодежи продолжается губительный процесс этакого «джинсового омещанивания», конечный результат которого – полнейшая бездуховность, безыдейность. Так отчего же этой части молодежи «любить» Горького? Он же, со своей воинственной проповедью против благополучно-сытеньких людишек, – укор им, он шевелит их заглохшую совесть… Да что там шевелит! Бьет прямо по мозгам каждым своим гневным словом! И от его карающего гнева, как ни отмахивайся, никуда не скроешься, даже за высокие заборы дач и вилл.
А самгинщина?.. Недавно я снова перечитал «Жизнь Клима Самгина». Это ли не новаторская эпопея! Через своего отрицательного персонажа Горький сумел изобразить переходное время с его самыми прихотливыми и многослойными политическими течениями. И пригвоздил к позорному столбу Самгина и самгинщину – это двойственное отношение к жизни, стремление к личному удобству, склонность к предательству, к измене прежним светлым идеалам.
26 апреля
Потеплело, зазеленело все вокруг. Гулко воркуют горлинки. На улицах – взрывчатое, слепительно-желтое пламя дрока, томное цветение мелкой, розовой японской розы, головокружительная мозаика невиданных цветов…
Да, все расцвело, разнежилось, а надо уезжать, и уже поджидает на асфальтовой площадке перед Домом творчества черная «Волга».
Поднимаюсь на второй этаж, захожу в комнату Холопова, чтобы помочь вынести чемодан и машинку. А Георгий Константинович… Он, представьте, задрал рубашку на животе и сует за ремень брюк плоский бумажный пакет.
– Что вы делаете? – изумляюсь я.
– Да так, знаете, надежнее, – отвечает не моргнув глазом Холопов, хотя он, кажется, врасплох застигнут. – Прячу рукопись воспоминаний о Вадиме Андрееве…[12]12
См.: Звезда, 1983, № 1.
[Закрыть] Привычка, привычка!
– Откуда же она взялась?
– С давних еще времен… Накануне первого Всесоюзного съезда писателей проводился в Ленинграде литературный конкурс. Я туда послал рассказ «Клепка», а копии не оставил. За рассказ мне присудили премию. Но кто-то из членов жюри потерял рукопись, и рассказ, естественно, не был напечатан… Так почему, если другой теряет мою рукопись, не могу ее потерять я сам?
И уже при спуске по лестнице Холопов признается сокровенно:
– Все я могу потерять, ни о чем не пожалею, кроме как об утерянной рукописи!..
…Прощай, Ялта! И – спасибо тебе! Ты помогла мне лучше узнать Георгия Холопова – старшего товарища и замечательного писателя.
1982








