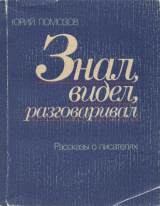
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
«РУССКИЕ СТИХИ, С РАЗДУМИНКОЙ»
ВСПОМНИЛОСЬ…
Ветреный, морозно-солнечный февраль 1971 года. Комарово.
Мы идем с Александром Ефимовичем Решетовым по просторной поселковой улице. Змеится, шуршит в ногах поземка. Поэт сутулится, казалось бы, необоримо, его слабые ноги в тяжелых валенках передвигаются скользяще, неторопливо – из-за опаски потерять опору. В простое и суровое лицо глубоко врезаны болезненные морщины.
Знаю: Александр Ефимович недавно перенес тяжелую операцию, и надобно ему, согласно предписанию врача, отлеживаться в теплой комнате. А он в своем тонком осеннем пальто, в старенькой шапке-ушанке идет наперекор злющему ветру и собственной телесной немощи, словно и его, как крылатое сосновое племя, влечет в путь некая вдохновенная сила, неподвластная земным хворям-напастям.
И почему-то вспомнилась мне блокадная зима. Иду я в длиннополой шинели ремесленника по сугробистому проспекту Невской заставы, прижимаю к груди тонкую-претонкую книжечку. Но сколько в ней пылкого жара мужественного сердца, как она согревает на лютом тридцатиградусном морозе! И губы мои сухие, без кровинки, вышептывают, как клятву, чеканные слова:
Отчизна-мать!
Доступного смятенью
Сама убей в борьбе.
Как воды рек твоих верны теченью,
Так мы верны тебе.
Мог ли я тогда знать, что судьба одарит меня радостью знакомства с автором этих пламенных строк – с большим русским поэтом Александром Решетовым, согревшим и ободрившим меня в те грозные дни испытаний?..
«ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ»
Теперь как встречу скромный, вьющийся на камнях ручеек, так вспомню решетовское стихотворение «Лесной ручей»…
Вот как будто и не знаменит он ничем, не вертит ни лопастей турбин, ни колес сельских мельниц, да и для сплава он тесен и крив, и знай себе несет пушинки ив. Но отчего же тогда, с виду неприметный, он любим и храним?.. Да оттого, что привлечет он своим струйчатым звоном и усталого тракториста, и босых мальчишек, что есть и его малая доля в реках и морях, что давно уже он стал «прекрасной черточкой живой родимой стороны».
Мне кажется, поэзия Александра Решетова сродни этому ручью: неброская с виду, но проникновенная, она служит Человеку, она необходима ему.
РЕШЕТОВСКОЕ СЛОВО
Чувство слова было предельно обостренным в Решетове – он мучительно и долго отделывал каждую строчку стихотворения. Порывистое желание откликнуться в газете стихами на какое-нибудь важнейшее событие сдерживалось выработанной требовательностью к себе. Он признавался:
– Не люблю писать на даты, по заказу. Быстро писать не могу, а плохо не хочу.
Затем эта честная исповедь облеклась в поэтическую форму:
Ничего, что торжествую редко,
Что, строку не торопя, живу.
С губ строка слетает, словно с ветки
Яблоко созревшее в траву.
И каждая статья на литературную тему, замечал я, отделывалась им тщательно; в ней не встретишь заемных, расхожих выражений. Помню в журнале «Нева» статью Решетова «Предчувствие перемен»:
…Стихи – это ви́дение, понимание и ощущение жизни лишь одним человеком, их автором, с ним можно соглашаться и не соглашаться. И если стихи лишены убедительности, далеки от действительного состояния дел в той области жизни, которой они посвящены, то не вызовут они ни сочувствия в обществе, ни спора, нужного ищущим, не обреченным на застой людям.
В отличие от тех, кто с бездумной готовностью делал дружеские авторские надписи на подаренных книгах, Решетов и здесь заботился о предельной смысловой наполненности каждой фразы, каждого слова, чтобы сжато, энергично высказать что-то заветное, наболевшее. Так, например, знакомому литератору он подарил книгу стихов французского поэта, весьма склонного к формалистическому экспериментаторству, под видом этакого «нового гуманистического лиризма» и надписал на титульном листе: «Почему-то в моей душе никак не воздвигается памятник этому поэту».
Один из моих друзей так отозвался о Решетове:
– Нет, неспроста Александру Ефимовичу дана эта фамилия! Сквозь емкое решето своей требовательности он каждое слово процеживает.
НА СОБРАНИИ
…Шло одно, довольно-таки скучное писательское собрание. И вдруг в порывистом броске, как боец, поднявшийся в атаку, взошел на трибуну поэт и взорвал скуку ясными и звонкими человеческими словами:
– Будем внимательны друг к другу и отзывчивы на творчество каждого собрата по перу!
Поэт – это был Решетов – вспомнил о многих хороших писателях, которых уже нет с нами; он с сердечной теплотой рассказал о своем друге романисте Евгении Александровиче Федорове, авторе трехтомной эпопеи об Урале. Но гневом наполнились слова поэта, когда он поведал о равнодушии к памяти замечательного литератора.
А я подумал о живущих – о тех, кто и при жизни должен быть оценен по справедливости, в меру своего таланта. Ведь подчас случается так, что мы больше говорим о писателях, которые сами о себе постоянно напоминают бойкой и хлесткой скороговоркой, подменяющей истинное искусство, а о тех, кто не гонится за количеством написанного, но умеет в нужный час сказать народу единственно верные и необходимые слова, пишем порою до обидного мало и скупо…
«НЕЖДАННОЕ И ПОЗДНЕЕ ЦВЕТЕНЬЕ»
Есть читатели, убежденные, что жизнь поэта в мире творчества кратковременна и подобна ослепительной вспышке звезды во мгле вечности, что в преклонном возрасте поэт обычно перепевает себя, то есть, как и угасшее небесное светило, излучает давний свет» а посему – лучше бы ему набраться благородного мужества да молчать достойно!..
Что ж, и такое случается, когда поэт перестает быть «колоколом на башне вечевой». Но если он жил и живет в лад с думами людскими, если его судьба неотделима от судьбы народной и в бедах и в радостях, – разве сызнова не встрепенется пусть даже и больное сердце поэта, разве на лбу его не перечеркнет морщины прожитых лет новая морщина глубокого раздумья о земле родной, о земляках и не вздохнет он полной грудью, чтобы вместе с обретенным «вторым дыханием» исторгнуть из душевных глубин самую лучшую, самую заветную, хотя, быть может, и самую последнюю песню!
Выход в 1961 году книги «Роща» Александра Решетова свидетельствовал о щедром лирическом расцвете его таланта, о «нежданном и позднем цветенье», по словам самого же поэта. Критика тепло встретила полнозвучный, внятный шум «Рощи», тронутый первым багрянцем осени, роняющей первые печальные листья. В одной из рецензий говорилось:
В поэзии Решетова мыслительное, духовное начало приобретает все больший удельный вес. Сокровенны раздумья поэта, афористичны его стихи. Многие строки западают сразу в сердце, запоминаются без всяких усилий.
Да, это так. До меня вновь долетает из песенной «Рощи» «второе дыхание» поэта, опять я, взволнованный его горьким и мудрым откровением, повторяю:
Я не люблю бумажные цветы
С их ложною красивостью бездушной.
И делать их, по-моему, не нужно:
Где нет души, там нет и красоты.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Взор человека в звездном корабле
От их красивости не потеплеет.
Подснежник скромный больше и живее
В других мирах расскажет о Земле.
Когда умру, ты мне простишь грехи,
Живой цветок на тихий холм положишь
И вспоминать не будешь те стихи,
Что на бумажные цветы похожи.
«РУССКИЕ СТИХИ, С РАЗДУМИНКОЙ»
Был прощальный вечер в станице Вешенской, в доме Михаила Александровича Шолохова.
В распахнутые окна гостиной врывался горьковатый полынный ветер с Задонья; там же, в предгрозовой сумеречи, поблескивали молнии…
За длинным столом сидели гости Шолохова – датские литераторы во главе с Хансом Кирком, ленинградцы Сергей Воронин и Александр Решетов, украинский прозаик Василь Минко.
Михаил Александрович попросил Решетова прочитать на прощание стихи. Сразу смолкли веселые голоса, предельно внимательным стал поэт и переводчик Эрик Хорскьер. И вот зазвучали раздумчиво-медленные, проникновенные решетовские строки:
Мне в грустный час подумалось о том,
Что меньше дарят, чем уносят, годы.
Нигде не ждет меня отцовский дом,
И не покличут сверстники в походы…
На вечере Александр Решетов прочитал несколько стихотворений, и среди них «Рощу», пронизанную щемящей и какой-то просветленной печалью:
И в Сахаре мертвые не ропщут.
Но и там я верил бы, живой,
Что тебе, березовая роща,
Ликовать и плакать надо мной.
Михаилу Шолохову по душе пришлись решетовские стихи – он попросил поэта снова прочитать «Рощу», «Лесной ручей», «Походную быль», «На зимнем озере», «Я не люблю бумажные стихи…» Потом сказал:
– Русские стихи, с раздуминкой.
По сути дела, это была веская, очень точная оценка всей поэзии Александра Решетова.
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Однажды – кажется, в 1961 году – я заехал к Сергею Воронину, тогда главному редактору журнала «Нева».
Сейчас не помню, какое дело привело меня к нему. Но запомнилась его озорновато-лукавая улыбка, вдруг просветлившая усталое лицо. И тут же он крепко потер руки, сказал с нескрываемо пристрастной редакторской удовлетворенностью:
– А славное мы решетовское стихотворение напечатали! О том, что «в газетах мелькают плохие стихи стариков, когда-то прославившихся стихами».
Я уже читал это бьющее наотмашь по былым кумирам, но и к собственной совести обращенное стихотворение. Оканчивалось оно так:
Иначе к чему б
О бедных стихах говорил?
Возможно, и сам нагрешу
Стариком многолетним…
Мне жаль,
Что из движущих нашими душами сил
Тщеславие нас покидает последним.
– Любопытна история этого стихотворения, – сказал Сергей Воронин. – Впрочем, у меня тут под рукой письмо Александра Ефимовича… Послушай, что он пишет: «Из верстки первого номера «Москвы» сияли все-таки стихотворение «Тщеславие». Кулемин сообщил мне это. Рассказал он, что седовласый Лев Никулин возглавил в редколлегии защиту стариков, организовал нажим на Поповкина и склонил того снять колкое «Тщеславие». Говорят, были в редколлегии и остались в меньшинстве горячие поклонники этого двенадцатистрочного произведения. На тебя нажим организовать, думаю, вряд ли кто сможет, если ты решишь опубликовать «Тщеславие»…»
ДОРОГАЯ НАГРАДА
…Будучи в Москве по делам, Решетов проведал на новой квартире своего большого друга, поэта Василия Кулемина, которого называл попросту – Лаврентьичем.
Во время задушевного разговора друзей в кабинете остался сын Кулемина, маленький Саша. Он сидел тихо и с недетской серьезностью вслушивался в беседу.
Вдруг Кулемин спросил гостя:
– Скажи честно, ты переживаешь, что тебя в твое пятидесятилетие не наградили орденом?
Гость ответил резковато – вопросом:
– А разве дело в орденах, а не в стихах?
– Дело в самочувствии, – сказал Кулемин… и тут же попросил гостя почитать новые стихи.
Во время чтения маленький Саша незаметно выскользнул из кабинета. А когда вернулся, в руках его была шкатулка, где хранились милые ребячьему сердцу вещицы. Среди них нашелся значок с изображением Ленина. Сын стал просить отца наградить дядю Сашу… И вот трепетная детская ручонка наколола на пиджак гостя чудесный значок. На глазах у отца показались слезы, да и сам гость растрогался…
ПОДРАНОК
Обычно после завтрака мы втроем – Ариф Сапаров, я и Александр Решетов, прихрамывающий после болезни, – гуляли по заснеженному Комарову.
Однажды, при нежданно-негаданной оттепели, когда вдруг улыбчиво просияла среди облачных размоин почти весенняя голубизна, у Решетова вырвалось с протяжным вздохом:
– Эх, отойти бы к лету, оттаять, как вон тем березкам-сестрицам, да вновь побродить по льняной своей Псковщине!
Он стал расспрашивать меня о хождениях по Волге, чтобы, видимо, сильнее укрепиться верой в собственное путешествие. Я принялся рассказывать и, между прочим, поведал о том, как угодил в трясину вблизи верхневолжского озера Большой Верхит.
– А вы знаете, и со мной нечто подобное случилось! – подхватил, оживляясь, Александр Ефимович. – Есть неподалеку от моего любезного Отрадного лесное зарастающее озерцо. Решил я там пострелять уток. Надел ватник, натянул резиновые сапоги и отправился с ружьецом в укромное местечко, где обычно хоронилась моя долбленка, будь она неладна!.. Дело в том, что это было уже ветхое, ненадежное созданье, но вы ведь знаете, русского человека часто «авось» вывозит… Однако на сей раз и спасительное «авось» не помогло! Примерно на середине озера дно моей лодчонки затрещало, вода зафонтанила, и я, любитель утятины, по грудь окунулся. А ватник набряк, сапоги под стать гирям… Чую: утягивает меня в самую приглубь. «Ну, – думаю, – это уже конец! На войне уцелел, а здесь тебе, Ефимыч, крышка!..» Да тут, на счастье-то, – рраз! – и зацепил я носком сапога корму долбленки. Оказалось, нос ее в дно вонзился, поскольку был тяжелее, а корма стоймя встала, как бревно-топляк. И я, не будь дурнем, на ней утвердился. Стою, руками бью по воде, чтоб не соскользнуть с нежданного пристанища, и, конечно, ору, призываю на помощь и бога, и черта.
Решетов передохнул; взгляд его был горящим, блуждающим.
– В общем, ты напоминал тогда подранка-селезня из своего же стихотворения, – пошутил Ариф Сапаров и продекламировал:
Водя в испуге сизой головою,
Он по воде крылами долго бил:
Подбитому, с жестокою водою
Ему расстаться не хватало сил.
…Подранку и впрямь не удалось взлететь… чтобы увидеть милую свою родину – льняную Псковщину.
ЕГО ЧИТАТЕЛЬ
Проведал меня в Ленинграде знакомый учитель из-под Старицы Дмитрий Иванович Смирнов. Много интересного рассказал он о далеком верхневолжском крае, о родном селе Глебове, но вдруг заторопился – сказал со смущенной улыбкой:
– Мне Решетова надо бы навестить… Слышал: язвой мучается Александр Ефимович… Решил ему завезти народное лечебное средство… Да боюсь – примет ли, не засмеет ли?..
– Недавно похоронили мы Решетова… – проронил я.
Из рук моего знакомого с тяжелым стуком выпал затасканный учительский портфель; он судорожно глотнул воздух и отвернулся к стене…
Впоследствии ленинградский литературовед Н. С. Пантелеймонов нашел в архиве поэта такое интересное читательское письмо-отзыв:
Дорогой Александр Ефимович! В дни новогоднего праздника под шум вьюги-завирухи прочитал Вату книгу избранной лирики. Все написано хорошо, каждое стихотворение наводит на воспоминания тяжелого прошлого, заставляет правильно осмыслить наше сегодня.
Ваши ранние стихи не потеряли своей динамичности, они современны. Сколько в них чудесных строк!.. В стихах военных дней показаны вместе с личными переживаниями, вернее – через них, переживания всего народа, которому пришлось отражать натиск сильного и коварного врага. Посещая город моей юности Ленинград, не могу без слез проходить мимо тех мест, где жили мои товарищи и остались в осажденном городе. Многие из них погибли…
Стихотворение «О сельской красоте» мне особенно пришлось по душе, потому что, не считая двух лет, прожитых в Ленинграде, вся моя жизнь связана с деревней средней полосы, которая сильно пострадала в годы немецкой оккупации…
О себе. В боях под Ржевом получил тяжелое ранение. Демобилизовался в 1943 году инвалидом 2-й группы. Заочно окончил Калининский педагогический институт и вот уже два десятка лет учу сельских ребятишек в небольшой школе.
С уважением к Вам и творчеству Вашему – Д. Смирнов, село Глебово, Калининской обл.
УПРЕК ИЗДАЛЕКА
Это была моя последняя встреча с поэтом…
Заглянул в приоткрытую дверь редакторского кабинета – смотрю: Александр Ефимович склонился над столом, грузный, с набрякшими мешочками под крупными, словно бы выдавленными глазами, и что-то в упор разглядывает перед собой.
– Заходи, заходи! – кивнул мне озабоченный Анатолий Чепуров, поэт, он же в ту пору – главный редактор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», – Вот тут Александр Ефимович в раздумьях – не знает, какую фотографию предпочесть для нового сборника… Может быть, ты посоветуешь?..
Давно я не видел Решетова: похварывал он, после больницы почти безвыездно жил на своей даче в Отрадном. Кинулся к нему и обрадованный нечаянной встречей, но и встревоженный: что-то он скажет о моих новеллах о нем, которые недавно были напечатаны в «Вечернем Ленинграде»?.. И сразу натолкнулся на хмурый взгляд поэта, хотя руку мою он пожал с прежней сердечной дружественностью. Невольно подумалось: «Огорчил Александра Ефимовича какой-то оплошкой, или же не хватило чувства меры и такта при воссоздании живых черточек его характера».
Тогда, то есть летом 1971 года, в издательстве готовилась книга поэм, баллад и новых стихотворений поэта под названием «Запавшие в душу картины». Дело оставалось за малым – подобрать к сборнику фотографический портрет поэта. Мне понравился один снимок: Решетов в плаще, держа в руках какой-то зябкий и, видимо, запоздалый осенний цветок, стоит среди мшисто-суровых заполярных сосен, под дождливым небом, а сквозь тяжелые складки его одутловатого, нездорового лица прорвалась улыбка, еще скуповатая, без отблеска в глазах, – так солнце вдруг прорывается сквозь ненастные тучи, чтобы прощально обласкать землю – любимое свое детище…
Я высказал свое мнение насчет снимка; Решетов отозвался бормотанием: «Пожалуй, пожалуй…» Потом, словно спохватившись, торопливо, глуховато произнес в нос:
– Благодарю за добрые слова обо мне[13]13
В газете «Вечерний Ленинград» было напечатано пять моих новелл об А. Е. Решетове.
[Закрыть].
И будто тяжесть спала с моих плеч.
…Сборник «Запавшие в душу картины» вышел в 1972 году, уже после смерти поэта. А спустя два года в том же издательстве «Советский писатель» вышла книга Николая Пантелеймонова «Александр Решетов». В ней я встретил понравившийся мне снимок и… слова упрека в свой адрес.
«Конечно же, его заметки продиктованы добрыми намерениями, благородными мотивами, – высказывал свое суждение Решетов. – Несколько омрачило меня то, что он зачем-то изобрел свой вариант о моих встречах с Михаилом Александровичем Шолоховым, в частности о шолоховской фразе «русские, с раздуминкой». Эта фраза была произнесена не только по поводу «Походной были», а в кругу многочисленных гостей Михаила Александровича, съехавшихся к нему с писательского съезда, когда мне пришлось читать по просьбе писателя многие из своих стихотворений. Об этом правильно было написано Ворониным в предисловии к моей детгизовской книге. Но что поделаешь, заикнись я об этом – скажут: «Решетову не угодишь». Но и так оставлять эту фантазию не хочется…»
БЕССМЕРТИЕ
Недавно побывал на Богословском кладбище, посидел, погрустил у могилы Решетова…
Май еще был в зачине. Но телесно-белые стволы берез уже были окутаны тонким зеленым кружевом. На кусте бузины, сливаясь с ее ранними румяными листьями, чисто, радостно пел краснобокий зяблик. В лучах солнца, вспыхивая и вдруг опрозрачиваясь, перепархивали бабочки-лимонницы. И где-то в южной стороне уже погромыхивало гулко, ворчливо, с раскатцем…
Припомнились решетовские строки:
Ни грустить, ни ликовать, ни злиться
Я не буду под своим холмом;
Заодно с землей,
Ее частица,
Дрогну лишь, встречая майский гром.
Вечером, при далеком отблеске медной шапки Исаакия, при ветерке, заносившем в распахнутое окно сладковато-клейкий запах дружно зазеленевших, еще мокрых тополей, я наугад раскрыл томик стихотворений Александра Решетова и прочел:
Хорошо в труде суметь и сметь,
Благодатью жизни награждаться.
А того, что неминуча смерть,
Нам по-детски стоит ли пугаться?
Ждать ее не надо никогда,
Торопиться умирать тем боле.
Торопись в деревни,
В города,
В лес зеленый,
В золотое поле…
Живой голос поэта говорил о жизни, звал в жизнь.
Этому голосу звучать!
1971—1975
ДОБРЫЙ, РАЗМАШИСТЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ
Впервые я увидел Павла Леонидовича Далецкого на улице около Дома писателя, и он сразу же поразил меня внешним видом: идет под осенним моросящим дождичком в деревянно постукивающих сандалетах на босу ногу, в каких-то несуразно коротких штанах, чуть ли не шортах, в гимнастерке цвета хаки, со множеством накладных карманчиков…
Одни литераторы поговаривали: умеет, мол, человек удивлять своей внешностью, как, впрочем, и своими романами-«кирпичами»; другие припоминали забавный случай, когда Далецкого задержал милиционер, пораженный его вызывающе странным одеянием (дело было в начале пятидесятых годов); но те, кто близко знал Павла Леонидовича, свидетельствовали: «Он, дальневосточник, все никак не может выключиться из стихии тамошней пестрой разноязычной жизни». И рассказывали о богатой творческой фантазии Далецкого, приводили пример причудливого смешения воображаемого и действительного во время его работы над романом «Тахома»: будто бы писатель в одной из анкет написал о своем пребывании в Маньчжурии, хотя впоследствии выяснилось, что побывал он там лишь с помощью необузданно-яркого, крылатого воображения.
Для Павла Далецкого как писателя, автора многих романов и двухтомной эпопеи о русско-японской войне «На сопках Маньчжурии», характерна была размашистая манера письма, даже, пожалуй, излишне размашистая. Ее очень метко подметил Константин Федин, писавший ленинградскому литературоведу и критику М. А. Сергееву:
У Далецкого руки более мужские, он изредка доходит до живописи и пишет широко. В его «На сопках…» страницы, главы, даже целые части, – например, Ляоян, Мукден, вообще драма Маньчжурии, – сделаны широко и говорят о его даровитости. Но он устает, как косарь, который уж слишком широко забирает прокосы, и он не совсем отдает себе отчет – зачем уж так размахивать, и от усталости забывает о назначении своей работы: тема целого не требует от него такой широты и частностей [14]14
Творчество К. А. Федина. М.: Наука, 1966, с. 429.
[Закрыть] .
Друг Павла Леонидовича прозаик И. А. Неручев рассказывал мне, как во время подготовки к печати эпопеи «На сопках Маньчжурии» в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» редактор предложил Далецкому несколько расширить одну маленькую сценку, то есть написать еще две-три странички, дабы избежать конспективности в изложении. «Хорошо! Будь по-вашему», – согласился романист, причем в глазах его вспыхнули огоньки какого-то азартного вдохновения. И что же! Он так «расширил» сценку, что она переросла в объемистую главу. Редактору-вдохновителю оставалось только за голову схватиться! Само собой, в дальнейшем он уже предлагал трудолюбивому автору-многописцу делать лишь сокращения: рукопись и без того превышала договорные размеры.
Да, Павел Далецкий был прирожденный романист. Если не ошибаюсь, за тридцать лет творческой работы он написал десять романов. А ведь создавались еще повести, рассказы, очерки!
Особенно плодотворно работалось Павлу Леонидовичу в Комарове. Правда, об этом ничего не расскажут стены Дома творчества, зато есть очевидцы, собратья по перу.
– Бывало, прогуливаешься по саду вечером, – вспоминал прозаик Аркадий Минчковский. – Душа, так сказать, жаждет отдохновения после трудов праведных. Хочешь внимать нежнейшим руладам птиц: до того осточертел стук собственной машинки. Но что за черт! Из ближнего куста вместо соловьиной трели раздается знакомая металлическая дробь. Раздвинешь куст – в укромном местечке сидит, скорчившись, Далецкий, барабанит на портативке… В досаде кидаешься в свою комнату. Не спится! Ждешь не дождешься утра… Наконец поднялось лучезарное светило. Бодрый ветерок манит в сад освежиться перед работой. Идешь по дорожке, хвоей похрустываешь. И вдруг из-за кустов жасмина, прямо из белого цветения, точно пулеметная очередь полоснула… Приглядываешься – и отшатываешься: в солнечном луче блестят очки со знакомым железным ободком… Далецкий уже на рабочем месте! Далецкий выдает на-гора очередной роман!
Но все это – рассказы других. Сам я познакомился с Далецким во время заседаний секции прозы. Он был многолетним ее председателем – нес это общественное бремя терпеливо и, похоже, с удовольствием, ибо любил наблюдать сам живой процесс создания повестей, рассказов, романов – вообще любил писательскую среду. И писатели ему платили ответным душевным расположением. Они охотно читали чужие рукописи дома, чтобы затем обсудить их на секции прозы, помочь своему сотоварищу или молодому автору дельным советом. Если кто отклонялся, ссылаясь на перегрузку собственной работой, Павел Леонидович баском, с прорывавшимися металлическими нотками, убеждал:
– Литература – наша боль и радость. Надо ради общего дела жертвовать своим временем.
Возражать на это было трудно: председатель секции прозы сам являлся наглядным примером такой благородной жертвенности. Невольно вспоминается, сколько литераторов он привлек к обсуждению моей тоненькой книжицы путевых рассказов под общим названием «В моей Отчизне мирной» – книжицы, которая, пожалуй, и не заслуживала столь солидного, профессионального внимания.
С виду Павел Леонидович казался суровым: жесткие складки стискивали его рот и как бы выпячивали острые губы; жесткие волосы, пробитые сединой, никогда, по-моему, не поддавались гребенке – топорщились, разваливались на обе стороны лба, а ко всему еще эти очки в металлическом ободке, которые будто бы и взгляду придавали выражение какой-то упрямой железной твердости, даже неумолимости. Но вот улыбнется Павел Леонидович – и все лицо, из каждой морщинки, лучится душевной добротой, притаившейся до поры до времени.
Бесконечно добр он был к начинающим и молодым писателям. Помню, как один автор прочитал на секции прозы небольшую повесть. Раскритикована она была беспощадно. Автор сидел, нервно теребя рукопись, опустив голову. Далецкий, благо находился рядом, осторожно потянул на себя эту рукопись, уже растерзанную, разгладил ее бережно большой ладонью (он вообще был крупен) и заговорил гулким, басовитым, «председательским» голосом:
– Что ж, приговор вынесен единодушно. Но я к нему присоединяюсь только наполовину.
Кто-то из писателей подал реплику:
– Да вы же, Павел Леонидович, никогда еще не раздваивались, не были половинчатым!
В зале засмеялись. Но Далецкий упрямо, уже методично продолжал:
– Конечно, показ в повести взаимоотношений супругов не вызывает доверия к автору как к тонкому знатоку супружеской жизни. По-видимому, он сам на себе еще не познал ее сладость и горечь. Но – друзья! Почему вы не пожелали заметить то зернышко правды, из которой может прорасти новое произведение? Вспомните картину мощения земляной плотины, сцену упоительного труда главного героя повести. Все здесь дышит поэзией труда; язык повести уже становится образным, энергичным… Нет, нет, вещь не безнадежна!
Ободренный автор сразу поднял голову; в глазах его блеснула надежда… Природная доброта Павла Леонидовича и тут, в казалось бы заживо похороненной повести, отыскала единственно верную возможность для ее воскресения.
Кроме руководства секцией прозы Далецкий имел немало других общественных нагрузок – в частности, он являлся членом редакционного совета Ленинградского отделения издательства «Советский писатель».
Однажды в Доме писателя имени Маяковского была устроена встреча Нового года. Поднимаюсь я по мраморной лестнице, а у дверей в концертный зал стоит улыбчивый Павел Леонидович, поглядывает на меня сквозь очки лукаво, даже озорновато, да вдруг и оповещает:
– А я, знаете, по примеру Деда Мороза вам подарочек новогодний приготовил.
– Какой подарочек, Павел Леонидович?
– Прочитал в издательстве вашу рукопись и в целом одобрил ее. Советую новую книгу озаглавить «Есть на Балтике остров» – по названию одной из повестей.
Да, умел Павел Леонидович порадоваться за книги собратьев по перу. Умел! Во многих писателях остался отсвет его взыскательной доброты. И невольно думается: без нее, без этой доброты, едва ли вообще возможно нарастающее движение литературы.
…Последним произведением Павла Далецкого, если не ошибаюсь, была очерковая книга о старейшем главном лесничем Сиверского опытно-показательного хозяйства Книзе. Я тоже знал этого великого природолюба – восьмидесятилетнего крепыша с рыжими усищами под наплывом большого носа, с хрипловатым «прокуренным» голосом, с мудрым взглядом из-под навесистых бровей – быстрым, как молния, взглядом.
При встрече с Павлом Леонидовичем на трамвайной остановке у нашего дома (писатель уже ходил с сучковатой палкой-тростью!) я, вспомнив о Книзе, недавно скончавшемся, сказал:
– Как хорошо, что вы успели написать о нем, и так душевно, поэтично!
– А разве можно было без души написать об этом славном лесничем! – подхватил Далецкий. – Если он сам всю душу без остатка отдал русскому лесу. – И прибавил, помолчав, перекинув трость-палку из руки в руку: – Все наши книги должны быть достойны работящих советских людей.
Сам истовый труженик, Павел Леонидович хорошо знал цену созидательной, животворящей силе, имя которой – Труд.
1966








