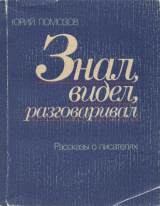
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
МИТРОФАН ОПРЯ – ЛИТЕРАТОР, ПОДПОЛЬЩИК
I
Я приехал в Молдавию впервые…
Солнечный изобильный край, отягощенный виноградными лозами, истаивающий не только в мареве Буджакской степи, но и в жарком золотистом полыхании подсолнечников и дынь, высеребренный Днестром и Реутом, пышно зеленеющий своими волнистыми кодрами, сливающий водопадный гул Дубоссарской гидроэлектростанции с удалыми дойнами народной песенной души, – этот благодатный и счастливый край нельзя было не полюбить с первого взгляда.
Во время своего плавания на теплоходе вверх по Днестру, от Бендер до Григориополя, я был настроен на восприятие одних радужных картин. В моей душе под перезвон речных волн складывался гимн молдавской земле…
При мне были карта Молдавии и книга туристских маршрутов по ней. Я почти безошибочно определял по пути селения: Телица, Спея, Шерпены, Ташлык…
Село Ташлык особенно поразило меня своей живописностью. Вдруг, представьте, левый нагорный берег в сплошной зелени раздергивается, как театральный занавес, и в углублении распадка видны уже отдаленные взгорья со ступенчатыми крышами частых домов, с белеющей над ними церковью.
Чем же примечательно это село?.. Я стал торопливо перелистывать книгу туристских маршрутов, пока не наткнулся на фразу:
«В селе Ташлык родился один из основателей молдавской советской литературы Митрофан Опря, впоследствии замученный фашистскими захватчиками».
Признаюсь, никогда прежде я не слышал о Митрофане Опре, и мне захотелось искупить свое незнание.
II
Я сошел в селе Ташлык.
Жара. Безветрие. Небо не то вылиняло на солнце, не то истекло синевой прямо на землю – все стены домов были подкрашены синькой.
При переходе через овраг повстречался мне рабочий здешнего совхоза «Прогресс». Звали его Иордановым. Он вывел меня на улицу имени Митрофана Опри, показал, где тот родился.
Дом был каменный, обмазанный глиной и чистенько выбеленный, но не жилой, предназначенный к продаже. Неподалеку от бетонного крыльца торчал мощный пень от срубленной акации, с молодыми отпрысками-побегами. Я подумал, что в детстве Митрофан, наверно, любовался этим деревом, обнимал его ствол, как верного друга, или с обезьяньей ловкостью забирался на ажурную вершину, – и мне стало грустно от запустения во дворе, в саду, где рос мелкий дикий виноград, и обидно за родичей, которые, продавая дом, тем самым невольно стирают дорогую память о Митрофане Опре.
– Хотя бы мемориальную доску повесили, – пожаловался я Иорданову, худенькому, кроткому человеку, и он тотчас же закивал:
– Правда, правда! Не мешало бы… А то вот и экскурсий уже нет, и школьников в пионеры не принимают около дома, как раньше…
– Но еще лучше было бы, – предложил я, – если бы ваш совхоз приобрел дом да музей устроил!
– И это правда, правда, – кивал Иорданов. – Негоже забывать героя, подпольщика.
Взволнованный, я стал расспрашивать о родственниках Опри в Ташлыке. Оказалось, здесь живет лишь племянница Лиза, остальные разъехались кто куда. Однако и эта весточка окрыляла. Я попросил Иорданова познакомить меня с Лизой.
Лиза (по мужу – Зидрашка) работала заведующей поселкового ателье. Она очень обрадовалась моей заинтересованности судьбой Опри, но тут же призналась, что знает о дяде только понаслышке от родственников. Тогда я повел самые настойчивые расспросы: где они теперь проживают, как их быстрее разыскать? И вот что узналось: Александра Алексеевна, жена Опри, и сын его Юрий живут неподалеку, в Григориополе, дочь Лариса – в Бельцах, родной брат, Степан Опря, – в Дубоссарах, а жена двоюродного брата, Мария Григорьевна Томак, – в Кишиневе. Кроме того, Лиза сообщила о друге детства и молодости своего дяди – Анне Ивановне Печу, учительнице, проживающей тут же, в Ташлыке, и вызвалась проводить меня к ней…
Так я нащупал драгоценные путеводные нити. Мне захотелось повидать всех родных и близких Митрофана Опри, чтобы и самому многое узнать о нем, и для других сберечь его образ от покушений безжалостного времени.
Начались долгие поездки чуть ли не по всей Молдавии, упрямые поиски современников Митрофана Опри, беседы с ними, хотя немало было и огорчений, если не удавалось повидать нужного собеседника. И все же настойчивость моя побеждала. Я не раз замечал, что время, способное в прах перетирать камни, вдруг становится бессильным перед живучей и говорящей людской памятью.
III
А. И. П е ч у. Родился Митрофан Филиппович Опря в 1912 году в селе Ташлык, здесь же учился в средней школе, стал комсомольцем. Боролся с кулаками. Однажды возвращался из клуба и услышал выстрелы, свист пуль. Стреляли по нему. Если бы не прыгнул за забор – конец… При падении повредил левый глаз, да так, что перестал им видеть. Пришлось носить темные очки.
Литературу любил, обладал талантом лингвиста. За короткую жизнь успел изучить одиннадцать языков. В Тирасполе окончил педагогический институт. Работал директором Ташлыкской школы. Молодой, строгий, красивый. Волосы всегда зачесаны набок. И вдруг влюбился в ученицу Шурочку Дубиневич, мою подругу. Шустрая она была, Завлекательная. Когда поженились, ей было всего семнадцать лет, ему же – двадцать пять.
Жить молодые переехали в Тирасполь, ютились в одной комнатенке. Митрофан Опря поступил в Институт усовершенствования учителей. Преподавал и одновременно сотрудничал в газете «Советская Молдавия». Писал учебники, стихи, повести. Вел литературный кружок при издательстве. На все его хватало!
Я часто проведывала свою подругу, благо сама училась здесь же, в Тирасполе. Шурочка при встречах жаловалась мне на замкнутую жизнь: дескать, Митрофан не любит шумные застолья, всегда сосредоточен в себе, подолгу гуляет в одиночестве, особенно зимой, когда снег приятно поскрипывает под ногами… А впрочем, скоро и Шурочке стало не до компаний: родилась дочь Лариса, потом появился на свет сын Юрий…
А. А. О п р я. Он был хороший муж и добрый семьянин. Не пил, не курил. Детишек очень любил и, когда я уходила в гости или в театр, заботливо нянчил их. А если ребятишки допоздна не могли утихомириться, он применял испытанный прием: дул им в лицо, пока не закроют глазки, не заснут. Сам же сразу садился за письменный стол и работал, работал всю ночь за ширмой, при свете торшера. Даже не слышал моего позднего возвращения.
Во время образования Молдавской ССР муж как переводчик ездил с правительственной делегацией в Москву. Оттуда привез детям много игрушек и две шубки. То-то было радости!
Я души не чаяла в своем Митроше, но и побаивалась его: а вдруг если и не словом, так взглядом укорит меня? Ведь молодая была, взбалмошная, с кровью неперебродившей. Но он до тонкости понимал мою душу. Лишь однажды покачал осуждающе головой. Это случилось, когда я тайком отвела в церковь детей для крещения, а он, непримиримый атеист, все узнал…
М. Г. Т о м а к. В 1940 году, после освобождения Бессарабии, семья Митрофана Опри, его двоюродный брат, мой муж, – все мы переехали в Кишинев и поселились в одной квартире, на бывшей Михайловской улице.
Митрофану Филипповичу предложили редакторскую работу в издательстве «Советская Молдавия». Но стал он не просто редактором, а и общественным деятелем, организатором литературных сил молодой советской республики. Мы его редко видели дома.
Какое это было бурное и противоречивое время! Новая власть только утверждалась на освобожденной земле. В Кишиневе появилось много крестьян. В выворотках из сыромятной кожи, с бесаге – двумя сшитыми и перекинутыми через плечо торбами – они ходили по центральной, Александровской, улице, где им прежде не разрешалось появляться. И тут же проносились нарядные фаэтоны с богатеями, сверкали огни ресторанов. Почти в каждой подворотне спекулянты сбывали наворованное добро из-под полы. Предприимчивые торговцы прямо на улицах варили в котлах мамалыгу и втридорога продавали ее нахлынувшим голодным беднякам. На базаре можно было увидеть, как местный богатей бьет по лицу крестьянина, а тот – в ответ: «Не смей! Оставь старые привычки!»
По вечерам мой муж, бухгалтер Наркомата заготовок, и Митрофан Филиппович обменивались впечатлениями об увиденном. Муж волновался, негодовал: «Наши органы должны пресекать безобразия!» Митрофан обычно отвечал спокойно: «Это временное явление! Надо видеть главное – возрождение нашей нации».
Вскоре семья Опри переехала на другую квартиру. Случилось это, как сейчас помню, 8 ноября, при землетрясении. Подземный гул напоминал рокот бомбардировщиков. Может быть, поэтому и сказал Митрофан Филиппович, прощаясь: «Не дадут нам пожить спокойно. Быть войне».
Из молдавской энциклопедии.
Литературную деятельность М. Ф. Опря начал в 1932 году. Писал повести, делал переводы, обрабатывал сказки (сборник «Народные молдавские сказки», 1940 г.). Был учителем молодых писателей. Наиболее известны его повести «Галоша», «Константин Бэдрэгану», «Радость». В них отражена новая реальность советской жизни в Молдавии, рост социалистического сознания в людях.
Л а р и с а Б а д и у. После войны я училась в Кишиневском педагогическом институте имени Крянгэ. Вместе со мной занимались Телеукэ, Виеру и Водэ – нынешние известные молдавские писатели… Но разговор сейчас не об этом.
Однажды ко мне подошел Галицкий, преподаватель, психолог, и сказал: «Я долго приглядывался к вам. Вы очень похожи на Митрофана Опрю». Мне оставалось только признаться, что я его дочь. Тогда Галицкий воскликнул: «Я был другом вашей семьи! Мы часто встречались с Митрофаном Филипповичем и в Тирасполе, и в Кишиневе. Я любил его за открытый характер. Да и ходил он, помню, носками врозь, что опять-таки свидетельствовало о его природной открытости, душевности и всегдашней расположенности к людям».
Далее Галицкий рассказал о первых днях войны, о бомбежках Кишинева. Он предложил моему отцу эвакуироваться на восток, тем более что к строевой службе тот был непригоден. На это отец ответил якобы шутливо: «Не переношу ни быстрой ходьбы, ни быстрой езды и, значит, все равно не сумею далеко уехать».
Но тогда никто, даже психолог Галицкий, не знал, да и предположить не мог, что мой отец, коммунист, знаток многих языков, в том числе немецкого и румынского, получил задание остаться на оккупированной молдавской земле для поддержки постоянной связи с подпольщиками.
А. И. П е ч у. Потянулись дни фашистской оккупации. В Кишиневе Митрофану Опре стало опасно жить: много немцев, постоянные облавы. Тогда он с семьей перебрался в родное село. Здесь стояли румыны. Они хотели, чтобы Опря преподавал в школе, учил ребятишек румынскому языку. А он отказывался, сетовал на плохое зрение. И я, молодая учительница, тоже, из солидарности, всячески увиливала от занятий.
Жилось, конечно, трудно. Вместе с Митрофаном я ездила в Тирасполь продавать яйца. Однажды в Ташлык нагрянули немцы. Видать, кого-то разыскивали. Митрофан попросил у меня укрытия. Я привела его в свой дом и спрятала на чердаке. Он просидел там весь день, до сумерек. От нечего делать стал перебирать старые, запыленные учебники. Увлекся чтением «Органической химии». Тогда же надумал варить мыло из подсолнечного масла и соды. А мыло в ту пору было на вес золота! И глянь, скоро уже Шурочка бойко торговала на селе мылом.
Знание языков помогало Опре сходиться накоротке с румынами. Относились они к нему если не дружелюбно, то лояльно: на работу не гнали, как других. Особенно сошелся Митрофан с одним румыном… вернее, греком, бывшим агрономом. Поселился тот по соседству. Советской власти сочувствовал. Знал сочинения Ленина. Любил спорить и философствовать. Вообще был болтлив не в меру. А Митрофану только это и требовалось – он выуживал много военных сведений.
Я уже догадывалась, что Опря оставлен для подпольной работы. Не раз замечала, что приходят к нему какие-то незнакомые люди. Приходят якобы обменивать хлеб и разные вещицы на мыло. И еще замечала: как нагрянут немцы для облавы – Митрофана и след простыл… Жена, конечно, в тревоге. Ждет день, другой… А муж в каменистых щелях, по-нашему «рыпах», отсиживается. И никто о том не знает, кроме старшей его сестры Пелагеи Филипповны. Потому что лишь одной ей он доверял. Она и харчишки ему приносила в щели-каменюги, и одежонку потеплее, чтобы не простыл.
Вскоре, однако, немцы вовсе перестали доверять румынам, все чаще устраивали облавы в Ташлыке и ближних селах. Жить стало опасно, невыносимо. И Митрофан вместе с женой и детишками перебрался в Григориополь.
Е. В. З а х а р ч е н к о. От наших подпольщиков я знала, что Митрофан Опря будет жить в Григориополе. Мне поручили подыскать ему подходящую комнату где-нибудь на окраине. Но сам же Митрофан Филиппович воспротивился подобному решению. Он так рассудил: если новый человек поселится, предположим, рядом с жандармерией – это вызовет меньше подозрений и все там подумают, что за ним никаких грехов не водится, он ничего плохого не замышляет, коли у каждого на виду.
Подпольщики в конце концов согласились с такими доводами: опасно, но смело! И я подыскала семье Опри комнату, довольно большую, в каменном доме на улице Байдукова, неподалеку от здания сигуранцы[25]25
Сигуранца – тайная политическая полиция в боярской Румынии.
[Закрыть]. Вскоре подружилась и с самим Митрофаном Филипповичем, и с его женой. Часто приводила их детишек к себе домой, благо жила поблизости, и там они играли с моей маленькой дочуркой.
В Григориополе приезжий вел себя непринужденно, жил без всякой утайки. Охотно вступал в беседы с румынами на их же языке. А то присядет на какую-нибудь скамью и читает им, словно ученикам, разные божественные книги – недаром звался педагогом! А однажды зашла я к Митрофану Филипповичу, так он чайком потчует румынского священника и спорит с ним на религиозные темы.
Может, румыны из сигуранцы и догадывались кое о чем, да, видать, уважали Опрю за смелость. А он, чтобы подозрений было меньше, стал еще мыло варить, им промышлять. Ходил обычно с палочкой, согнувшись, и покашливал в платок, как больной-легочник. Сам же ко всему зорко приглядывался сквозь темные очки, заводил все новые знакомства среди румын. И вскоре подружился с самым нужным человеком – Валерием Копатеску, коммунистом. От него стал заполучать военные сведения и сообщать их подпольщикам через связного Ваню, проворного малого. Иногда, впрочем, к Опре являлся и кто-нибудь из подпольщиков. Пароль был всегда один: «Надо мыло». Но вместе с мылом Митрофан Филиппович передавал и написанные им листовки. Гордился, что они западают в людские замученные души, как светлые и бодрые стихи. Радовался, когда они пробуждали в народе крепкую веру в близкое освобождение.
И вдруг все рухнуло…
Началось все с того, что румыны узнали: Митрофан Опря – известный в прошлом писатель. Они стали уговаривать его сотрудничать в своих газетах, сулили ему виллу под Бухарестом. Опря обещал подумать, тянул время, а румыны наседали, пока наконец не смекнули: их же просто за нос водят! И стали выжидать удобного случая для расправы.
Такой случай вскоре представился. Митрофан Филиппович, словно предчувствуя что-то недоброе, уложил свои рукописи в шифоньер и понес его во двор, стал закапывать. А зима тогда, в конце сорок третьего, выдалась морозная, ветреная – земля плохо поддавалась, как ни долби, ни ковыряй ее ломом. Опря, разгоряченный, и выстудил свое здоровье на холоде, на ветрище. Едва до кровати добрался. Весь в поту, и температура высокая. До смерти напугал свою жену. Она побежала врача разыскивать. А какие в Григориополе врачи! Если и есть, то притаились… Так что Шурочка поневоле кинулась в военный лазарет. Ведь что бы там ни говорили, а румыны вроде бы неплохо относились к ее мужу. Про то же, что их отношение теперь изменилось, она не знала: муж не очень-то делился с ней своими тревогами-заботами. То ли оберегал жену от лишних волнений, то ли не доверял ей по молодости лет…
В лазарете Шурочку ожидало разочарование. Там оказался немецкий врач, только что приехавший из Кишинева. Он сам вызвался осмотреть больного. Вместе с врачом пришел и переводчик Шульц, который до войны жил в Григориополе и выдавал себя за убежденного советского человека, патриота.
При виде немцев Митрофан Филиппович сильно побледнел, шепнул жене:
– Что ты наделала, Шура?.. Это – конец.
Я находилась тут же, у постели больного, и все слышала. Сердце мое сжалось, кровь отхлынула от лица. Начала поглаживать руку Опри, успокаивать. Он же опять шепчет, только уже мне:
– Елена Васильевна, Шурочка еще молодая. Ей трудно придется… Будьте для моих детей второй матерью.
Я пообещала позаботиться о Ларисе и Юрочке, а у самой слезы на глазах…
Что было потом – лучше бы и не рассказывать! Будто сквозь туман видела, как немец-врач орудовал своим проклятым шприцем… И тогда же расслышала какой-то далекий-далекий голос Шульца:
– Теперь вы поправитесь… Все будет хорошо…
Но где же там «хорошо»! После укола у Митрофана Филипповича лицо исказилось. Он стал ногтями царапать обои и при этом привскакивал в постели, словно хотел на стенку кинуться.
Я уже навзрыд плакала. Шульц меня вытолкнул в коридор, а вскоре – и Шурочку, будто одеревеневшую, с мертвым лицом. Поэтому мы больше не видели, что вытворял немец-палач над несчастным Митрофаном Филипповичем! Когда же смогли вернуться спустя час-другой в комнату, заметили в миске с водой плавающие кусочки легких…
Сам Опря был уже в бреду, стонал, жаловался, что все его внутренности кровью заливает. Затем он немного притих и попросил подвести к нему детей. Лариса и Юрочка от страха жались друг к другу, плакали. Отец поцеловал их в последний раз…
Умер Митрофан Филиппович на моих руках. Весть о его смерти облетела весь Григориополь и ближние села. Все возмущались изощренным убийством молдавского писателя. Городские жители и крестьяне рекой стекались на улицу Байдукова. А румыны – те держались в стороне. Их явно врасплох застало это народное шествие. Они даже заключенных выпустили из сигуранцы на похороны, чтобы смягчить общий гнев. Не чинили препятствий и фотографу, когда тот снимал момент прощания с Митрофаном у гроба…
Один из тех давних снимков сохранился у Юрия Опри.
Ю р и й О п р я. Вот взгляните на снимок: это я стою у гроба, рядом со мной сестренка, а позади мать…
Мне тогда было лишь три года, но похороны помню. Отец лежит в открытом гробу. Падают снежинки. И я тогда все удивлялся: почему они тают на моем лице, а на отцовском – нет?..
Шифоньер с рукописями отца я потом не однажды разыскивал во дворе. Да ведь прошли десятилетия! Все могло сгнить, истлеть. И значит, уже навсегда утеряны произведения отца, которые он, по словам Елены Васильевны Захарченко, создавал и днями и ночами…
Книг отца у меня не сохранилось, а фотографий – раз, два и обчелся. Приезжал из Кишинева Федор Пономарь, поэт, и все семейные реликвии забрал для литературного музея.
Память о Митрофане Опре, конечно, чтят в нашей республике. Отмечалось его семидесятилетие. Были передачи по телевидению и радио. А вот книги отца переиздают редко. На могиле нет памятника…
Теперь – о доме в Ташлыке. Продавать его или устроить там музей – об этом нам, родственникам, надо крепко подумать. Однако и Союз писателей Молдавии должен все сделать для того, чтобы память о Митрофане Опре, литераторе и подпольщике, жила долго-долго.
1982
КАКИЕ ОНИ РАЗНЫЕ, КАКИЕ НЕПОВТОРИМЫЕ!
…Я живу в ялтинском Доме творчества. Я всегда вижу их вместе – Григоре Виеру, Ливиу Дамиана и Виктора Телеукэ, молдавских поэтов. Все трое начали печататься в пятидесятые годы, что дало критикам право называть их «пятидесятниками». И конечно, этот одновременный творческий «зачин» сближает поэтов. Но какие же они разные и внешне, и по внутреннему эмоциональному настрою! Сколько свежих красок жизни они положили на общее многоцветное полотно молдавской поэзии! Как широки взмахи их поэтических крыльев и дерзок, безграничен полет их глубоких, проникновенных мыслей!
ГРИГОРЕ ВИЕРУ
Григоре Виеру сразу поразил меня мягкой застенчивой улыбкой, в которой, впрочем, таилось что-то грустное, если не скорбное.
Запомнилось, как однажды он шел по парку, а сзади, в спину его, хлестал ветер с хмурого, без блеска, моря и заносил надо лбом черные волосы, развеивал их словно дым… Но вдруг порыв своенравного ветра ударил наотмашь по лицу, закинул волосы уже к затылку, и я будто впервые разглядел выпуклый ясный лоб, удлиненный и тонкий, твердым загибом нос, как бы вжатые под него узкие губы и крепкий, опять же удлиненный подбородок, в котором явно угадывался сгусток мужественной силы.
Этот внезапный прочерк лица Григоре Виеру невольно заставил меня вспомнить резко отчеканенный на музейной монете профиль какого-то молдавского господаря. И невольно подумалось, что в поэзии тоже существуют свои господари.
* * *
Разговорчивым Виеру не назовешь, и, наверно, именно поэтому он мягкой, умной улыбкой как бы искупает свое молчание. Зато стихи его обладают восхитительной способностью доверчиво и образно рассказывать о своем авторе. Вот, например, стихотворение «Анкета»:
– Ваша фамилия, имя, отчество?
– Я.
– Год рождения?
– Тот юный год, когда мать и отец полюбили друг друга.
– Профессия?
– Край свой люблю.
– Родители?
– Мать, одна только мать.
– Как зовут ее?
– Мама.
– Род занятий ее?
– Ожиданье.
– Был под судом?
– Несколько лет одиночного заключения в самом себе.
– Есть ли родственники за границей?
– Да, отец. Похоронен в чужой стране. В 1945-м.
* * *
Мы сидим с Виеру под цветущей сливой. Поэт, скрутив жгутом телеграмму, – печально, раздумчиво:
– Вызывают в Москву. Надо ехать с писательской делегацией в Болгарию. Но не могу… Весной меня язва донимает. Нужно подлечиться.
– И вдобавок работа в разгаре, – замечаю я сочувственно. – Как тут покинешь Ялту!
Он признается с застенчивой улыбкой:
– Люблю Ялту. Благодаря ей дважды встречаю весну: здесь и на родине. Это – как два порыва! Вернее, одно длящееся вдохновение.
Улыбка, милая, какая-то девичья в своей застенчивой нежности, еще не прерывается, но под ресницами уже отсветы глубоких и тайных душевных молний. И кажется мне: это вспышки вдохновения выжигают телесный недуг, не дают ему торжествовать над духом, который ведь тоже бывает уязвленным.
* * *
Все реже вижусь с Виеру, все скупее его речь при случайных встречах: захлестнула его упоительная и накатистая, как черноморская волна, работа.
Однажды в библиотеке Дома творчества я просматривал журнал «Детская литература», полностью посвященный молдавским поэтам и прозаикам, пишущим для детей. Оказалось, Григорий Павлович Виеру начал свой творческий путь как детский поэт. Вместе с литератором Спиридоном Вангели он создал букварь, по которому молдавские ребята учатся вот уже двенадцать лет. А для ребятишек помладше он сочинил стихотворный букварь под названием «Албинуца» («Пчелка»), где каждая буква подкреплена «улыбчивым» стишком – таким, например:
Щука проглотила щетку.
Щетка ей щекочет глотку.
«Удивительное дело!
Что же я за рыбку съела?»
* * *
Нет, я не буду больше тревожить Григоре Виеру своими расспросами. Благодаря журналу «Детская литература» его голос долетает до меня как бы издалека, наперекор времени, во всей первозданной чистоте и свежести.
Вот одно из признаний поэта об истоках его поэзии в беседе с журналисткой Ниной Жосу:
Еще ребенком в конце второй мировой войны я видел солнце, встававшее над скорбью и слезами миллионов матерей и детей. Солнце было похоже на отца, которого я ждал, но это был не отец.
В детстве мне случалось оставаться ночью одному. У меня есть старое стихотворение для малышей – «Песня маленькой улитки»: «Погасло доброе солнце, я ложусь, рассказываю себе сказки. Но ни одна из них не хороша. Тяжко одному дома!» Так вот знайте, что маленькая улитка – это я сам, тоже маленький. Я оставался ночью один, потому что мать с сестрой ездили на Буковину в поисках куска хлеба, и не смыкал глаз. Я разговаривал с иссохшей тенью абрикоса под окном, такой же одинокой, съежившейся в золотистом сиянии луны. Видимо, тогда я начал сочинять – от страха и одиночества.
* * *
Мне приходилось часто разговаривать с Ливиу Дамианом и Виктором Телеукэ о молдавских поэтах, вообще о поэзии, и они всегда уважительно вспоминали своего товарища-«пятидесятника».
Помню, на мой наивный, настойчивый вопрос: «Что такое поэзия?» – Дамиан ответил быстро, со счастливой готовностью:
– У Григоре Виеру есть такое определение: «Поэзия – это секрет мозга, выболтанный устами сердца».
Однажды вечером, при золотистом закате, мы гуляли с Телеукэ в парке и вели разговор о Виеру. Как вдруг мой собеседник, на вид грузноватый, медлительный, легко нагнулся и подхватил с бетонной дорожки бурый земляной комок.
– А вы знаете, Виеру мог бы высечь из этого комка грязи золотые искры поэзии! – воскликнул он. – Виеру – волшебник в поэзии. Но пока его плохо переводят. Особенно поражают его стихи о матери – в них словно бы звучит вселенская скорбь сыновей. Эти стихи общечеловечны, они проникают в душу каждого. Я даже думаю, что в мировой поэзии нет столько стихов о матери, как у одного нашего Виеру.
* * *
Из беседы Нины Жосу с Григоре Виеру:
Жосу. Должно ли стихотворение быть красивым?
Виеру. Стихотворение должно быть насыщенным. Если оно насыщено, оно и прекрасно. Что это значит? Расскажу один жизненный факт, связанный с поэзией. В прошлом году я лечился в санатории «Бакурия». Моей соседкой по столу была простая деревенская женщина. Я заметил, что каждый раз она садится только на краешек стула, словно занимает чужое место. Даже ложку ко рту она подносила с благоговейной робостью. У нее был прекрасный аппетит, но она непременно оставляла что-нибудь в тарелке, чтобы никто не мог сказать, что она ест слишком много.
В хорошем стихотворении обязательно есть что-то от робости этой женщины. Настоящие стихи не лезут человеку в душу, а скромно усаживаются на краешке.
* * *
Под длинными ресницами Григоре Виеру словно бы застоялась печаль, и ее бессильна вспугнуть улыбка.
Только что прочитал в журнале «Кодры» его стихотворение – скорбную песню осиротелого сына, разгадку постоянной печали поэта:
Под звездой вода струится
Вместе с горькими слезами.
По твоим тоскую взглядам,
По тебе тоскую, мама.
Обхватив деревья, ветер
Листья с них трясет упрямо.
По твоим рукам тоскую,
По тебе тоскую, мама.
Лев зимы с метельной гривой,
Пасть разинута, как яма.
По словам, простым и теплым,
По тебе тоскую, мама…
* * *
Жосу. Чем отличается душевное состояние в момент, когда вы пишете стихи для детей, от мгновений, когда вы создаете другие стихи – для взрослых?
Виеру. Писать для взрослых – это, в моем случае, все равно что распахивать в зной пересохшую землю. Детская поэзия – это чистый дождь, омывающий меня от будничного праха, очищающий и укрепляющий меня перед пахотой.
Жосу. Что вам больше всего нравится в сегодняшнем человеке?
Виеру. В первую очередь, его стремление к миру, его желание приблизиться к другим мирам, сначала земным, потом небесным.
Жосу. Что вас неприятно поражает в нем?
Виеру. Несоответствие между избыточной спешкой в общественной жизни и косной неподвижностью дома.
Жосу. В последнее время вы опубликовали несколько циклов стихов для детей, сопровождаемых вашей же музыкой. Что побудило вас писать музыку?
Виеру. Мне хочется прибавить песню к моему переживанию. Этот новый источник, к которому я припадаю, очищает мою душу. Мелодии приходят сами, почти без спросу, легко, как свет дня, вместе со стихами. В последнее время в моей неделе не семь дней, а семь песен.
Жосу. Что значит для вас как для поэта – расти? К чему вы стремитесь в поэзии?
Виеру. Расти – значит честно и с честью начать, а потом всю жизнь заботиться о том, чтобы не уронить себя, не унизить свое начало. Расти – значит быть талантливым, научиться владеть своим талантом. Расти – значит не позволить умереть в себе ребенку. Мы должны оставить этому ребенку красное яблоко сердца – оно принадлежит ему.
* * *
Прочитал цикл новых стихотворений Григоре Виеру в журнале «Кодры».
Какая дерзость сравнений и пылкость метафор, соединенных со смелостью замысла! В стихотворении «Вол» поэт вроде бы очень рискованно сравнивает нашу планету… с волом-страстотерпцем, но вскоре уясняется глобальная поэтическая мысль: земной шар «изъязвлен, ободран, гол», он прошел сотни боен так же, как проходит все муки вол, – через нежность и боль. Отсюда – трогательно-горькое, едва ли не сквозь слезы, обращение к земному шару-страстотерпцу: «Кроткий вол мой, вечный вол!»
Вообще в своих стихах поэт наполнен всечасной тревогой за судьбы мира:
Стоят вонзенные в землю мечи и сабли —
словно иголки в подушке.
Что будем латать, человече?
Редкую зелень лета?
Ветхую белизну зимы?
Ох как прохудились обе эти рубахи!
Что будем латать —
землю, истерзанную наводнением,
разодранную землетрясением?
Прорехи души?..
…Стоят вонзенные в землю мечи и сабли.
Почти не осталось места для пера и поэта.
А поэт, по понятиям Григоре Виеру, – вместилище всех скорбей и радостей земных. Ведь «в нем так загадочно трибун соединен с аскетом», и он, отнюдь не будучи святым, верует во все святое. Для него родина – это «выйти утром из дому, пройти босиком по траве, обуваясь в зеленую росу». И ему же, наедине с одной-единственной женщиной, подвластно «разглядеть спрятанную в бесконечность ночи ее ресниц прозрачную капельку соловья»…
Да, Григоре Виеру как поэт немыслим без метафоричности. Сравнения его всегда неожиданны и неиссякаемы, как сама жизнь. Может быть, поэтому и его хочется сравнить… с виноградной лозой, открытой всем земным ветрам, чутко отзывчивой на ливни и грозы, на нежное прикосновение заботливых женских рук и одаривающей людей радостью своего обильного цветения и щедростью плодов.
ЛИВИУ ДАМИАН
Он весь какой-то основательный, прочный, мой новый знакомец – Ливиу Степанович Дамиан.
На его лице, суровом и угловатом, на сильных руках – серый какой-то загар, а вернее, землистый оттенок, словно в поры кожи забилась пыль с вздыбленных весенних пашен.
Да он и впрямь от земли! Он – сын пахаря и сам пахарь на поэтической ниве. Характерны названия его поэм: «Хлеб», «Колос в сердце». В них Ливиу Дамиан напоминает сурово: идет испытание не только на голод, но и на сытость, когда многие стали хлебом разбрасываться… И накаленный гневом поэт как «горячие хлебы» выкладывает свои строки на страницы «из жаркой печи своего языка». Он в укор пресыщенным вспоминает давнюю пору:
К нам приходил за милостыней нищий старик
с бородою белой, как лен,
в солнце по пояс,
с голубыми неземными глазами,
в разноцветных лохмотьях, как расцветающий куст,
с потемневшей от времени кизиловой клюкой,
во всякое время босой,
с выгоревшей котомкой
и старой плетеной корзиной.
* * *
Вечер. Сырые тучи спустились на плечи гор. Морось, туман.








