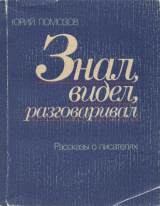
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
IV
Тогда, при первой встрече, я еще не знал, что обретаю надежного друга-советчика, а между тем так оно и оказалось.
Вернувшись в Ленинград после хождений по Волге, я послал Василию Андриановичу свою книгу «Верхневолжье» – с надеждой на отклик. И не обманулся в своих ожиданиях. В конце августа того же 1964 года, то есть спустя два месяца после нашей встречи, он прислал мне письмо, точнее – бандероль с письмом, перепечатанным на машинке, имеющим тридцать две страницы довольно плотного текста, с дружески строгим и скрупулезно-тщательным разбором малейших моих промахов-изъянов.
Правда, в начале письма Василий Андрианович посетовал на некоторую неестественность в наших взаимоотношениях: «Как писатель Вы старше меня: ведь я все еще «начинающий», а Вы вон сколько книг уже наиздали! Так мне ли, начинающему, оценивать многоопытного?» Но затем, как бы вдруг припомнив свою двадцатилетнюю преподавательскую деятельность в вузах, сделав мне признание, что «привычка учить-поучать, назидать-наставлять въелась в обычай», Василий Андрианович решительно заострял критическое копье.
Лучшие Ваши творины, – писал он, – занимают по объему чуть меньше половины книги, по значимости да по весу составляют 99,9 процента ее. Не будь этой лучшей половины, я вынужден был бы усомниться в пользе Ваших приемов изучать жизнь с пешеходных «стопинок». Между прочим, и я тоже люблю ходить пешком или ездить четвертым классом на простецких пароходах. Я бы с радостью оделся бы поплоше и отправился бы вместе с Вами в какой-нибудь поход… Вот было бы приятное странствие! Но должен Вам сказать, что «уловить и задержать бег времени» невозможно ни с пешеходной тропинки, ни с пароходной палубы, ни с поезда, ни с самолета. При таких-то обстоятельствах никакому, даже самому «медленному пристальному взгляду» время неподвластно. Однако время подвластно тому, кто творит жизнь в жизни и во имя жизни. Такой творец может остановить время – и не только ради того, чтоб воскликнуть по-фаустовски: «Мгновенье, остановись: ты прекрасно!» – и вслед за воскликом умереть. Нет, не ради смерти творец способен совершить это чудо, а ради того, чтобы остановленное время воплотить в бессмертное творение. Наверное, потому-то я и взнуздал свою страсть ко всяческим странствиям, укротил ее и закрепил себя на долгие годы в колхозе. Здесь теперь творится главная жизнь, в гуще жизни и ради жизни. Здесь, а не на стопинках моя самая надежная, самая твердая, самая устойчивая постать, с которой всего вернее задержать «бег времени» и творить вечное.
Далее начинался наиподробнейший разбор изъянов в отдельных моих рассказах, причем критическое копье очень глубоко ранило мое самолюбие. Подчас вскипала обида за мелочную придирчивость, за насмешливо-едкие нотки в суждениях, а иногда и за «рубку сплеча». Но в конце концов самолюбивая боль укрощалась при одной только мысли: «Да ведь я же благодарить должен, что многозанятый Старостин посвятил моей книге целый критический труд!»
К тому же кроме разобранных рассказов В. А. Старостин делал весьма интересные, очень смелые, хотя и спорные во многом, отступления. Не могу не привести такой, например, отрывок из письма:
Русский народный словострой (грамматика) живет творением слов, в н е м слово слово родит, третье само бежит. Книжная наша грамматика требует з а п о м и н а н и я слов. И это пришло к нам из-за границы. Француз, китаец и др. мыслят запоминанием слов, русские – с л о в о т в о р ч е с т в о м. Потому-то так необъятен русский словарь. Необъятен он, и нет ему равных во всей вселенной. А мы эту необъятину в книгах сузили до самой тесной узины́ и корчимся в ней, изнываем от скудословья и волей-неволей затаскиваем, замурзываем неисчислимыми повторами наши слова и обороты.
Русский народный речестрой (синтаксис) тоже отличен от книжного, литературного. Книжники свои предложения строят на основе чуть ли не обязательного причастного или деепричастного оборота. Наша проза от старого Пушкина до нынешнего Шолохова бедственно отяжелена причастиями и деепричастиями. А народ наш причастных оборотов не признает, ими н и к о г д а не пользуется и только очень осмотрительно прибегает иногда к деепричастиям, однако по-своему, по-народному. Вот так, как в былине говорят Алеше Поповичу, который неудачно попытался жениться на жене Добрыни: «Здравствуй женимшись, да не с кем спать!» Или вот пословица: «Бившись с коровой, да не молочко!» Это все какое-то редкостное, необычное, но очень русское употребление деепричастий. А вообще-то деепричастий в ходу у нашего народа очень мало.
Вот еще одно любопытное высказывание-признание В. А. Старостина:
Владимир Даль очень хорошо, отлично понимал, что литературный книжный язык – не народный, сухой, бледный язык. Он на основе своего исполинского собирательного труда по народной речи попытался дать о б р а з ц ы будущей русской речи. Но его попытка неудачна. При всем своем великом труде, при всем своем неоценимом подвиге, Даль не смог оторваться от к н и ж н о й речи, от литературного обычая. Более того, он не сумел возвыситься ни над Пушкиным, ни над Гоголем – его слог тяжелее, обороты грубее, речь тяжеловеснее, хотя Пушкин и восхищался ею. Что же загубило Даля? Помесь народных слов, пословиц с громоздкими причастными и деепричастными построениями и церковнославянскими словами. Не схватил духа русского языка народного Владимир Даль, не дал образца истинной русской речи. И тем оказал медвежью услугу будущим попыткам овладеть народной речью. Кстати, меня избивали… Далем, говорили: «Вот Даль, смотри, не хуже тебя, а не вышло у него ничего. Куда же ты со свиным рылом в калашный ряд лезешь?
В самом конце письма Василий Андрианович вопрошал меня:
Почему бы Вам полностью не перейти на народный язык в Вашей авторской речи? Или смелости не хватает? А ведь только тут Вы себя найдете, только тут Вы создадите великое. Иначе быть Вам заурядным!
И тут же он, искренне заботясь о моей литературной судьбе, предлагал свою помощь в овладении народным стихом, хотя и замечал поучающе:
Но всем объемом народной речи Вы не овладеете, если не возьметесь за Даля, за его словарь и пословицы, если не возьметесь за Гильфердинга и Афанасьева, за Рыбникова и Соболевского. Люди эти сами народной речью не владели, но великое дело совершили по собиранию и сохранению народной речи. Сколько бы Вы ни ходили, куда бы Вы ни ездили, Вы не овладеете всем богатством русского народного слова, пока не обратитесь к этим собраниям…
V
Я стал довольно часто получать письма от В. А. Старостина, и было у меня такое ощущение, что наш разговор, начатый в деревеньке Сергеево, длится вперекор тысячеверстному расстоянию.
«Как у Вас с нынешним урожаем?» – вопрошал я в письме.
Засушливый июнь да июль сильно подорвал урожай. Однако наш колхоз и нынче, в засуху, без хлеба не остался. Так что даже и в засушливую пору наши старания и борьба за минеральные удобрения не пропали даром. Тут наша «Победа над камнем» обратилась в победу над засухой!
«А как Ваши литературные дела? Есть ли сдвиги с книгой «богатырских былин» об Илье Муромце?»
Редакторша из издательства «Советская Россия» так измывается на моим «Ильей», так его выхолащивает, что, наверно, скоро останутся от него одни потроха. Уже шесть рецензий было. И вот опять я должен все переработать. А уже и рисунки сделаны Шемаровым, художником из Палеха, и все подготовлено к набору. Но редакторша никак не решится подписать рукопись к печати. Знай свое твердит: «Учтите наши замечания! Не сопротивляйтесь!»
«Удалось ли Вам, Василий Андрианович, написать что-нибудь новенькое?»
Написал «Сказанье о Славе и славянах, или Ярилины внуки». Борис Шергин с восторгом прослушал сказ; он даже признался, что завидует моему стилю. Я таким шергинским признанием потихоньку горжусь, помаленьку радуюсь, а Шергина жалею, что мало он пишет по старости своей.
«Очень я рад, Василий Андрианович, Вашим успехам на колхозной ниве и литературном поприще».
Не знаю, удалось ли мне, пусть хоть не как Краснояру, не в младенческом, а в перезрелом возрасте, по-вернуть к себе суровую богиню Судьбину доброй стороной, однако поворот этот в какой-то мере я совершил. Десять лет назад Детгиз отказался издавать моего «Коловрата», а теперь переиздает. Я за него уже и деньги получил. Мало того, мне от Детгиза поступил заказ на книгу о земле; первой главой в этой книге и будет мое сказание о Славе и славянах. Есть и еще заказ – дать цикл былин о Добрыне. От издательства «Советская Россия», кроме того, что там «Илья Муромец» пусть в урезанном виде, но выйдет, имею предложение участвовать в сборнике легенд и сказаний, который составляет Нечаев. Словом, предложений печататься мне сыплется больше, чем я успею сделать, поскольку г л а в н о е время трачу на колхоз.
«Что-то вы долгонько молчали, Василий Андрианович. Уж не прихворнули ли, хотя болеть Вам, богатырю, вроде бы и не пристало?..»
Задержался ответить Вам: три недели не был дома – в Москве ходил по издательствам и газетным делам да в Омск ездил… сейчас сижу над статьей для газеты «Советская Россия». Если там не дадут заднего ходу, то появится моя большая статья о н а р о д н о й о с н о в е р у с с к о г о я з ы к а. А в Верхневолжском издательстве уже принята к печати статья «Русь моя родина! Русский язык» и еще статья, в которой я даю краткое изложение своей науки о народном стихе. В том же издательстве включена в план издания моя 23-листная книга «Русь богатырская».
«Хотел бы я поделиться с Вами, Василий Андрианович, своей задумкой насчет новой книги о Волге. Вознамерился я написать «перекрестное» повествование от лица двух лиц – путешественника наших дней и некоего господина Н., совершающего свое плавание по Волге, предположим, в 1879 году…»
Вашу задумку дополнить свои работы о Волге XIX веком приветствую. Этого исторического разреза как раз и не хватало в Вашем «Верхневолжье». Однако я должен заметить, что XIX век так напичкан «господином Н.», что едва ли Ваш прибавит что-нибудь значительное в литературу. Об этом господине писали очевидцы, при этом великие писатели России и мира, – так сто́ит ли Вам соперничать с ними? Да и к чему Вам обязательно г о с п о д и н? Возьмите бурлака волжского, того, про которого пословица была: «Собака, не тронь бурлака: бурлак сам собака!» Он для Вас сподручнее будет. И пусть он займет в Вашей книге примерно половину объема и говорит от своего имени, своим бурлацким языком. Во второй половине книги пусть больше говорят простые русские люди, своим простым народным языком. Ну а если Вы еще не решаетесь слиться в своей авторской речи полностью с народной речью, то прибегайте к ней пореже, чтобы книга Ваша была без налета «книжности» либо с незначительным «книжным» вторжением. И помните: бурлак Ваш должен знать русские сказки, сказания, пословицы, песни и даже историю – через те же песни и сказания. Вот тогда не один XIX век появится у Вас, а все века.
«Когда же, Василий Андрианович, Вы все-таки наведаетесь в Ленинград?»
В марте я приеду на химкомбинат за суперфосфатом и надеюсь с Вами встретиться.
VI
Еще до приезда В. А. Старостина в Ленинград мы договорились, что он вышлет мне свои сказания из подготовленной к печати «Руси богатырской», отрывки из повести «Победа над камнем», а я отнесу рукописи в журналы «Нева» и «Звезда» и покажу их сотрудникам редакции, своим знакомым.
Спустя примерно полмесяца после присылки рукописей и Василий Андрианович приехал в Ленинград. Случилось это в середине марта 1965 года. Открыл я дверь – и увидел своего знакомца, дорогого гостя, в берете, с тающими снежинками в бороде, с галстуком-бабочкой, который просвечивал сквозь нее, и поразился всей его бесстрашной распахнутости перед мозглой ленинградской весной, румяному глянцу на плотных щеках, веселой озорноватой прищурке глаз, всему этому здоровому и гладкому, без единой, кажется, морщинки, лицу; поразился еще и потому, что уже знал, какова она, доля председательская, и как тяжела взваленная на плечи литературная ноша. Но, помнится, тогда же и мысль мелькнула: «Да ведь он же о богатырях пишет! Он сам, видать, подзанял у них богатырскую силушку, и все ему по плечу!»
– Ну как, Василий Андрианович, – спрашиваю, – раздобыли суперфосфат для колхоза?
А Старостин отвечает шуточкой-прибауточкой:
– Мальчик-с-пальчик схватил коробицу, побежал по водицу. Он хоть мал-не-дорос, а воды принес, он мутовку сломил, он квашонку сдолбил, он дров наколол, он муки намолол, он печь натопил, он каши сварил! Вот ему кашка, вот ему бражка, вот ему пивцо, вот ему винцо!
– И вдобавок суперфосфат! – засмеялся я. – Значит, мальчик-с-пальчик сладил дело.
– И весьма умело! – подхватил Василий Андрианович. – Приехал на химкомбинат, представился как колхозный председатель, а сам тут же директору и его секретарше вручил свои книжки, всех ошеломил и очаровал, и дело завертелось, пошло на лад, так что и они, и я рад.
Я предложил гостю раздеться, обсушиться, чайку попить, но он взбил свою мокрую бороду, расчесал ее надвое и молвил непререкаемо:
– Делу время, потехе час. Начнем-ка свои хождения по издательским мукам.
Никакие уговоры не помогли, и пришлось мне стать поводырем Старостина в этих хождениях…
Начали мы с журнала «Звезда». Там Василия Андриановича приветливо-почтительно встретил заведующий отделом прозы А. Храшановский, человек вообще любезный, доброжелательный, но в суждениях о литературе предельно откровенный, даже резковатый подчас. Он положил перед собой «Сказанье о Славе и славянах, или Ярилины внуки», провел по рукописи сухой и плоской, как дощечка, ладонью, прочел медленно, старательно:
– Было, не было это быванье? Да ин было – у зари Заряницы народилося два любимых чада, два сыночка, две малые кровиночки. Мати радостна, очи лучисты. И как мир расцветает под ясным заряницыным светлым взором, расцвести бы и малым дитенкам. Лучезарная Заряница ин в сынах своих возлелеет разум истинный, добрые души. А к тому и все мечты-устремленья. Ано есть в мире властная Судьбина. Неотвратна роковая Судьбина: все несет в себе, и власть, и силу, и все будущее в дланях своих держит.
Храшановский умолк, пошевелил губами, как бы по инерции, затем, взяв со стола верстку, видимо, очередного номера, снова стал читать, но уже скороговоркой, с явным облегчением:
– Черепков вышел в коридор, остановился у окна. На улице в густом сумраке видны белые с оранжевой каймой пятна фонарей. На тротуарах прохожие гнулись навстречу ветру, прятали голову в воротник – зима в Норильске дышала ледяным мраком.
Снова обрывистое молчание, шевеление губ – и вдруг резкий вопросительный взгляд на Старостина.
– Все ясно! – усмехается тот. – Несоответствие стилей!.. Сказанье, так сказать, не в духе времени и вашего журнала!
Спокойный, с прежним гладким здоровым румянцем на щеках, он берет рукопись и, простившись, легко несет свое большое тело к дверям…
На улице, среди снежной кутерьмы, он говорит мне со сдержанной печалью:
– В этом отвергнутом сказанье языковой стиль мой выражен полностью. Советские идеи о славе, о хлебе, о борьбе добра со злом я, правда, одел в языческую сказочную одежду, и потому они могут показаться отсутствующими!..
Приехали на Невский, заходим в редакцию «Невы», в кабинет заведующего отделом публицистики Арифа Сапарова, и тот заявляет Старостину с грубовато-армейской прямотой:
– Много я был наслышан о вас, Василий Андрианович, о вашем председательстве, и много, признаться, ожидал от ваших очерков. Но не порадовали вы настоящей правдой жизни, да и переборщили стилизацией под древнерусский язык. Пишите просто, по-человечески!
…Обратно на Петроградскую мы возвращались пешком. Волглой сыростью несло с Финского залива; снег сменился дождем… По дороге я, как мог, утешал Василия Андриановича, но он, по-видимому, не нуждался в соболезновании – вышагивал спокойна, основательно, приговаривал в ответ с умной улыбочкой хитреца-мудреца:
– Да, радетель мой дорогой, не завеснилась моя весна в Ленинграде, не тронулся для меня ледоход на Неве. Но уступать никому ни помыслом не помыслю, ни желаньем не пожелаю!
VII
В 1967 году в издательстве «Советская Россия» наконец-то вышла книга В. А. Старостина «Илья Муромец. Богатырские былины».
На ее выход я откликнулся в еженедельнике «Литературная Россия» рецензией:
Книгу Василия Старостина держишь, как хрупкую изящную шкатулку, облитую лаковой чернью, мастеровито расписанную трепетно-тонкой, уверенной кистью художника из Палеха Михаила Шемарова. Но эта «шкатулка» наполнена до краев бесценной росписью сверкающих кипучих слов образной народной речи:
Кум в пляс идет – вся земля гудет,
На аршин под каблук прогибается.
Из-под ног от сапог – топоток-стукоток
Вырывается, рассыпается.
Тут и бабка Таланиха не выдержала,
На круг плясовой она повыскочила:
«Пошла плясать по соломушке,
Раздайся, народ, по сторонушке…
Уж как топну я – проломись, доска!
Проломись, доска, провались, тоска!»
Зная, как трудно утверждалось самобытное слово В. А. Старостина, я хотел обезопасить его книгу от возможных критических наскоков и поэтому в конце рецензии высказывал предположение:
Вероятно, какой-нибудь дотошный ревнитель незыблемой сохранности былин в их первородстве и отнесется к работе В. Старостина с предубеждением:
– Позвольте! А есть ли вообще нужда в подобных литературных вариантах фольклорных произведений? Былины прекрасны сами по себе. И менять в них что-либо предосудительно. Подавайте-ка нам лучше подлинные народные былины, без всяких переработок!
Оригинальная работа В. Старостина убеждающе спорит с таким застарело-примитивным пониманием народности произведений искусства. Сохраняя идейную сущность народных былин, автор оставил за собой право на отбор материала, на воссоздание средствами литературы всего того, что было утрачено в записях от живого исполнения сказителей.
Под пером Василия Старостина – и это главное достоинство его книги – народные былины каргопольского, вытегрского, заонежского склада – приобрели общерусское звучание.
Моя рецензия, а прежде всего, конечно, сама книга В. А. Старостина вызвали отклик у читателей. Один из них, молодой физик М. Смирнов, прислал мне письмо с просьбой «связаться» с автором «Ильи Муромца», а к письму приложил отрывок-зачин из своей былины о Василии Буслаеве – в надежде, что я перешлю его Старостину для критического разбора.
Я так и сделал. Между ними завязалась переписка; мне же Василий Андрианович написал:
По русскому языку и стиху я прошел длительный и тернистый путь. Мой опыт я готов передать Смирнову, если он того захочет. Может быть, этот мой опыт поможет Смирнову овладеть языком и стихом русским народным не за три десятка лет, как было со мной, а за несколько лет. Я готов своим опытом поделиться с кем угодно, со всяким, кто этого пожелает.
Самобытный человек живет в деревне Сергеево!
1973
МНОГОЦВЕТЬЕ
ФИОЛЕТОВОЕ ЧУДО
В ПУТИ
Из Москвы в Ташкент мы с женой выехали на андижанском поезде.
Пассажиры, в основном узбеки в традиционных черных тюбетейках, шитых серебром, и узбечки в платьях из атласа, в пестрых шальварах, сейчас же принялись пить чай: у каждого имелись и свой чайник, и своя заварка.
Заботу о нас, неискушенных северянах, взял сосед по купе Анвар Маматов, смуглый проворный юноша с тонким, как лезвие ножа, носом. Горячим и прохладным усладительным кок-чаем[19]19
Кок-чай – зеленый чай.
[Закрыть] он потчевал нас так же щедро, как и своими неистощимо красочными рассказами о быте и нравах узбеков.
Анвар был приемным сыном прославленной Таджихан Шадыевой – директора многонационального совхоза в Ферганской долине. Она умерла, но осталась навечно в памяти людской. О ней созданы фильмы, поэмы…
Признаюсь, я ехал в Ташкент с намерением повидать Зульфию, написать о ней, поэтому мой вопрос был естественным:
– А Таджихан Шадыева могла знать вашего народного поэта Зульфию!
– Конечно же знала! – воскликнул Анвар. – Зульфия приезжала к Шадыевой не раз. Они сидели на айване[20]20
Айван – длинная открытая веранда.
[Закрыть] и разговаривали, как вот я о вами… Их любит наш народ. Они как лепестки на одной цветущей ветке! Как крылья одной птицы! Они обе радуют людские сердца: одна – трудом, другая – песней.
Я с восхищенным удивлением смотрел на Анвара: молодой, а как мудро он соединил в одно понятие и труд и поэзию.
ОЖИДАНИЕ
Мягкая и даже, пожалуй, прохладная осень. На широкие листья платанов еще только легла легкая, как пыль, позолота. В обезлюдевших садах (многие жители на уборке хлопка) лопаются перезревшие гранаты. А я в душе молю: «Только бы, только бы приехала Зульфия!..»
Мы живем под Ташкентом, в Доме творчества «Дурмен», в новом трехэтажном корпусе с огромной фреской над входом. На меди выпукло, мастеровито отчеканены барельефы основателей узбекской советской литературы: Хамзы, Айбека, Гафура Гуляма и Хамида Алимджана.
За трехэтажным корпусом – буйство яблонь, груш, виноградных лоз, а сбоку бетонная дорожка – заветная: она ведет к даче Зульфии. Я часто брожу по ней в смутной надежде на нечаянную встречу. Но плотно зашторены окна в доме; перед крыльцом грустят привядшие, пониклые цветы, а забытые розы роняют, как слезы, белые и пунцовые лепестки. И моя надежда сменяется безверием; голова клонится под тяжестью невеселых мыслей: «Ну почему же такая немилость судьбы? Ведь мне всегда везло на знакомства с хорошими людьми».
Как-то выдалось росистое, с прозрачным туманом утро. Перед завтраком я по обыкновению проходил мимо покинутой дачи Зульфии. И вдруг вздрогнул и замер, ошеломленный. Над безрадостным однообразием отпылавших роз стройно возносился стебель с бледно-фиолетовым бутоном в дрожащих капельках росы.
Это была невиданная, сказочная роза! Когда-то взращенная хозяйкой, она благодарно расцвела за одну погожую ночь и теперь трепетно тянулась ввысь, призывно кивала фиолетовой живой головкой, зажигала радужно-переливчатые огоньки при первом же солнечном луче…
Мне уже показалось: дивная роза красуется для хозяйки, она поджидает ее, она верит в ее скорый приезд. И мое безверие опять сменилось надеждой, только уже не смутной, а просветленной, как бы пронизанной юной свежестью и росистым сиянием этого живого фиолетового чуда.
ХОЧЕТСЯ ПРЕКЛОНИТЬСЯ…
Затих долинный ветерок, перестали шуметь платаны и ясени вокруг трехэтажного корпуса. И в этом безмолвии природы, чуткой и словно бы сопереживающей, застыла в глубокой печали, в одиночестве стройная, статная женщина в бархатном малиновом халате с воротником из коричневой норки.
Скорбная, она стоит у входа с медной фреской. Ее голова как бы откинута назад под тяжестью смолисто-черных волос, стянутых на затылке узлом; черные глаза ее устремлены на барельеф Хамида Алимджана и то ласкают светлым любящим взглядом его прекрасные черты, то вдруг сузятся от судорожной боли, затуманятся слезой…
Эта скорбная женщина – Зульфия. Она только что приехала на дачу после долгого отсутствия. Без нее устанавливали над входом в трехэтажный корпус медную фреску, где изображен и выдающийся узбекский поэт Хамид Алимджан, ее муж, отец ее детей.
Прошло почти сорок лет, как погиб он в автомобильной катастрофе, а сердце Зульфии все годы безотлучно с ним, навек родным, бессмертным, оно живет неизбывной памятью о нем.
Я смотрю на Зульфию, и мне хочется преклониться перед ней за пожизненную верность любимому, единственному, за любовь, которая не умерла со смертью самого дорогого для нее человека.
ИСТОРИЯ ЕЕ ЛЮБВИ
Читаю стихи Зульфии, критико-биографическую книгу о ней Адхама Акбарова, и все ярче высвечивается возвышенно-чистый образ этой простой узбекской женщины, все ближе он моей душе.
…Ты родилась в маленьком домике на окраине Ташкента, среди путаницы кривых улочек и тупиков, из которых, казалось бы, не так-то просто выбраться на просторы большой жизни. Но ты упорно училась в школе и сама мечтала стать учительницей. В женском педагогическом техникуме тебя увлекала литература. Она открыла тебе новый мир» Ты очутилась, по собственному признанию, в водовороте страстных газелей Навои, кристально ясных строф Пушкина, мятежных строф Байрона, проникнутых горечью и болью лермонтовских строк, простых, искренних некрасовских образов.
Ты была молода и прекрасна. Твои огромные глаза пылали черными солнцами. Твой голос был прозрачен и переливчато-звонок, как горная вода в арыке, когда ты читала свои стихи в литературном кружке, после занятий в техникуме. Здесь же ты впервые увидела Хамида Алимджана – стройного, могучего, с нежным голосом. Он выступал на литературном вечере вместе с Уйгуном, Айбеком и Яшеном. Но ты смотрела только на него одного. Он показался тебе прекрасным и мужественным. Тонкие и резкие черты его лица дышали вдохновением; глаза тоже пылали как черные солнца. И они смотрели на тебя одну! Смотрели с таким ласковым и простодушным изумлением, что ты отвела смущенный взгляд.
Потом ты встретила Хамида Алимджана у кинотеатра. Это была нечаянная встреча, но как будто бы и судьбой предопределенная. Вы вдруг разговорились, словно давние знакомцы. Хамид, – помнишь? – похвалил за реалистичность, за образность твое стихотворение «Студентка», на днях напечатанное в газете. Похвала известного поэта взволновала тебя. В тот вечер ты долго не засыпала, даже косички не расплела…
А вскоре пришла весна твоей любви, когда сердце расцвело подобно вишне в родном саду. Вы поженились. Но Хамид стал не только твоим мужем, а и наставником, вдохновителем. Ты прикоснулась к великой тайне творчества. Ты восхищалась, с каким упорством, упоением Хамид работал по утрам: ведь это было самое лучшее его время. Он мерно вышагивал по кабинету, словно бы отстукивая ритм стиха, потом на слух проверял написанное. И ты не могла не писать! Твои дрожащие, в чернильных пятнышках руки не раз, бывало, протягивали мужу мелко-мелко исписанные листки. Он прочитывал их, никогда не правил, только объяснял, что удалось, а что нет… Ты же внимала ему с жадностью прилежной ученицы: он был блестящий мастер стиха и талантливый теоретик литературы. Но какой же трудной оказалась эта учеба! Однажды ты, помнится, пожаловалась Хамиду, что никак не можешь закончить стихотворение. Он внимательно прочитал его, улыбнулся и сказал: «Знаешь, отчего это происходит? Ты еще не осознала до конца что хочешь выразить. Главную задачу не осознала. Вот и получается: в небольшом стихотворении ты пытаешься сказать сразу обо всем. В результате одна мысль ведет за собой другую, строфы набегают друг на друга. Всегда помни о замысле произведения и старайся выразить его наиболее точно и лаконично».
О, какими трогательными были ваши дружба и работа! Хамид уступал тебе свой кабинет, а сам работал в столовой, прямо на ковре. Ты училась у него внутренней скромности, неприхотливости и… любви к русской литературе. Он раскрыл перед тобой все ее богатство. Он внушал тебе: «Русскую литературу надо читать в подлиннике, а не в переводе. Только тогда воспримешь все обаяние ее, всю щедрость красок и звучания». И тут же он протянул тебе томик Некрасова на русском языке… Ты стала читать – и певец «мести и печали» потряс тебя; восхищенное преклонение перед ним ты пронесла сквозь всю жизнь.
Еще прежде у тебя вышла первая книжка стихов «Страницы жизни». Она была пронизана горделиво-наивным восторгом: «Я – свободная девушка! Мне весело и хорошо! В объятьях моей фабрики я пою счастливую песню труда!» Но Хамид Алимджан постоянно учил тебя высокой требовательности – вторая твоя книга вышла лишь спустя семь лет после первой.
За это время родились сын и дочь. Счастье материнства породнилось со счастьем углубленного творчества. Ты расцветала вместе со своей солнечной республикой. Но началась война. Хамид Алимджан продолжал возглавлять писательскую организацию, ты стала работать редактором в издательстве…
…Был душный августовский вечер 1943 года. У вас собрались гости, чтобы отметить четырехлетие сына Амана. Среди гостей – Якуб Колас, Корней Чуковский, Эди Огнецвет… Хамид, обращаясь к сыну, сказал: «Когда мне было четыре года, я остался без отца. Я был разлучен с ним… Сын мой! Сегодня тебе четыре года, и у тебя есть отец. Друзья, поднимем бокалы за это счастье!»
Но лучше бы ему было не говорить таких слов! Менее чем через год у тебя не стало мужа, а у сына – отца. Поздним вечером Хамид возвращался из Дурмена в Ташкент на попутке. И тут произошла автомобильная катастрофа…
Тяжкий удар судьбы! Тебя охватило оцепенение, почти равное смерти. Затем оно сменилось чувством одиночества и скорби. А за окном цвели розы, посаженные мужем. И в душе, как жилка на руке, запульсировала навязчивая строка: «Забыть ли дни любви, горенья и труда…» «Но – нет, нет! Теперь уже никогда рука не прикоснется к перу!» – поклялась ты себе. Невыносимая боль точила твое сердце. В отчаянии тебе хотелось уйти куда-нибудь далеко-далеко, но дорога снова и снова приводила к могиле мужа.
«Как же мне победить горе и одиночество?» – вопрошала ты словно бы у самой судьбы, а ответа не было, и свет дневной мерк в глазах…
ДВА ПРИЗНАНИЯ
На обложке одного французского журнала мне привелось увидеть исхудалое лицо умирающего Жерара Филипа с улыбкой недоумения, даже неверия в близость финала жизненной драмы. А рядом сидела понурая, окаменевшая Ани Филип, жена…
Вскоре, после смерти мужа, она напишет такие леденящие строки:
«Где моя цель?.. Мне хорошо в зимней тиши, когда земля голая, без запахов. Я тоже стараюсь погрузиться в спячку… Нужно ли мне будущее, в котором нет тебя?.. Каждый раз, когда я встречаюсь с чужим счастьем, я еще сильнее чувствую свое крушение…»
Иное произошло с Зульфией после гибели мужа: она не дала смерти торжествовать над жизнью. Она шла к людям. Ее горе слилось с горем женщин, получавших «похоронки» с фронта. Общая беда сближала Зульфию с людьми. Чувство безысходности мало-помалу развеивалось. А затем пришла весна – любимая пора. В саду задышали розы, посаженные им. Поэзия, добрая и мудрая спутница жизни, призвала Зульфию к себе. И горе стало как бы переплавляться в строки памяти и любви, торжествующей над смертью:
Моей печали постиженье
В потоке месяцев и дней.
Хотя я с ней веду сраженье,
Она становится сильней.
Твоим я счастьем счастье меряю,
С тобой слилась на все года.
И даст мне силу – твердо верю я —
Моя печаль, твоя беда.
РУКА ДРУЖБЫ
При встрече в столовой с Зульфией мы здороваемся – и это все.
Угнетает сознание: не дай бог, Зульфия осудит нас в душе за «северную» замкнутость! В то время как наша сдержанность всего-навсего порождена стеснительностью. Нам совестно докучать ей своим навязчивым знакомством. Мы уже знаем, что она на время «освободилась» от редактирования журнала для женщин «Саодат», от дел в Верховном Совете республики, от всяческих интервью и конечно же теперь хочет принадлежать самой себе.








