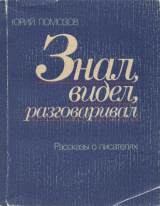
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
ТВАРДОВСКИЙ ПИШЕТ РАССКАЗ
Мила зябкому северному сердцу солнечно-теплая крымская зима!
1958 год. Конец января. Но день за днем ловишь на своем лице зеркальный отблеск доброго моря, ощущаешь губами, как бесконечно ласковый поцелуй, его солоноватую бодрящую свежесть – и это счастье! А от прогретых бокастых гор веет сухим, почти летним ветерком. Голубоватый воздух тонок и прозрачен, словно только что протертое стекло. Даже далекие на западе горы прорезаются неомраченно четко. С балкона Дома творчества писателей, вознесенного над всей Ялтой, во всю ширь разглядишь их прогнутую хребтину с взлетистой и вдруг обрывающейся, как трамплин, зубчатой вершиной Ай-Петри.
В Доме творчества – приютная пустынность и тишина, которую обретаешь только зимой. Проживает здесь не более десяти литераторов, среди них Константин Паустовский и Алексей Арбузов, а также мои новые знакомцы – поэт Владимир Гнеушев, критик Владимир Воронов.
Дни проходят размеренной чередой, под шорох исписанных листов, и в этой их разумной размеренности – ощущение долговечной незыблемости, радостного затворничества.
Наступает февраль – и тоже теплый, солнечный! В парке зацвел миндаль, на южном склоне ближней горы Дарсан распустились ослепительно-желтые крокусы. Горничная приносит целую охапку этих нарядных посланцев ранней весны. Ее приход чудесно совпадает с приездом Александра Трифоновича Твардовского, и она тут же одаривает его праздничными весенними цветами.
– Спасибо, спасибо, – благодарит он. – Вы как сама весна.
Никогда прежде я не видел Твардовского. Тем более он поражает меня крупной и легкой фигурой, решительными и вместе плавными движениями, которые присущи мужчине, находящемуся в самом расцвете душевных и физических сил. Правда, он прогуливается по парку с сучковатой палкой, но едва ли она служит ему опорой, – скорей всего, это непринужденное средство лишний раз напомнить о близости перевала – пятидесятилетия, о том, что вышагивать теперь можно и без прежней молодой размашистости, а более осмотрительно, мудро, осанисто, что ли…
Вместе с Твардовским приехали его жена Мария Илларионовна и дочь Оля. Держится он по-семейному замкнуто, разве в столовой двумя-тремя словами перебросится с Паустовским, а затем, обычно после обеда, куда-то уедет на черной машине – то ли собственной, то ли предоставленной знаменитому поэту местными, ялтинскими властями.
Вообще веет от него, живого классика, некоей неподступностью, когда неразлучная сучковатая палка уже представляется посохом патриарха. Сероватым холодком стали отсвечивают его небольшие твердые глаза – не поддаются ласковой голубизне крымского неба. Голос же его отрывист, резковат, хотя, впрочем, в нем можно уловить и мягкие, покровительственные нотки.
– Чрезмерно ваше беспокойство, Константин Георгиевич, – говорит как-то в столовой Твардовский соседу Паустовскому. – Новые главы вашей «Повести о жизни» не утрачивают столь счастливо обретенного тона. Так что нелишне вас, приунывшего, напутствовать плещеевскими словами: «Вперед! Без страха и сомненья».
Возможно, эти крылатые слова – девиз самого Твардовского. Начиная от первой поэмы «Страна Муравия» его творчество развивалось по восходящей линии. Критическое чутье на свои произведения у поэта, видимо, было предельно обостренное и потому безошибочное.
Тем более меня поражает дальнейшее. Не проходит и неделя со дня приезда Твардовского, как манера его поведения заметно меняется Прежние размеренно-степенные движения поэта становятся вроде бы торопливыми. Например, его длинно, упруго вышагивающие ноги уже опережают выбросы сучковатой палки, то есть четкого ритма теперь не получается, – наоборот, происходит явное нарушение «стихотворного размера», если употребить поэтический термин.
– Ты заметил перемену в Твардовском? – спрашиваю я у Владимира Гнеушева. – Он явно чем-то встревожен.
– Большой поэт всегда наполнен тревогами века, – отзывается Гнеушев. – Возможно, у него возник замысел нового стихотворения или даже поэмы.
Тем разговор и кончился.
Но вот мы стали замечать, что обычно твердый взгляд серых, «стальных» глаз Александра Трифоновича все чаще делается щурким, точно бы размягченным изнутри какой-то безотвязчивой беспокойной мыслью, да к тому же этот взгляд нет-нет и остановится на наших молодых лицах, и в нем теперь – пытливая заинтересованность.
– С чего бы такое внимание? – недоумеваю я. – Ведь прежде взгляд Александра Трифоновича был скользящим.
Тогда критик Воронов высказывает предположение:
– Кажется мне, Твардовский имеет какие-то виды на нас…
И чем дальше, тем больше поведение именитого поэта приобретает черты загадочности.
В вестибюле Дома творчества, при входе, находится приземистый столик, на котором обычно раскладывается прибывающая почта. Однажды я замечаю, как Твардовский берет адресованное ему письмо из журнала «Огонек», но берет довольно нерешительно.
– Чувствую, поспешил, поспешил, – бормочет он. – Не следовало бы отсылать…
А на следующее утро я вижу Твардовского и вовсе взволнованным, даже хмурым. Он только что поднялся по обходной пологой лестнице вместе с шумно дышащим Паустовским и теперь перетаптывается в матерчатых тапочках у дверей в столовую, так же шумно, тяжело дышит.
– Нелегка, знаете, дорога, – жалуется он. – И прозаические вершины тоже трудно брать прямо, с ходу. Нужен маневр, обход.
– Тогда как же быть с плещеевским призывом: «Вперед! Без страха и сомненья»? – напоминает ироничный, грустный Паустовский.
– Ну, Плещеев-то выразился так совершенно по другому поводу…
Судя по всему, Александра Трифоновича что-то мучает, его одолевают сомнения. Он теперь часто прогуливается, а точнее, мечется по тесному парку, сердито постукивает палкой-посохом по асфальтовым дорожкам, словно ищет и не может найти тенистого покойного уголка…
И вдруг все разъясняется. Ко мне в комнату заходит критик Воронов; в руках у него вдвойне сложенная, довольно плотная, перепечатанная на машинке рукопись – второй экземпляр.
– Вот, – объявляет он удивленно-радостно, – Александр Трифонович дал нам почитать свой рассказ «Печники» и попросил начистоту высказаться. Я уже прочитал его, можно сказать, в один присест, у меня сложилось вполне определенное мнение. Теперь ты познакомься с рассказом.
Так вот оно что! Оказывается, Твардовского «мучило» рожденное им детище, и он решил или развеять все сомнения насчет его несовершенства, или, наоборот, признать свою творческую неудачу.
Признаюсь, я с тем большей охотой взялся прочитать рассказ Твардовского, что он как прозаик был неведом мне. И одновременно я насторожился: окажется ли проза поэта достойна его поэзии?
Но уже первая «запевная» фраза настраивает меня на восприятие высокого словесного искусства; от нее веет чем-то классически-хрестоматийным:
О печниках, о их своеобычном мастерстве, исстари носившем оттенок таинственности, сближавшей это дело чуть ли не со знахарством, – обо всем этом я знал с детства, правда, не столько по живой личной памяти, сколько по всевозможным историям, легендам и анекдотам.
Далее автор повествует о печнике Мишечке, знаменитом, между прочим, и тем, что ел глину, и свидетельствует уже как очевидец:
Тщательно замесив ногами глину на теплой воде до того, что она заблестела, как масло, он поддевал добрый кусок пальцем, запроваживал за щеку, прожевывал и глотал, улыбаясь, как артист, желающий показать, что исполнение номера не составляет для него никакого труда.
Кажется, речь пойдет об этом кудеснике Мишечке, но нет, автор мало-помалу расширяет повествовательные рамки, усиливая читательский интерес сообщением о добрых и злокозненных чудачествах печников, – о том, например, как вмазывалось где-нибудь в дымоходе бутылочное горлышко, и печь начинала петь на всякие унывные голоса…
Это вступление незаметным образом переходит к истории мытарств и переживаний самого автора, когда он, будучи преподавателем русского языка в сельской школе, пытался обуздать крутой нрав домашней печки, сложенной пленным немцем, отчаянно дымившей, так что хоть на улицу беги, под мороз.
Повествование развивается неторопливо, основательно; в него вовлекаются расторопная сторожиха Ивановна и ее муж, одноногий Федор, которые растапливали печь весьма ловко, каждый на свой манер, однако ж печь продолжала отчаянно дымить, вся квартира учителя уже напоминала черную баню – и становится понятно, почему из нее бежали все прежние постояльцы.
Забавная вроде бы история с печкой перерастает в драму, особенно когда мы узнаем о скором приезде из города молоденькой жены учителя и его ребенка, когда автор делает горькое признание: «От плохой печки можно в короткий срок постареть».
Впрочем, к чему я пересказываю содержание рассказа? Теперь он опубликован, и читатель сам может стать сопереживателем учителя-автора и довольно-таки зримо представить пластично выписанных наиглавнейших героев рассказа – и майора из райвоенкомата, доброхота-печника, который при улыбке исподволь прикрывал рот рукой, как это делают люди с потерянными спереди зубами, особенно женщины, и конечно же Егора Яковлевича, отставного железнодорожника, самого надежного искусного мастера печного дела, человека с длинным, строгим лицом нездорового, желтоватого цвета и редкой, когда-то рыжей, а теперь от седины палевой бородкой, с тяжелыми кистями рук, похожих на рачьи клешни, таких впечатляющих при тщедушном теле…
Этот-то, в сущности, обыкновенный человек, едва соприкоснувшись с любимым делом, становится вдохновенным поэтом, только свои певучие, долговечные строфы он складывает из веских и стройных строк каменной кладки, приговаривая: «Талант должен быть у человека один».
Вероятно, найдется критик-исследователь, который раскроет секреты мастерства Твардовского при создании образа современного Левши, точнее – продолжателя его тончайшего кружевного искусства, поэта-печника Егора Яковлевича, и одновременно расскажет о том, как в этом характере широкого национального размаха отразилось извечное трудолюбие русского народа, завещанная потомкам страсть вершить любое дело как высокое художество.
Очень взволновал меня рассказ Александра Твардовского; я перечитал его дважды, наслаждаясь музыкой слова и дивясь авторскому умению поэтично рассказывать о вещах, казалось бы, сугубо прозаических, самых что ни есть житейских и тоже возвеличить их до степени высокого искусства.
…Пока рассказ ходит «по кругу», я часто замечаю в прищуренных глазах Твардовского притаенную тревогу. Да и вообще он, словно обыкновенный начинающий автор, чья рукопись находится у придирчивого литконсультанта, охвачен чутко-нервным ожиданием или приговора, или похвалы.
Это душевное беспокойство понятно мне; оно сближает с Александром Трифоновичем общностью и своих когда-то пережитых творческих тревог. И хочется подойти к нему и сказать от всего сердца: «Хороший рассказ вы написали! Большое вам читательское спасибо!»
Но я робею почему-то… Наверно, все-таки потому, что с всесветно прославленным писателем надобно разговаривать как-то на особинку, без пылкой восторженности читателя, а скорее всего – со спокойной и мудрой доказательностью, на какую я, взволнованный, сейчас просто неспособен: для меня если произведение хорошо, то оно и хорошо, и тут, собственно, архикритические разговоры ни к чему!..
Между тем погода во второй половине февраля начала портиться. С севера наползают серые, студенистые тучи, и видно, как они, истаивая под южным солнцем, сливаются с гор в приютную ялтинскую долину подобно мутной, пенистой воде.
А вскоре и вовсе занепогодило – сквозь ущельные лазейки прорываются холодные ветры. Тучи уже бурно клубятся и надолго гасят солнце. Над черепичными крышами, над остриями кипарисов, над потемневшим морем летят лоскутья мокрого снега…
Вчера уехал Алексей Арбузов; запомнилось, как, садясь в такси, он крепко, враз обеими руками, прижимал к груди оранжевый портфель, где, вероятно, хранилась новая пьеса. А сегодня с натужным гулом, наперекор глинисто-бурым потокам, взбирается по асфальтовой крутизне к Дому творчества черная машина. Паустовский, закутанный в плед, оповещает свистящим, придушенным голосом:
– Твардовские уезжают…
По неписаному закону всех оставшихся постояльцев мы провожаем Александра Трифоновича. Он пожимает нам руки. И вдруг я слышу обращение к себе:
– Ну что же вы, Помозов, так и не высказались о моих «Печниках»?
Я начинаю что-то выборматывать, но, боясь показаться вовсе смешным, собравшись к тому же с духом, выкрикиваю явно в искупление своего прежнего робкого и долгого молчания:
– Да ведь это же замечательный рассказ!.. И в то же время это не совсем рассказ! Где-то он переходит в очерк, а потом – в повесть, как это случается в самобытной русской прозе, не всегда признающей жанровые рамки!.. А проще говоря, это раскованное, свободное повествование!..
Твардовский на миг задумывается, тут же улыбается и уже с сиденья, из приоткрытой дверцы машины, заглядывает мне куда-то глубоко под ресницы светлыми, очень светлыми глазами…
* * *
Когда, вернувшись в Ленинград, я рассказал знакомому критику о встрече с Твардовским, он усомнился в правдоподобности сильного волнения знаменитого поэта при ожидании отзыва о своем рассказе – и от кого? – от молодых, если не начинающих литераторов. Да, признаться, и мне самому подумалось: уж не преувеличил ли я все «переживания» Александра Трифоновича?
Но вот мне довелось прочитать опубликованные дневники последних лет Михаила Пришвина, его записи во время работы над рассказом «Заполярный мед».
Трудно поверить, что взыскательный, многоопытный мастер слова в свои восемьдесят лет с неуверенностью начинающего автора сомневается в удаче одного из лучших своих рассказов, а между тем это так.
22 ноября 1950 года Пришвин записывает в дневнике:
Вечером у меня собрались послушать «Полярный мед». Читалось тяжело, и, прочитав, я сам объявил, что затея моя не удалась.
Наступил 1951 год – и вновь сомнения:
Все выправил, подчистил, подскреб в рассказе «Заполярный мед». Хочу попросить Тарасенкова [6]6
А. К. Тарасенков (1909—1956) – известный советский критик, литературовед, библиограф и редакционный работник. В разные годы работал в журналах «Знамя» и «Новый мир» и в издательстве «Советский писатель».
[Закрыть] прочесть его, скажу, что рассказ приготовлен на конкурс «Огонька», но боюсь его отдавать, опасаясь провалиться с ним.
Да, истина остается истиной: перед читательским судом все равны – и великие, и малые; всех охватывает тревожное волнение, то скрытое, то явное. И только прилежный ремесленник, лишенный взыскательной совести, остается холодным и безучастным к мнению Читателя.
1959
СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
I
Председатель собрания объявил:
– Слово предоставляется Сергею Венедиктовичу Сартакову, секретарю правления Союза писателей СССР.
Из-за стола президиума упруго поднялся коренастый, плотный человек и привычно быстрой, деловой походкой, припадая на носки, с силой отталкиваясь ими, подошел к трибуне и сразу словно бы врос в нее, тоже плотную, коренастую…
Собственно, это было не выступление. Сергей Венедиктович Сартаков познакомил ленинградских писателей с изменениями в уставе Союза писателей СССР, ответил на некоторые вопросы, улыбнулся на чью-то реплику – и опять занял привычное место за столом.
Эта четкая, спокойная деловитость, особенно после затяжных речей отдельных литераторов, любителей словопрений, произвела очень отрадное впечатление. Подкупала вообще манера Сартакова держаться на трибуне. Казалось, он с той же домашней непринужденностью, с какой обычно делятся новостью с близкими товарищами, поведал и нам важную новость.
После собрания мне довелось познакомиться с Сергеем Венедиктовичем, посоветоваться с ним насчет издания своей «многотрудной» книги о Волге, более того, заручиться его помощью. И я как-то сразу проникся доверием к нашему гостю, отныне уже москвичу по прописке, одному из руководителей Союза писателей СССР.
II
Спустя пять лет после нашего знакомства в Ленинграде, то есть именно в январе 1973 года, я повстречал Сартакова в Ялте – во время его так называемого «творческого отпуска».
Увидеть Сергея Венедиктовича можно было лишь в столовой Дома творчества: он много и, видимо, с неутоляемой жадностью писал, что, впрочем, и неудивительно после освобождения, пусть даже временного, от служебных обязанностей.
– Великолепно здесь, в Крыму, работается! – воскликнул он. – Не понимаю, почему вы, ленинградцы, там у себя киснете в зимней сырой мозглятине. А здесь вы и под солнышком отогрелись бы, и в море теплом покупались бы. Да, да, непременно теплом! Ведь в Ялте действует прямо под открытым небом довольно-таки обширный бассейн, куда закачивается, где и подогревается морская ласковая водичка.
Я выставил веский довод: Литфонд не очень-то охотно выдает путевки со скидкой, хотя мог быть чуточку подобрее, учитывая, так сказать, несезонность.
Сергей Венедиктович нахмурился, опустил голову и даже плотными плечами обмяк, как бы вновь ощутив служебное бремя.
– Тут, знаете, надо что-то придумать, придумать. Негоже, чтобы такой замечательный Дом творчества пустовал зимой!
Отблеск крымского солнца угас в глазах Сартакова, и я пожалел, что стал невольной причиной его озабоченности. Мне захотелось поскорей вернуть ему наверняка трудно обретенное состояние творческой возбудимости и отрешенности от всех побочных дел.
– Над чем вы работаете, если не секрет? – спросил я.
– Пишу роман, – с живостью отозвался Сергей Венедиктович. – О революционере Дубровинском, верном ленинце, к сожалению рано умершем и мало, очень мало кому известном. Но я побывал в местах его ссылки, разыскал бесценные материалы о нем и попытаюсь… вырвать эту светлую личность из тьмы забвения.
Помолчал, а затем прищурился пытливо, чуточку насмешливо:
– А над чем трудитесь вы после жарких баталий с издателями?
Мне было известно, что Сергей Венедиктович выполнил свое обещание – посильно помог в издании книги о Волге. Я поблагодарил его и так ответил на его вопрос: великая русская река продолжает неуклонно течь к Каспию, значит, будут и новые книги о ней, да путь-то длинный и потому жди впереди и перекатов, и штормов.
– Да, да, всякое будет впереди! И тут важна направленность творчества, надежность избранного повествовательного фарватера.
Сам Сергей Сартаков работал в Ялте с предельной самоотдачей, хотя, конечно, его подхлестывал не только этот почти непрерывно дующий с моря ветер, – подхлестывала неизбежность скорого отъезда в Москву, необходимость возврата к служебным обязанностям, когда уже будет не до романа.
Однако сибирский характер и тут сказался – ему явно хотелось вырваться из комнатных стен и соприкоснуться с живой жизнью.
Однажды, когда мы уже отобедали, Сергей Венедиктович сказал мне:
– Знаете, в Ялте, где-то на окраине, вблизи речушки Учан-Су, проживает любопытный человек – самородок, изобретатель в области световой энергии. Адрес у меня имеется, так давайте-ка сейчас и отправимся к нему. А о потерянном времени заранее не сожалейте: возможно, вам еще придется в каком-нибудь своем новом произведении иметь дело с ученым, который, кстати, почему-то нам, грешным, всегда представляется этаким старичком с чудинкой, даже вовсе человеком не от мира сего, а в действительности может оказаться совершенно другим, то есть именно таким, каким и должен быть в жизни, а не в книгах.
Я с радостью принял приглашение Сартакова. Мы наискосок, срезая петли нагорного шоссе, спустились к остановке, сели в автобус и поехали на городскую окраину, затем сошли вблизи какой-то древней, пылящей на ветру глинистой стены, спросили у встречного старика, несшего в обеих руках бутыль с вином, название необходимой нам улицы, а после того, как он взмахнул ковыльно-длинной бородищей в сторону бренчавшей в каменьях речушки, направились к ней и, выйдя на береговые, опять-таки пылящие глиняные взгорья, побрели вдоль выбеленных домиков под черепицей, мимо сложенных из камней оград, откуда подобно иссохшим костлявым рукам устрашающе выбрасывались искривленные побеги виноградных лоз с раскосмаченной и мертвенно шелестящей на ветру блекло-серой кожицей…
Изобретатель находился дома – похоже, встреча была условленной, и он поджидал Сартакова. По крайней мере, они встретились непринужденно, без всяких неловких вступительных слов, и сразу деловито прошли в жарко нагретый солнцем дом (а быть может, даже и отопленный дополнительно выжатой из небесного светила энергией, как невольно подумалось мне, почтительно и робко вышагивающему за изобретателем).
Это был уже седой, с красным то ли от загара, то ли от возбуждения лицом, очень подвижный человек, а сейчас, при встрече гостей, еще и суетливый. Он мигом усадил нас на стулья в белых, провинциально-чистеньких чехлах, около неказистого столика, на котором не было даже клеенки, – видимо, демонстрационного столика, – и начал с небрежной ловкостью фокусника расставлять на нем какие-то пластмассовые кубики, прозрачные и матовые стеклянные палочки, лампы самых причудливых форм, металлические колпачки и, наконец, выставил перед нами, чтобы вовсе уже ошеломить, целый прибор с затейливо-пестрыми кнопками и выпуклыми круглыми глазками. После этого он завесил окошко черной тряпицей, выкрикнул с петушиной звонкостью: «Внимание!», тут же щелкнул кнопками – и все то, что находилось на столе, вмиг ликующе засветилось в сумраке. «А теперь я, заметьте, отключаю!» – провозгласил он торжественно и опять щелкнул, но все предметы продолжали стойко пылать заряженной энергией, и я почувствовал на щеках приятное пощипывание колких лучиков…
Эффект был поразительный – мы сидели потрясенные или, правильнее сказать, ослепленные, а изобретатель конфузливо бормотал:
– Знаете, при полной тьме все выглядело бы эффектнее… Так что вы уж извините… Нам попозднее надо было встретиться…
Затем изобретатель стал образно, вдохновенно, сам как бы светясь в сумраке своим накаленно-красным лицом, рассказывать о солнце, о беспредельном его могуществе и ничтожно малом использовании солнечной энергии человечеством, в то время как все его кубики, стеклянные палочки, лампы и колпачки продолжали невозмутимо, сами по себе, гореть, наглядно свидетельствуя, что зато уж сам хозяин этого дома с лихвой использует даровой небесный свет.
Мы с интересом слушали ялтинского чародея, потом всю дорогу обменивались впечатлениями.
– А заметили вы, Юрий Фомич, – вдруг обратился ко мне Сартаков, – что в этих подчас провинциально безвестных ученых и изобретателях горит святая, пожизненная преданность выстраданной идее, пусть даже и ошибочной, что ради нее они пошли бы и на самосожжение? Их и жаль, но им и поклоняешься. Ведь если бы каждый в своем деле излучал столько чистейшей бескорыстной энергии, над миром давно бы засияло второе бессмертное солнце!
…Наступивший февраль грозил мне серьезным испытанием. Как и обычно, съехались на семинар в ялтинский Дом творчества молодые драматурги со всех уголков страны. Все комнаты отдавались в их распоряжение; тот же из писателей, кто задержался здесь по разным причинам, должен был немедленно выехать и искать пристанище в гостинице.
Такая участь и меня ожидала – я каждую минуту ждал внушительного стука рослого, молодцеватого директора Дома творчества и все, помнится, выходил на балкон и окидывал прощальным взглядом приютный городок внизу, под горой, белые вспышки волн в далекой синеве моря, пассажирский теплоход и рыбачьи сейнеры в гавани, зубчатую вершину Ай-Петри среди развеянных облачных косм – там, вероятно, бушевал сильнейший ветер…
Вдруг в дверь постучали, я открыл ее в тревоге… и увидел Сергея Венедиктовича.
– Вы не волнуйтесь, работайте, – успокоил он. – Я все уладил… Вы теперь в некотором роде неприкосновенная личность.
Помолчал, переминулся с ноги на ногу, затем – резко, в упор, с прищуркой:
– Как вы смотрите на то, чтобы изобретатель выступил перед «семинаристами»?
– Замысел превосходный! – одобрил я.
– В таком случае я обо всем договорюсь, а вы уж, голубчик, доставьте ученого мужа и все его приборы в целости-сохранности.
Вот так Сергей Венедиктович! И о моем душевном спокойствии, и о духовном насыщении «семинаристов» озаботился – опять себя дал знать широкий и масштабный сибирский характер!
Между прочим, выступление изобретателя состоялось, он был в «ударе» и особенно убедительно продемонстрировал свои опыты в темном кинозале, о чем свидетельствовали дружные аплодисменты взыскательных слушателей – и «облученных», как в шутку отметил жизнерадостный прозаик и драматург из Калмыкии Алексей Балакаев.
В конце февраля, то есть незадолго до завершения работы семинара, в Дом творчества приехал представитель Министерства культуры СССР, элегантный, приветливый и… находчивый. Он, в частности, уговорил Сартакова, как секретаря правления Союза писателей СССР, сказать напутственное слово молодым драматургам. Вскоре было вывешено объявление, солидно, крупными буквами оповещавшее о встрече с С. В. Сартаковым как именно с официальным лицом участников семинара. После обеда молодые драматурги собрались в кинозале.
Стоял непривычно серенький для Ялты денек. Сквозь ближние кипарисы в припыленные окна процеживался зеленовато-тусклый свет. Пришлось зажечь лампы. Сразу стало уютнее. Да и сам Сергей Венедиктович держался как-то по-домашнему просто.
– Я хочу вам рассказать, – заговорил Сергей Венедиктович, – о том, как из меня… не получился драматург.
Начало было ошеломительное!
А Сергей Сартаков, четко прорисовываясь своей великолепно круглой, мощной головой на белом полотне экрана, стал, похоже, с удовольствием повествовать о написании едва ли не в отроческом возрасте пьесы о золотоискателях, о своих мытарствах с ней, о вспыхивающих и тут же угасающих надеждах на постановку…
– С тех пор, – заключил Сергей Венедиктович, – я поклялся никогда больше не писать пьесы, и вот уже облысел, а клятву свою держу крепко.
В кинозале стояло неловкое молчание, только слышалось ерзанье «семинаристов». А Сергей Венедиктович зорко осмотрелся и стал преспокойно говорить уже о другом – об истории создания своих широкоизвестных повестей и романов «Не отдавай королеву», «Философский камень», «Хребты Саянские», поделился впечатлениями о том, как разыскивал материалы к новому роману, который пока условно назван «А ты гори, звезда».
Рассказывал он увлеченно, но все-таки ощущение возникшей вначале неловкости не проходило.
Но вот вечером, прогуливаясь по парку, напоенному приторно-сладким запахом цветущего жасмина, я услышал голоса:
– К чему поведал Сартаков о себе как несостоявшемся драматурге, до сих пор не пойму!
– Да что ж тут непонятного? Наверняка среди нас есть драмоделы или попросту неудачники – те, кто из самолюбия, из упрямства будет влачить тяжкую ношу. Вот Сергей Венедиктович и предостерег очень умно от такой зряшной маеты, дал понять, что, может, мне, к примеру, или кому другому следует овладеть иным жанром, как более свойственным его художнической натуре.
…Между тем наступала пора отъезда. Я зашел к Сартакову проститься.
– Счастливого пути! – сказал он. – А ленинградцы пусть и зимой приезжают в Ялту. Я уже думал, прикидывал и нахожу, что стоимость путевок в зимний период можно снизить. По крайней мере, я постараюсь этого добиться.
Сибирский характер!.. Я его ощутил при своих, пусть редких, зато памятных встречах с хорошим русским писателем и душевным человеком Сергеем Венедиктовичем Сартаковым, да и те, кому приходилось с ним общаться, уверен, были обласканы его чутким, дружеским вниманием, а если требовалось, то и деловой поддержкой, столь необходимой в нашем общем многотрудном писательском деле.
1973








