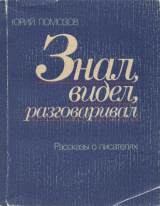
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Однажды мы с женой, спасаясь от зноя, сидели под цветным пластмассовым навесом, около бассейна. Вдруг смотрим, идет к нам Зульфия в уже знакомом малиновом халате. Под мышкой у нее зажат какой-то журнал, обеими руками она держит огромный кулек, свернутый из газеты.
– Вот угощайтесь, пожалуйста, – говорит она, подойдя. – Это яблоки из моего сада.
Улыбчиво ее коричневатое лицо в мелких, сухих морщинках, а черные, молодые, невыцветшие глаза излучают заботливую доброту простосердечного человека, чуждого условностей, протягивающего первым доверчивую руку дружбы.
Завязывается непринужденный и немного «разбросанный» разговор, как это обычно и случается при внезапном знакомстве.
– Я очень люблю стихи вашей Ольги Берггольц, – признается Зульфия.
– Иначе и быть не должно! – подхватываю я. – Ваши стихи тоже яркие, бурные. Они волнуют глубокой и подчас беспощадной, но мужественной искренностью.
– Значит, вы читали их… Спасибо.
– Увы, читал давние! В библиотеке оказалась всего одна ваша книга.
– Тогда я подарю вам недавно вышедший сборник.
– Рахмат, Зульфия-ханум, – благодарю я по-узбекски, но так, наверно, забавно-неловко, что от глаз ее отлетают смешливые стрелки морщин. – И вот что я почувствовал по давним переводам ваших стихов. Переводят вас разные поэты, а вы везде остаетесь сами собой. Видимо, слишком уж обаятелен и неповторим ваш поэтический почерк, чтобы его можно было передавать разностильно.
Зульфия молчит; она сейчас, вероятно, не склонна говорить о своих стихах. К тому же ее стесняет журнал, зажатый под мышкой, и она выдергивает его, протягивает нам с тем же дружеским доверием, с каким недавно – руку.
– Вот взгляните на нашу «Юность»! Только что стала выходить.
Я перелистываю журнал-близнец: тот же шрифт, верстка, формат – и не могу не сказать об этом удручающем сходстве с московской «Юностью», о необходимости поиска своего лица.
– Это ничего! – пылко возражает Зульфия. – Если бы не выход нашей «Юности», стихи, рассказы и повести молодых еще долго-долго лежали бы на их письменных столах.
Я возвращаю журнал, но она, взволнованная, уже сама перелистывает его, затем – возглас восхищения и призыва:
– Взгляните на портрет автора! Какой юный, красивый! И как интересно, ярко пишет. Хочу дочитать его повесть до конца. Не могу браться за свое.
Незаметно разговор переходит на журнал «Саодат», который редактирует Зульфия вот уже более тридцати лет. Тираж этого женского журнала – 800 тысяч! Дружен редакционный коллектив. Печатается много поэтов.
И снова разговор завязывается о ленинградских писателях. Зульфия хорошо знает Анатолия Чепурова, Георгия Холопова, Майю Борисову, Ризу Халида. Ей вспоминается поездка по Карельскому перешейку:
– Мы ездили с Холоповым и другими товарищами на машине. В Сестрорецке нас захватил сильный ливень. Заскочили в ближний магазин. Там ко мне подошла женщина в плаще. «Вы Зульфия? – спрашивает. – Я перевела ваши стихи на французский язык для журнала „Советская литература“». И вдруг исчезла… Прямо чудеса!
От старых яблонь и с открытого поля в молодых саженцах тянет сухим, горьковатым ветерком осеннего увядания. С дерева на дерево перелетают скворцы – иные, чем на севере, в белой оторочке крыльев, очень голосистые. Даже издали заметны жухлые листья на винограднике: они – как желтые заплаты на заношенной одежде природы. Поневоле вспоминается стихотворение Зульфии «Золотая осень», оживают в памяти строки: «Деревья, что стоят, как пышные павлины, свой разноцветный блеск роняя поутру». Или вот эти: «Пушинка улетит в янтарные просторы, повиснет невзначай на девичьей косе…»
Неподалеку от нас проходит худенькая, небольшого росточка девушка. У нее слегка вздернутый, тупой носик и неожиданно светлые глаза под тяжелой шапкой прямых черных волос, точно бы подрубленных.
– Это Кутлибека Рахимбаева, – знакомит Зульфия. – Очень способная поэтесса.
– И наверно, ваша ученица? – предполагаю я.
– Да, она тоже… Многие из моих учениц стали лауреатами премии комсомола нашей республики. И среди них – Халима Худайбердыева. Недавно она была еще школьницей и, помню, на моем литературном вечере в школе прочитала свои стихи. Я заинтересовалась. Началась переписка… Теперь Халима Худайбердыева – известный в республике поэт.
– Да, много у вас учениц!
– Вокруг старого дерева всегда поднимается молодая поросль… Недавно ко мне пришли две молодые узбекские поэтессы, совсем еще девочки. Читали свои стихи, волновались, краснели, спотыкались чуть ли не на каждой строчке. И я вдруг почувствовала, что волнуюсь вместе с ними, радуюсь каждой их удаче, переживаю за то, что еще не выходит, не получается. И – поверите? – была счастлива от этого волнения, будто это мои собственные стихи.
Голос Зульфии, слегка надтреснутый, теперь звучал по-молодому трепетно.
О, сколько в ней вдохновенного кипения чувств! Сколько любви к людям!
ИСКРЫ
Из книги А. Акбарова о Зульфии я уже знаю: родилась она в семье потомственных литейщиков.
У ее деда Муслима было семь сыновей. Все они, подрастая, изготовляли плуги, омачи[21]21
Омач – соха с металлическим наконечником.
[Закрыть] и другие сельскохозяйственные орудия. Большая литейная печь стояла тут же, в мастерской, возле дома. Два раза в месяц из нее выпускали огнедышащую сталь для заливки форм. Маленькая Зульфия, единственная дочь, любимица родителей и братьев, с восторженным любопытством наблюдала за россыпью каленых искр при разливе. Она не раз просила: «Папа, отлей мне куклу!» Но когда металлическая крошка впивалась в могучую отцовскую грудь, девочке, конечно, уже было не до куклы – ее ловкие, тонкие пальчики не хуже пинцета извлекали эти огненные дробины из кожи.
Однажды, в разговоре с Адхамом Акбаровым, у Зульфии вырвалось такое признание:
– Мне до сих пор хочется сравняться с отцом. Но слову поэта куда труднее высечь искру из человеческого сердца, чем умелым и мудрым рукам из куска металла.
ВЕСЕННИЙ ДАР
…Зульфия лечилась в одной из московских больниц.
Русская зима еще была в разгаре: ярились метели-заметухи, в больничном дворике едва успевали разгребать сугробы, а хмурые ели стряхивали и никак не могли стряхнуть с себя снежные наросты…
Однообразие пасмурных дней навевало тоску по весне на родной земле; в плененной душе больного поэта рождались печальные строфы:
Тоскую снова по весне,
как этот куст, как эта почка.
Тоскую снова по весне душой,
иссохшейся, как почва.
Весна всегда была вдохновенной порой в творческой жизни Зульфии, но как весна была далека сейчас – за тысячи километров! Без Зульфии цвели сады под Ташкентом, звенели арыки горной водой, пели скворцы на стройных чинарах…
Весна! Устав от зимних снов,
от беспощадности суждений,
хочу весенних легких слов,
где безобидный свет без тени.
Однажды Зульфия проснулась с ощущением счастливой легкости в душе и во всем теле. В больничной палате вдруг точно повеяло сладостной весенней свежестью, тонким щекочущим ароматом… Зульфия открыла глаза и увидела на тумбочке корзину с крупной, сочной земляникой. Каждая ягода благоухала и будто истаивала, отдавая все свое живительное великолепие тоскующей душе.
О закрути, разбереди,
весна, как в юности, в начале!
И от меня отгороди
собою все мои печали.
В палату вошла нянечка и сообщила, что земляника доставлена самолетом из Ташкента…
ПОЭТ – ТОЖЕ САДОВНИК
Дворец дружбы народов. И так естественно, что в нем собрались на фестиваль советской многонациональной литературы поэты из Москвы и Ленинграда, изо всех наших республик.
Звучат стихи на разных языках, сливаясь в многозвучный гимн братства.
На трибуне – Зульфия. Бледна, взволнованна. Черные волосы точно взвеяны ветерком вдохновения. Читает стихотворение «Садовник». Четко, ударно каждое слово, звенящие рифмы, и чудится, будто голос поэта превратился… в певучий, неистощимый арык, будто несет он в душный зал, как в засушливый сад, спасительную свежесть горных заснеженных вершин…
Все же я начинаю волноваться за Зульфию. Стихотворение большое, а читает она его на одном дыхании. В голосе поэта уже улавливается надтреснутость, режут слух отдельные хрипловатые нотки. И вот – обрывается поток вдохновения.
– Воды!.. Дайте же стакан воды! – слышит весь многолюдный притихший зал сухое, нервное пришептывание Зульфии.
Какая непосредственность, страстность даже в этом гортанном шепоте! Теперь уже все слушатели переживают за Зульфию; всем понятно, что это неукротимый жар сердца опалил поэта, потряс его.
Стихи, конечно, были дочитаны. Зульфии бурно хлопали…
Вскоре мне посчастливилось познакомиться с переводом стихотворения «Садовник» в журнале «Новый мир». Зульфия прославляла кропотливый и вдохновенный труд садовника тоже со страстной кропотливостью: она подробно и восхищенно описывала деяния творца красоты, а потом – на самой возвышенной, вселенской ноте – заключала и мудро, и тревожно:
Таков и поэт: свой сад сокровенный
Растит он из лучших цветов вселенной,
Из мук и надежд всей жизни своей,
Жжет сорняки да сухие ветви,
Цветы своих дум собирает в соцветья,
Но скажет ли он хоть на склоне дней:
«Сумел я собрать свой букет настоящий —
Как жемчуг, всей радугой жизни горящий!»
ЧИМГАН
В знойно-белесой дымке ранней узбекской осени истаивает уже прибранная, отдыхающая долина. А над ней, в мягкой, словно растопленной, голубизне неба, при полном безветрии, висит белое, холодноватое, отчужденное облако, – висит день за днем и никого не одаривает спасительной тенью…
Но это не облако – это снежная накидка на вершине Чимганских гор, далеких, неведомых, которые разве при ветерке, когда всколышется знойная пелена, призрачно проступят древней крепостной стеной, как сама загадочная вечность.
В одной из статей Шарафа Рашидова я читаю:
В 1937 году, когда отмечалось 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина, группа узбекских поэтов (среди которых были Хамид Алимджан, Зульфия, Айбек) поселилась на склоне Чимганской горы и приступила к переводу произведений великого поэта. По вечерам обсуждали переводы, читали собственные стихи, а с утра – снова за работу.
Наверно, тогда и заструились со склона Чимгана, как звонкие, весенние ручьи, строфы известного стихотворения Зульфии «Пушкину»:
Знаете, я – женщина Востока,
А у нас законы таковы:
С тем, кого мы любим столь глубоко,
Говорить положено на «вы».
Пушкин!.. Люди разных поколений
Чтут у нас ваш лучезарный гений.
…Теперь мне вроде бы и ближе и понятнее стала далекая Чимганская гора. Каждое утро я выхожу за ограду и любуюсь белизной горной вершины, которая, казалось, хранит преданную любовь узбекских поэтов к Пушкину.
И УЛЫБКА, И ПЕЧАЛЬ
Мы вернулись с женой из Ташкента усталые, но возбужденные. Зульфия при встрече в саду спрашивает о наших впечатлениях. Я восклицаю запальчиво:
– В полном единстве с национальной архитектурой рождается современный своеобычный город! Старые глиняные домишки, похоже, охотно, без всякого сожаления, уступают место высотным зданиям. И люди тоже довольны.
Но безжалостной оказывается моя восторженная запальчивость.
– Да, довольны, – кивает Зульфия с улыбкой и… с печалью в глазах, вдруг потемневших, суженных. – Недавно снесли и тот дом, где родилась я. Он стоял на улице Укчи, быть может, лет сто.
Улыбкой она как бы отдает благодарную дань строительной нови, а печалью глаз выражает скорбную примиренность с неизбежным исчезновением достославной старины.
И кто знает, не высекутся ли при столкновении этих противоположных чувств жаркие искры вдохновения и не возгорится ли от них поэтическое пламя в новых стихах?..
НАРОДНОСТЬ
Мать, тихая, с печальными глазами мать, передала любимой дочери свою песенную душу, а сама так и осталась… птицей с подрезанными крыльями: почти всю жизнь провела, как миллионы других восточных женщин, за толстыми стенами глиняных дувалов, в тесном ичкари – женской половине дома.
«Кто в ней погиб – поэт или ученый? – не раз спрашивала себя Зульфия. – Мать знала столько песен и легенд! Она так могла увлечь нас, детей, волшебной сказкой, что та даже при повторе каждый раз звучала по-новому. Слово моей матери творило чудеса. И любовь к этому творящему слову она заронила в меня с детства. Значит, теперь уже я должна увлечь своей песней людей».
С каждым годом креп поэтический голос Зульфии. Она сумела через свои личные переживания прийти к пониманию народных скорбей и радостей. А все, что сама не могла пережить, прочувствовать, – все несла в себе ее героиня, прекрасная, умная, полная любви и силы, нежная и верная узбекская женщина.
И что за диво? Музыка и стих —
Ничто без вас!
Без вашего участья,
Без ваших рук, без ваших глаз живых
Живое просто невозможно счастье!
Несколько веков назад жила красавица Зебинисо, дочь шаха Аврангзеба. У нее был острый ум и жажда справедливости. Она писала стихи, изящные и проникновенные, в которых звучали мотивы скорби и тревоги за судьбу трудящегося люда и особенно за участь бесправных и несчастных женщин Востока. Впечатляет ее дерзкое, гордое признание:
Да, Зебинисо не отворачивала своего сострадательного лица от бедняков. Но когда я перечитываю книги Зульфии, то ощущаю полную слитность поэта с судьбой народной. Отсюда – раскованность стиха Зульфии, естественность ее обращения к своим подругам-современницам:
Счастье женщины? Что ж, я женщин спрошу:
Разве я не счастливей царицы-владычицы?
Я – в народной любви. Я дышу и пишу
Для того, чтобы счастье могло увеличиться.
Я иду по дороге, любимым завещанной.
Прав народ, что счастливой назвал меня женщиной.
ФИОЛЕТОВОЕ ЧУДО
Октябрь начался жаркими днями золотой осени.
Сегодня Зульфия пригласила нас в свой сад. Там поражают молоденькие яблони: растут они, с боков подрезанные, сплющенные, и разместилось их на малой площади в одном ряду целых пятнадцать штук. Но, конечно, всех чудеснее она – чуть распустившаяся фиолетовая роза.
Жена моя восхищена диковинной этой прелестью; руки ее невольно тянутся к бутону, нежно оглаживают его снизу вверх, чтобы ненароком не зацепить, не сорвать какой-нибудь отслоившийся хрупкий лепесток в тонких беловатых прожилках.
– Сейчас я срежу вам розу, – говорит Зульфия, и в голосе ее одна хозяйская доброта.
– Ой, не надо, не надо, Зульфия-ханум! – умоляет жена. – Пусть чудотворная роза живет, дышит, как и остальные.
– И неужели необыкновенная красота этого единственного бутона, – добавляю я в поддержку жены, – должна быть обязательной причиной его гибели?
– Что вы, завтра распустится новая роза! – успокаивает Зульфия. – Смотрите, сколько бутонов – целый фиолетовый цветник!
О, тогда мы еще не знали, что восхищение гостя дарами узбекской земли вызывает в гостеприимных хозяевах лишь беспредельную щедрость.
На следующее утро фиолетовая роза стояла в вазе на нашем обеденном столе.
А потом, уже в пути, возвращаясь в Ленинград, вспоминая это фиолетовое чудо, я просветленно подумал: «Разве не подобен ему редкостный поэтический талант Зульфии! Только цвесть ему, не отцветая».
1982
РОДНАЯ КОЛЫБЕЛЬ
Неподалеку от Березова, всего в ста километрах от города, если плыть вверх по Северной Сосьве, – родина мансийского поэта и прозаика Ювана Шесталова, хотя, кажется, родился он не в Ванзетуре, а где-то в глухом лесу – урмане, на берегу безвестной речушки. Но дело не в этом, а в том, что он, певец семитысячного народа манси, так красочно и воодушевленно воспел жизнь своих предков-язычников, их обычаи и нравы, дошедшие до наших времен, что все эти сосьвинские луга и сосновые боры хочется называть родиной Ювана Шесталова.
Утром в один из погожих деньков я сел на «Ракету» и помчался вверх по Северной Сосьве, в надежде высадиться в Ванзетуре, где проживал отец Ювана, бывший председатель колхоза, тоже опоэтизированный им; а чтобы не чувствовать себя слишком одиноким в дороге, я прихватил с собою своеобразный художественный путеводитель – книгу самого Ювана Шесталова «Югорская колыбель», нечаянный дар местной библиотеки.
Признаться, очень уныла Северная Сосьва в своем нижнем течении! Множеством своих протоков она сливается с Обью и как бы усваивает ее характер. Повсюду широкие заплески в луга, тоненькая береговая линия, наплавные кусты и где-то далеко-далеко синеющая еловая чаща, зыбкая и обманчивая, как мираж, но все-таки намекающая на то, что река может быть и другой.
Прошло, однако, часа полтора, прежде чем та еловая чаща и с ней другие отвесно подступили к Северной Сосьве и притемнили ее синюю, нежную воду. «Но где, однако, Ванзетур?» – всполошился я. Тем более что на угористых берегах с белыми просыпями песков стали мелькать дома, а над нами уже взвихривались мохнатые вершины сосен, почему-то напоминая головы сказочных мансийских великанов.
– Когда же будет Ванзетур? – спросил я в отчаянии матроса.
– У Ванзетура «Ракета» не пристает, – отвечал тот с зевками. – Вам бы на «Петре Шлееве» надо было плыть. А мы без остановки идем до самого Игрима.
Вот тогда-то, как утопающий за соломинку, я в буквальном смысле этого слова ухватился за «Югорскую колыбель» – и она меня приютила, укачала своей мелодией, как плавной волной; она унесла меня в дали и глуби светлой талантливой жизни Ювана Шесталова.
«Жизнь… Когда она коснулась меня? – лилась песня-исповедь. – Когда же этот вечно мелькающий мир в первый раз остановился и проклюнулся во мне тоненькой ниточкой сознания?
Помню: я плакал. В берестяной люльке плакал, со связанными руками рыдал, на солнце ревел, на небо орал. Солнце качает меня и качает. Режет мне глаза и на жарких руках качает.
«Не качай меня, солнце!» – может быть, кричал я.
«Не пали меня, солнце! – может быть, кричал я. – Я и так уже мокрый».
«Не слепи меня, солнце! – может быть, кричал я. – Я еще ничего не успел сделать».
Разве мог я тогда знать, что берестяная моя люлька в другой большой люльке – на калданке-лодке. Ее качают люди. Ее качают волны. Ее качает жизнь».
…А берега все выше – сосновые, светло прошитые березой, и все стремительнее выбегает навстречу река жизни, то гладкая и солнечная, то вдруг взволнованная, печальная, в лад песне:
Дорогая земля, стылый Северный край!
Ну какой мне дорогой идти, отвечай.
Спит в земле моя мать и не слышит пургу.
Сердце сына – орешек в дремучем лесу.
Злобный ветер меня чуть со света не снес.
Хищной пастью меня чуть не слопал мороз.
Как чудовище Менкв, в рослый кедр высотой,
Снежный вихрь просвистел над моей головой.
Уж не мама ль на кладбище плачет во сне?
Танварпеква-колдунья крадется ко мне.
Хочет ниток напрясть из мальчишеских жил.
Как сосновая шишка, упал я без сил…
Но подрастал Юван – и уже по-охотничьи прищуривал глаза, уже приговаривал:
«Кивк! Кивк! Точись мой нож! Кок, кок! Точись мой нож! Братья мои за зверем бегут. Звериный живот мне бы распороть! Печень медвежью мне бы съесть!»
А вскоре из засиявшей солнцем молодой души вылилась такая песня:
Без тебя мне плохо.
Хорошо – с тобою.
Как олень без меха.
Ничего не сто́ю.
Без тебя и лыжи
Не идут по снегу,
И олень обижен
И не годен к бегу.
Без тебя не слышно
Песенки тумрана[23]23
Тумран – губной музыкальный инструмент, сделанный из кости; на нем обычно играют девушки.
[Закрыть].
Появись, чтоб вышло
Солнце из тумана,
Чтоб скользили лыжи
И олени мчали.
Сядь ко мне поближе,
Приласкай в печали.
В Березове я познакомился с библиотекарем Хамитовой, и она рассказала мне об учебе в средней школе вместе с Юваном Шесталовым, о его первом стихотворении, написанном в десятом классе, о том, как он улетал в Ленинград, чтобы поступить в Педагогический институт имени Герцена, на факультет народов Севера. А вместе с ним летела песня:
Я плыву в «крылатой лодке»
По волнистым облакам,
Сквозь родное, сквозь былое —
К неизведанным векам.
Случилось так, что при возвращении домой разглядел Юван с высоты протоку Порипосал, в переводе – «вспять текущую реку».
– Странная река! – воскликнул он. – То течет в одну сторону, то в другую. Когда на Оби большая вода, она течет в Сосьву, когда в Сосьве большая вода – течет обратно, в Обь. Может быть, такие реки и есть в мире, но для меня она единственная: на ее берегах я родился. А у этой излучины, в зеленовато-голубом бору, могила моей матери.
Вернувшись на родину, обогащенный знаниями и культурой, Юван Шесталов, образно выражаясь, грудью припал к преображенной земле предков и подслушал «Песню земли»:
Вий-е! Вий-е!
Я проснулась.
Вий-е! Вий-е!
Оглянулась.
И нашла в густой траве
Слово новое – Эрвье.
Я – мансийская земля!
Вы не помните меня?
За Уралом – снежный хруст
Да березовая грусть.
Думку Суриков рисует
Про окраинную Русь.
Как изба в снегу стоит,
В ссылке Меншиков сидит,
На свои пиры, походы
Нераскаянно глядит.
А теперь нашла в траве
Имя новое – Эрвье!
Имя быстрое – Быстрицкий,
Имя крепкое – Петров,
Имя русское – Урусов
В переборе древних слов.
Вижу в холоде туманов,
Слышу в шелесте вершин —
И Фарман Курбан Салманов,
Ягафаров и Шакшин[24]24
Эрвье, Быстрицкий, Петров, Урусов, Салманов, Ягафаров, Шакшин – первооткрыватели тюменских нефти и газа.
[Закрыть].
Вы ко мне пришли, герои,
Как в легенду, в темный лес.
Есть болото, нет дороги,
И на сотню лет – объезд.
Я дарю вам запах нефти,
Грохот газа, древность слов.
Океан тепла и света —
Все для умных смельчаков.
Но, воспевая новую Югру, поэт печалится, видя замутненное око промазученных озер, гибель нежной сосьвинской селедки, бегство зверей и зверюшек от железного грома гусениц тягачей. И он поверяет покорителям таежной глухомани мудрую сказку старого манси Солвала:
Однажды Мирсуснэхум, посланец верховного божества на земле, увидел озеро. Вода в нем прозрачнее стеклышка. Видно даже, как плавает рыба. Нельмы, как серебристые луны, важно шевелят плавниками. Осетры, как хрустальные хребты, по дну песчаному идут, задумчивые такие. Видно, говорят о чем-то важном, может быть, о своем будущем по-рыбьи рассуждают. И лишь глупая мелочь пляшет, плескается на поверхности, заливается счастливым смехом.
Смотрит Мирсуснэхум вверх. Видит – осина стоит. Ветвей на ней нет, ствол голый. Лишь на самой вершине один листик дрожит. Взял Мирсуснэхум в руки лук и стрелу:
«Собью с осины лист. Попаду или нет?»
Натянул тугой лук, и полетела стрела, попала в середину листа.
«Оказывается, у меня хорошие руки! Я человек! Я самый сильный на свете!»
И, наслаждаясь на берегу прекрасного озера своим могуществом, заснул.
Однажды он услышал, как кто-то бранится:
«Вот тоже человек! Вырастил такие сильные руки, вырастил такие сильные ноги и дает им полную волю. Зачем ты пробил кусочек моей постели?»
Смотрит Мирсуснэхум вверх и видит: на листочке букашка сидит. И поучает его, сильного: «Для тебя этот листочек ничего не стоит, а для меня жизни стоит. Я на нем сплю, и думаю, и работаю. Зачем ты, такой большой, не думая ходишь по земле? Разве сильным рукам не нужен сильный ум?..»
Чем ближе я подплывал к Игриму, поселку газовщиков, тем заметнее сужалась Северная Сосьва и плотнее обступали ее с нагорных берегов сухие сосновые боры. Зато мысли, рожденные после прочтения поэтично-мудрой книги мансийского писателя, требовали простора. Я думал, растревоженный: сколько еще встречается произведений, не согретых теплом малой родины. Похоже, что ни авторов, ни героев тех произведений никогда не убаюкивала родная колыбель и над нею не звучали песни отцов и прадедов. И снова и снова вспоминались проницательные слова И. С. Тургенева: «Вне национального нет искусства».
1974








