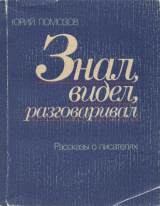
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
И теперь уже никогда не проведаю… Но мне, как и прежде, открыт путь к нему через книги его, в которых живет душа «очарованного странника» и певца бескрайней родной земли.
1975
ТРИ ВСТРЕЧИ В БОЛШЕВЕ
I
В 1952 году в Подмосковье стояла ранняя, почти без заморозков весна. Дачный поселок Болшево с утра до вечера был обласкан солнцем. На липах вздулись, закраснели почки – этакие крохотные угольки, готовые вспыхнуть зеленым пламенем. Среди бурых травянистых оклочьев, особенно на припеке, острилась молодая сочная травка, и почему-то хотелось сорвать ее и пожевать. А снега уже не было и в помине, несмотря на первые апрельские денечки. Неширокая в здешних местах речка Клязьма давно успела опрозрачиться после короткого, но буйного паводка и если временами мутилась, то лишь от сточных вод, которые сбрасывал старенький, закопченный заводик на противоположном берегу.
В лучах весеннего солнца особенно были заметны и змеистые трещины на колоннах, и обитая штукатурка на фасаде Дома творчества кинематографистов. Его вот-вот собирались поставить на капитальный ремонт, но совещание начинающих киносценаристов помешало этому.
Сюда, в Болшево, слетелись из многих краев обширной страны молодые прозаики и драматурги, дабы постигнуть тайны киносценарного искусства. Здесь и тихий, застенчивый башкир Анвер Бикчентаев, и улыбчивый, щуркий киргиз Касы-Малы Джантошев, и белорус Андрей Макаенок – резкий в движениях, с волевым лицом, в неизменно белой льняной рубашке с узорчатой вышивкой на вороте, на груди, и молдаванин Федор Пономарь, чернявый, словно весь какой-то обугленный, с рубцами от ожогов на щеках: в войну он едва не сгорел в танке…
Стремительное знакомство в первый же день, чувство мгновенного товарищеского единения, даже братства, – вот что поражало! Каждый «семинарист», как мы шутливо именовали себя, непременно избирал в соседи по комнате человека другой национальности, ибо все мы были собратьями по перу, детьми одной матери – советской литературы, и всех нас чудесно роднил общий друг – русский язык.
Мне помнится, что худенький, с длинной жилистой шеей, грузин с гортанным голосом Реваз Джапаридзе, автор интересной повести «Вдова солдата», жил в комнате с темнолицым таджиком Джалолом Икрами, у которого всегда спокойно, матово светились крупные карие глаза и движения отличались мягкостью, каким-то плавным изяществом. А весело-грубоватый, со степной распахнутостью души, украинец Петро Лубенский поселился вместе с литовцем Алексисом Балтруносом, сдержанным, немногоречивым.
Как сейчас вижу Марику Бараташвили: задумчивая, она легко, неслышно, будто в грузинском танце, движется по песчаной дорожке в черном пальто среди черных деревьев парка и сливается с ними вдали… До сих пор как бы слышен мне хрипловатый смешок белорусского, уже в годах, прозаика Макара Трофимовича Последовича, а от смеха сотрясается над его высоким морщинистым лбом клок желтовато-седых волос… Памятен мне и детский писатель Юрий Сотник: во-первых, потому, что он единственный из всех ходил в летнем, ослепительной белизны, полотняном костюме, а во-вторых, по причине своей задиристости в спорах с начинающим писателем Георгием Лезгинцевым, статным и курчавым, ходившим в кителе горного инженера, ибо он был срочно вызван из Восточной Сибири, где добывал золото, а теперь намеревался «извлекать золото из словесной руды», по словам того же насмешника Юрия Сотника…
Участниками семинара молодых киносценаристов были также белорусы Иван Громович и Алексей Кулаковский, москвичи Валентина Осеева и Лев Устинов, ленинградцы Никодим Гиппиус и Георгий Трифонов (последний заканчивал сценарий о спортсменах «Большой заплыв»), молдаванин Яков Кутковецкий, туркмен Гусейн Мухтаров, украинец Олесь Ковинька – самый, кстати, старейший из «семинаристов» и самый, пожалуй, жизнерадостный: он сотрудничал в сатирическом журнале «Перец»…
Если говорить о себе, то я, автор двух сборников рассказов, вчерне написанной повести о плавании на самоходке по Волго-Балту, прежде и не помышлял об освоении нового и, по всему видно, весьма трудоемкого жанра, но ехал в Болшево с благой надеждой приобщиться к нему.
Поселился я вместе с Борисом Бедным. Этот крепыш с округло-добродушным лицом, но с твердо выдавленным на нем подбородком, уже поседелый, несмотря на молодые годы, с грустинкой в темных, глубоких глазах, сразу как-то понравился мне своей деловитостью, внутренней дисциплиной. Проснувшись, я всегда видел его за письменным столом, у окна, в которое еще с прищуркой заглядывало туманно-сонливое солнце. Сидел он по обыкновению в трусах и в майке (видимо, сразу после физзарядки) и писал зло, упрямо, с каким-то вдохновенным ожесточением.
О Борисе Бедном я уже был наслышан. Он дебютировал в литературе большим рассказом «Комары», очень емким по насыщенности жизненного материала, по сути дела повестью, в которой досконально и с впечатляющей образностью описывались первые шаги на лесосплаве молодого инженера Воскобойникова. Рассказ был напечатан в «Новом мире» – критики и читатели восторженно приняли его. Затем «Комары» вышли в серии книг библиотеки «Огонька» вместе с другими рассказами – «Государственный глаз» и «В конце месяца». Это случилось незадолго до открытия семинара молодых киносценаристов, и Борис Бедный подарил мне свою первую книгу с трогательной и отчасти ироничной надписью – ирония вообще была свойственна его доброму таланту.
В Болшеве Борис заканчивал сценарий по рассказу «Государственный глаз», потихоньку поругивал привередливого режиссера, но все-таки с упрямством отчаяния продолжал делать бесчисленные варианты, хотя уже производил впечатление человека замученного, порабощенного, даже, пожалуй, лишенного права полного авторства, так как режиссер (не помню его фамилию) привносил в киносценарий много «отсебятины».
Лекции по киноискусству нам, «болшевским семинаристам», читали известные режиссеры и сценаристы, критики и теоретики в области кино И. Пырьев, Г. Рошаль, М. Роом, Г. Александров, М. Блейман, Е. Помещиков, Ю. Райзман, Г. Фиш, И. Вайсфельд, Н. Коварский; намеревались встретиться с нами и причастные к кино в большей или меньшей степени Леонид Леонов и Константин Симонов; шел слух о том, что приедет к нам и Александр Довженко.
Все мы, конечно, с нетерпением ожидали приезда знаменитых писателей – и наконец эти праздничные дни наступили.
II
…Огромная веранда, далеко, как мыс, выброшенная в зеленеющий парк. В приоткрытую дверь врывается теплый ветерок, щебет птиц, солоновато-вкусный запах весенней дышащей земли.
Перед «семинаристами» четко прорезается в солнечных лучах легкая, стремительная фигура Константина Симонова. Он выставил перед собой стул, держится за его спинку, а одну ногу, согнутую в коленке, положил на мягкое сиденье и мерно покачивается – в такт плавно струящимся словам. Чувствуется, что К. М. Симонов, руководящий работник в аппарате Союза писателей СССР, привык часто выступать с трибуны, и в данном случае обыкновеннейший стул уподобился ей.
В сущности, Симонов – не сценарист. С помощью кинорежиссеров он лишь экранизировал свои произведения, в их числе пьесы «Парень из нашего города», «Русские люди», «Жди меня», роман «Дни и ночи». Жанр киносценария – это, пожалуй, единственный жанр, обойденный им, писателем разностороннего дарования, в тот период творчества[5]5
В 60—70-е годы К. М. Симонов успешно выступал как кинодраматург-документалист. Яркий пример тому – фильм «Шел солдат» и сериал «Солдатские мемуары».
[Закрыть].
«Семинаристы» с интересом слушают сравнительно молодого, но уже широко известного литератора. Своим блистательным началом «на заре туманной юности» – стихами и поэмами – он как бы доказал скептикам-критикам, что для каждого истинного природного таланта нет возрастных канонов, что возмужание таланта происходит соразмерно возмужанию писателя как человека, если только он находится в гуще современных событий.
…Мерно льется речь, напоминая длинные словесные периоды в недавно опубликованном романе Симонова «Товарищи по оружию». Мерно покачивается стул, а с ним и фигура нашего собеседника. Да и вообще от Константина Михайловича веет спокойствием, даже, пожалуй, бесстрастностью: видимо, частые выступления в людных аудиториях стали для него докучливой, хотя и терпимой, обязанностью. Разве изредка он встряхнет гладко зачесанными от висков, вьющимися на затылке волосами с ранней сединой или двумя пальцами – большим и указательным – проведет сверху вниз по своим аккуратно подбритым в виде треугольника усикам.
Я слушаю Константина Симонова под торопливое шуршание карандаша стенографистки, на которую тот быстро, властно взглядывает матово-черными глазами – каждый раз после нарочито замедленно произнесенной фразы, вероятно очень значительной и для самого выступающего, и для его нынешних слушателей, и для тех, кто когда-нибудь прочтет записанное выступление.
В общем, К. М. Симонов производит впечатление счастливого, удачливого писателя, «баловня муз»; у него, кажется, и в будущем предопределены одни творческие успехи, ежели опять же судить по спокойно-уверенной манере держаться и говорить с невозмутимой плавностью, говорить – как писать.
Но я все-таки излишне пристрастен и потому, видимо, не совсем справедлив. Симонов вдруг совершенно простецким жестом выдергивает из нагрудного кармана пиджака коротенькую трубку, принимается набивать ее табаком из обыкновенной папиросной коробки, а руки его, тонкие, с голубыми прожилками руки, начинают дрожать… Наконец, закурив, затянувшись, прищурив один глаз, другим же наблюдая, как синеватый клубок дыма распластывается в солнечном луче, Константин Михайлович произносит в тревожной задумчивости и выдает глубоко потаенное:
– Знаете, мне очень хочется, но я боюсь… да, да, поверьте, боюсь приступить к теме Великой Отечественной войны!.. Наверно, надо, чтоб отстоялись все впечатления. Тогда, возможно, отсеется все мелкое, останется главное… И еще надо дождаться второго дыхания.
III
…Идет теплый, спорый, очистительный дождь, после которого обычно трава пускается в бурный рост, деревья и кусты буйно одеваются глянцевитой листвой, а воздух особенно нежно, трепетно голубеет от озона.
Пока же на веранде холодновато, сумрачно. Серым и зябким кажется лицо нашего гостя – выдающегося режиссера и кинодраматурга Александра Довженко.
По всему видно, он переживает трудные времена. Но вся его нервно напряженная высокая фигура выражает вместе с природной горделивой статью и мужественную готовность бойца выстоять при любых обстоятельствах, перебороть безденежье, презреть немилость временщиков.
Медленно, трудно начинает он свой рассказ о постановке кинофильма «Щорс», но мало-помалу чудесной васильковой синью расцветают его невеселые, прищуренные глаза, взволнованно-ярким становится лицо в застарелом степном загаре…
К сожалению, я не записывал высказывания Александра Петровича Довженко о многотрудной работе кинодраматурга: было не до карандаша, не до бумаги, когда сидишь точно бы омываемый кипучим потоком слов, подчас резких, ожесточенных, но неизменно смягчаемых южной, украинской распевностью, высветленных в общем-то доброй, отходчивой душой мастера-творца, который ради выстраданных высоких помыслов всегда умеет подавлять в себе личную обиду и боль, причиненную чиновниками от искусства.
…Утоньшились облака, проглянуло солнце – и свежим, струистым блеском полыхает в парке каждая весенняя веточка, каждый молодой клейкий листок.
Мы, уже духовно приобщенные к бесстрашному художнику, полные сострадательной нежности к нему, провожаем Довженко к служебной машине, а он, растроганный, сам полный к нам заботливой ласки, говорит почти отечески:
– Неудачи в кино неизбежны, хлопцы… Вот я написал сценарий об Антарктиде, многое менял в нем, но пока что не добился своего… Важно другое – вера в собственные силы, способность дерзать и устремляться по-орлиному ввысь ради свершения самых высоких творческих помыслов. Если ж этого нет – тогда хоть камнем вниз…
Прощаясь, Довженко вконец растрогался:
– Так вы, значит, помните меня!.. А ведь я человек, который больше задумал, чем сделал.
IV
Не думал, не гадал я, что когда-нибудь встречусь с любимым писателем Леонидом Леоновым! И вот он передо мной – по-молодому стройный, даже изящный, в плотно облегающем, новом, с иголочки, костюме, с этими характерными и памятными по фотографиям непокорными, на обе стороны рассыпавшимися волосами.
Круглое и открыто-ясное русское лицо, не притемненное ни одной сумрачной морщиной; крупный прямой нос, по-доброму приютивший редкие, во всю верхнюю губу, усики, хотя они кажутся все-таки чуждыми; серые, спокойно-внимательные глаза, задерживающиеся на человеке ровно столько, чтобы подметить в нем и запомнить какую-нибудь неповторимую черточку, – таков, пожалуй, беглый портрет нашего дорогого гостя.
Мы затаили дыхание, ждем, когда заговорит Леонид Леонов и непременно выскажет в первую же минуту что-то мудро-возвышенное, весомое, ибо сам речевой строй леоновских произведений как бы предопределяет подобное ожидание. А он, взглянув на стенографистку, тоже настороженную, но, конечно, по-своему, улыбнувшись ей и как бы улыбкой задабривая, произносит мягким бархатистым голосом:
– Записывать ничего не надо. Мне уже довелось побывать под автобусом.
Последнюю фразу, разумеется, надо понимать не буквально, а исходя из свойственной Леонову повышенной метафоричности и в том смысле, что слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.
Несколько разочаровывает и его явно извинительный тон вступления к беседе:
– Я, видите ли, не прирожденный киносценарист, на сценарном поприще практиковаться не вознамериваюсь, и ежели моя пьеса «Нашествие» увидела экран, то сие событие свершилось вовсе не потому, что я знаю специфику сценарного дела, а скорей благодаря драматургическому заряду, заложенному в пьесе. Поэтому я поведу свой разговор о драматургии…
Здесь Леонид Леонов делает паузу и… вдруг совершенно по-домашнему опрощается, то есть расстегивает пуговицы явно тесноватого пиджака, расслабляет галстук у шеи и тут же широко распяленной рукой захватывает свислые волосы и зачесывает их не хуже, чем гребенкой, к затылку. А я сразу облегченно вздыхаю. Мне уже ясно, что Леонид Леонов не из чувства предосторожности пренебрег стенографией, а именно в силу природной размашистости своей чисто русской натуры, которую, видимо, записи стенографистки так же стесняли бы, как и пиджак.
– Итак, поговорим о драматургии, о ее особенностях, – продолжал четко и звучно после паузы Леонид Леонов. – Помните: зритель не хочет сидеть безучастным в зрительном зале. Его можно удержать на месте, если только он является действующим – пускай без роли! – лицом. Он всегда должен быть одним из углов действующего в драме треугольника, который, на мой взгляд, и представляет собой главный двигательный механизм пьесы. В этом треугольнике – автор, зритель, персонаж – один всегда не знает того, что известно двум другим. Раскрытием этой непрерывно возникающей тайны движется конфликт пьесы. Да тут легче, по-моему, без головы остаться, чем вступить в опасную игру без точного диспетчерского плана!
Здесь необходимо разъяснение: мысли, которые высказывал Леонид Леонов в беседе с нами, «семинаристами», он затем доверил и участникам III Всесоюзного совещания молодых писателей (январь 1956 года), а вскоре включил свое выступление, под названием «Талант и труд», в собрание сочинений. Поэтому я, не полагаясь на свои торопливые «семинаристские» записи в блокноте… и ради строжайшего соблюдения леоновской лексики, продолжу отдельные, особенно памятные извлечения из последующего выступления писателя:
– Мы все еще не слишком хорошо разбираемся в различии литературных жанров. Если, положим, «Иван Петрович пошел в баню» – то это будет проза. Если будет: «И в а н П е т р о в и ч. Я пошел в баню» – то сие считается драматургией. Если же, наконец: «И в а н П е т р о в и ч (нараспев и вприсядку). Эх, мать честная, давно я в баньке не бывал…» – то это будет нечто вроде водевиля с краковяком посередке.
Очень воодушевленно и, я бы сказал, с выстраданным беспокойством за младших товарищей по перу говорил Леонид Леонов о языке художественной прозы:
– Как часто при чтении произведений молодых авторов читатель жалуется на скудный, порою просто убогий язык! А ведь язык – это каким количеством пальцев ощупать вещь, характер, событие. Язык – это дополнительные ступени вовнутрь страницы, по которым можно сойти и осмотреть изнутри описанное явление. Языком для меня мерится грузоподъемность строки. Он для меня как станок, производящий множество одновременных операций. В драматургии же язык несет особую функцию. Здесь каждая реплика действенна и выполняет, кроме основной, множество дополнительных нагрузок, которых никаким иным образом не выполнишь из-за лимита времени и места. Непонятно мне, почему же не пошли молодежи впрок наши замечательные литературные богатства: кипучего, разящего наотмашь, магического языка Гоголя или языка Салтыкова-Щедрина, который мне представляется симфоническим по обилию звучащих в нем инструментов, или Лескова, который копил словцо к словцу и, ровно Кощей накопленным златом, любовался и пересыпал их в руках. И ведь у многих из вас, молодые люди, было по бабушке, по собственной Арине Родионовне, которая, наверно, немало пересказала вам в зимние вечера из уст в уста, из глаз в глаза, даря вам бесценные золотинки родного языка – в сказках, поговорках, приметах и просто воспоминаниях о своем житье-бытье. Откуда же язык у вас иногда такой серый, скучный?..
V
Незабвенная пора «семинарского» ученичества, пусть краткого, но плодотворного!
Со временем некоторые из «семинаристов» овладели трудным искусством построения добротного, динамичного сценария и, думается, благодарно вспоминали тех, кто помог приобрести первые навыки. Назову того же Бориса Бедного, который мастерски экранизировал свою веселую, искрометную повесть «Девчата». Хороший сценарий Валентины Осеевой послужил надежной основой создания умного фильма о детворе. Никодим Гиппиус написал сценарий двух кинокартин – «Старожил» и «Удивительный заклад», а кроме того, сценарий о юности Репина. Его земляк, ленинградец Георгий Трифонов, явился сценаристом телефильмов «Мост разводится в полночь» и «Шоссе через лес». Петро Лубенский – тот одарил кинозрителя знакомством с жизнерадостной, озорноватой «королевой бензоколонки» из фильма, созданного по его пьесе, да еще стал одним из авторов кинокомедии об украинских футболистах. А кто не помнит забавного фильма «Стрекоза» и его сценариста Марику Бараташвили!..
Но и те, кому по различным причинам не удалось подружиться с кинематографом, уверен, не посетуют на время, проведенное в подмосковном Болшеве. Там мы впервые познали чувство товарищеского единения и увидели вместе с весенним цветением земли новые добрые всходы молодой советской многонациональной кинодраматургии.
1952
РОМАНТИК ОСТАЕТСЯ РОМАНТИКОМ
Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Константином Георгиевичем Паустовским в Ялте – и поздней осенью, и зимой, когда Дом творчества почти пуст. Но не только благодетельной тишины искал здесь певец Черноморья, не одна память о молодых скитаниях по Крыму влекла его сюда в преклонные годы. Здешний целительный воздух манил писателя, задыхающегося от астмы.
При первом же взгляде мне запомнилось резко вылепленное лицо Паустовского: сухой нос с горбинкой, с чутко вздернутыми ноздрями, летящие к вискам брови, похожие на изломистые крылья, узкие, но твердые губы среди поперечных крупных складок-морщин. И конечно, печально запомнилась темная, нездоровая желтизна всего лица; навсегда остались в памяти карие глаза – пристально-строгие, почти не мигающие, с золотистыми точками в глубине зрачков, словно там что-то хотело вспыхнуть, разгореться – и не могло.
Вообще при первом впечатлении Паустовский показался мне мрачноватым и неподступным человеком, сосредоточенным на одних своих недугах. Но вот один из знакомых литераторов вовлек меня в общую беседу, а там вскоре я и не заметил, как превратился в жадно-внимательного слушателя.
Сидя в плетеном кресле, под бесстрашно зацветшим миндалем (был февраль), Константин Георгиевич принялся рассказывать о своих многотрудных поисках дома или даже одной его половины, дабы прочно обосноваться в Крыму. Весь рассказ его был насыщен забавными приключениями, множеством метко очерченных характеров и сдобрен юмором весьма своеобразным – каким-то замедленным, когда произнесенное комично-хлесткое, словцо лишь спустя несколько секунд точно бы взрывается в сознании на множество осколков-смешинок. И мы, конечно, смеялись без удержу, непрерывно. А Константин Георгиевич хоть бы улыбнулся! Сидит нахохленный, поглядывает на нас исподлобья, и голос его, некогда, видимо, сильный, густой, звучит надтреснуто, вяловато. Но приглядишься – в карих глазах уже раздулись золотистые точки, лучатся иронией и над участниками этой житейской истории, и над самим собой – горе-приобретателем.
Тогда же я, помнится, отметил про себя, даже втайне подосадовал, что в художественных произведениях Паустовского юмор куда менее ощутим, чем в его устных рассказах. Но тогда же, вдоволь насмеявшись, я проникся сострадательной грустью: под зацветшим миндалем сидит, в сущности, медленно умирающий человек и шутит над своим неумением купить дом, который мог бы продлить ему жизнь в благословенной Ялте!
Константин Георгиевич вообще любил общаться с людьми, особенно с литературной молодежью, и был трогательно добрым, участливым к ее всегдашним треволнениям. Вот поселился в ялтинском Доме творчества студент литинститута, худой, бледный юноша с растрепанными волосами… да и с чувствами тоже, пожалуй, растрепанными. Само собой, он тут же стал изливать перед нами горькую обиду на редакторов, не признающих его стихи, и в конце концов стал декламировать их завывающим голосом. А стихи были хотя и напористые, но – «под Маяковского». Мои знакомые, прозаик и поэт, мигом метнули в эпигона-подражателя критические копья, критика вскоре перешла в язвительную насмешку. Бедный студент едва ли не плакал… И тогда-то внезапно раздался трескучий кашель. Оказывается, спинка плетеного кресла скрывала от нас отдыхающего Паустовского, который сам же не вынес своего деликатного молчания и до удушья взволновался таким судом-разносом.
– Это жестоко, – заговорил он, задыхаясь, с хрипом. – Так нельзя, друзья… Чтобы выдать свой сплав в литературе, надо сначала переплавить в тигле своего сердца творческие манеры многих художников слова.
От встречи к встрече все ближе мне становился Паустовский как человек (ибо как писатель он давно уже был близок – с первых же страниц «Мещерской стороны», прочитанной мною еще в школьные годы).
Однажды в январе выпал в Ялте глубокий снег, долго лежал на земле при крепком морозце, а горные перевалы и вовсе занесло высокими сугробами. Дорожная связь между Симферополем и Ялтой прервалась – продукты в Доме творчества были на исходе. И Константином Георгиевичем овладело деятельное оживление.
– Ничего, не пропадем! – приговаривал он, потирая ладони. – Можно будет организовать лов скумбрии!.. Зафрахтуем какое-нибудь суденышко и все до единого, от горничной до литератора, уйдем рыбачить в море!
Похоже, в нем вспыхнула давняя страсть рыболова и возникла, как в юности, отрадная тяга к приключениям, к романтике. Он был рад, что наконец-то нарушено монотонное, терпеливое житье на местном Олимпе – горе Дарсан; его творческое воображение воспламенилось… И как же он был огорчен, когда в столовую стала поступать скумбрия, выловленная местной рыбачьей артелью!
Известна скромность этого большого художника слова.
Транзисторов тогда еще не было – в вестибюле Дома творчества имелся репродуктор для всеобщего, так сказать, пользования. Но он почти всегда безмолвствовал: писатели ценили свое рабочее время, а работники Дома оберегали их труд от малейшего постороннего шума. Как вдруг узаконенный «обет молчания» был нарушен. Дежурная каким-то образом узнает, что по радио будут передавать утром рассказ Паустовского. Она вызывает его в вестибюль, где, кстати, собираются и писатели.
Константин Георгиевич, однако, и минуты не прослушал. Вздернутые его брови от висков сошлись к переносью, едва ли не сцепились, придав всему лицу выражение мрачной, насупленной скуки.
– Плохой рассказ, – заявил он отрешенно, безжалостно, точно речь шла о чужом произведении. – Он мне не нравится, да и другим едва ли придется по душе. Поэтому я просил бы выключить радио…
Я уже упоминал, что Паустовский трогательно-заботливо относился к литературной молодежи. Он охотно делился с нею «секретами» мастерства. Но находились среди начинающих авторов весьма докучливые, безотвязные – им, как говорится, все вынь да по-ложь!
Припоминается один из семинаров молодых драматургов в Ялте. Константин Георгиевич в ту пору, преодолевая болезнь, упорно работал над новыми главами многотомной «Повести о жизни». Он редко покидал свою комнату; завтраки, обеды и ужины ему приносили прямо к письменному столу. Зато когда приходилось подниматься по лестнице к столовой – отбоя не было от вопросов.
Особенно досаждал Паустовскому один долговязый драматург с бесцветными глазами; своим нудящим голосом он всегда спрашивал об одном и том же: «Как же вы работаете, Константин Георгиевич?»
Не выдержал больной писатель, но ответил по-своему деликатно, не без юмора:
– Работаю я, знаете, не совсем обычно – вокруг кота.
– То есть как это? – опешил начинающий драматург.
– А вот представьте: сидит на моей рукописи любимый кот, даже не просто так сидит, а дремлет, мурлычет, проказник. Ну мне, конечно, жаль его тревожить, и я начинаю ходить вокруг кота и делать записи на краях рукописи.
– Да ведь это же замечательно! – воскликнул простодушный драматург, приняв все всерьез.
Кстати, в каком-то из давних номеров «Литературной газеты», в воспоминаниях одного писателя о Константине Паустовском, тоже рассказывалось об этой забавной истории с котом, но подавалась она именно всерьез, а к ней еще присовокуплялось свидетельство якобы очевидцев: будто Константин Георгиевич делал заметки на папиросных коробках «Казбек», на обрывках газет…
Верится в это с трудом: последние годы Паустовский все реже отлучался от письменного стола – спешил закончить «Повесть о жизни», следовательно, у него под рукой всегда находился чистый лист бумаги.
Теперь – о последней, предотъездной встрече с Константином Георгиевичем.
Выхожу с тяжелым чемоданом на асфальтовую площадку перед Домом творчества – здесь кого-то поджидает такси. Неожиданно появляется Паустовский в коричневом берете, в темно-синем осеннем пальто. Он задумчив, озабочен.
– Садитесь, садитесь, – поторапливает. – Я вас подброшу к троллейбусной остановке.
– А вы куда собрались, Константин Георгиевич? – удивляюсь я, зная его усидчивость, предписанную врачами.
– К Чехову, – отвечает сокровенным шепотом. – Сегодня экскурсантов не будет… Похожу один по дому… Быть может, в последний раз…
Вскоре астма задушила все-таки Константина Георгиевича. И уже не так тянет в Ялту, словно бы осиротевшую без него. Зато все неодолимее влечет к себе скромный домик в Тарусе, где Паустовский провел последние годы. Хорошо бы побывать в нем, уже домике-музее, остаться там наедине со своими думами о большом советском писателе – продолжателе лучших традиций русской литературы, истинном поэте в прозе, который сохранил лирическую ноту в ее мощном звучании, да и не только сохранил, а обогатил бесценный русский язык светлой и задушевной мелодичностью.
1977








