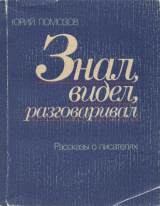
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
ПОСТОЯНСТВО
Прямая натренированная осанка бывалого военного, не поддающегося старости. Медленно-спокойные, веские движения. Слегка откинутая голова с волнистым отливом седоватых волос от высокого лба к затылку. Приподнятый твердый подбородок, особенно броский на широком лице в мягких крупных складках. И – светлые, чуть на выкате глаза с прямым, упорным взглядом…
Таким мне видится Ариф Васильевич Сапаров – прозаик и очеркист, человек немногоречивый, сдержанный в проявлении эмоций, но щедрый на передачу человеческих радостей и тревог в своих документальных книгах.
Как-то критик Яков Назаренко, по-хорошему пристрастный к творчеству Арифа Сапарова, посетовал при встрече со мной:
– Ни одного любопытного биографического факта из него не вытянешь! Скромен, застенчив. А так хотелось бы выведать: откуда у Сапарова пожизненная верность документальной прозе? Писал ли он в молодости беллетристику?
Близилось шестидесятилетие писателя, написавшего около двадцати книг. Накануне своего юбилея он побывал в Луге – родном городе.
– И сколько воспоминаний нахлынуло! – признался мне Ариф Васильевич в порыве какой-то душевной размягченности, а быть может, и просто из естественной человеческой потребности окинуть с мудрой высоты прожитых лет неоглядные дали своего бытия и, пожалуй, подвести некую мысленную итоговую черту.
Меня обрадовала разговорчивость Сапарова. Я узнал, что именно там, в Луге, он еще мальчонкой продавал газеты и что запах типографской краски ему казался гораздо слаще благоухания цветов под окнами родного деревянного домишки. А повзрослев, он по комсомольской путевке уехал из Луги на коллективизацию сельского хозяйства в район Оредежа – многое тогда повидал и, главное, ощутил весь накал острейшей классовой борьбы. Тогда же лужский комсомолец стал одним из учредителей колхоза «9 Января» в деревне Вяжищи, и был избран его председателем.
Еще одно ценное признание: «Запах типографской краски не давал мне покоя, рука сама тянулась к перу». И Сапаров пишет статьи и заметки в лужскую «Крестьянскую правду». Впоследствии становится штатным ее работником. За шесть лет проходит путь от репортера до ответственного секретаря газеты. Часто выезжает с бригадой, состоящей из наборщика с тремя наборными кассами и печатника с маленькой машиной – «американкой», в самые отдаленные сельсоветы и редактирует крохотные газетки «Штурмовка», «Даешь лес!».
– Тридцатые годы еще ждут своих историков и романистов, – рассказывает писатель. – Не только в крупных промышленных центрах, но и в таких городах, как Луга, эти годы были деятельными, насыщенными удивительной инициативой. «Крестьянская правда», всего лишь районная газета, умудрялась, к примеру, устраивать фестивали с участием знаменитого Бориса Бабочкина, кинорежиссеров Эрмлера и Герасимова. А районный штаб комсомольской «легкой кавалерии» (начальником его довелось быть мне) проводил рейды по проверке семенных фондов или колхозных конюшен и вовлекал в эту активную работу сотни и сотни комсомольцев.
Новое признание Сапарова, которое одновременно является как бы ответом критику Якову Назаренко:
– Будучи журналистом, я втайне пописывал стихи… и роман из жизни великосветского общества под названием «Камергер его императорского величества». К счастью, отрезвление наступило быстро: к чему хитросплетения надуманных сюжетов, если жизнь каждый день одаривает тебя бесценными сюжетами, самыми правдивыми и героическими сюжетами!
В конце тридцатых годов завершился «лужский период» молодого журналиста. А там вскоре грянула Великая Отечественная… С самого начала войны до Дня Победы Ариф Васильевич Сапаров в действующей армии. Оборона Ленинграда, штурм Берлина и освобождение Праги – вот славные вехи его боевого пути – солдата и журналиста, редактора армейских газет.
Нелегкая это была жизнь, – писал я в «Вечернем Ленинграде», в статье, посвященной 60-летию писателя. – Зато как много узнано бесстрашных, пламенных сердец! Они, скромные и подчас безвестные защитники города Ленина, стали героями первой значительной документальной работы А. В. Сапарова – книги «Дорога жизни». И можно смело сказать, что в ней, в этой яркой летописи народного подвига, сполна проявились лучшие свойства творческого дарования очеркиста: уважение к факту, бережное внимание даже к малейшему штриху в облике героя, нетерпимость к словесному украшательству, к «подслащиванию» жизни, которая, конечно, в этом не нуждается. Недаром же своей мужественной правдивостью книга «Дорога жизни» приобрела широкую популярность и неоднократно переиздавалась в нашей стране и за рубежом.
В послевоенные годы Ариф Сапаров написал немало интересных очерковых книг, и среди них «Волховские были», «Рождение мастера», «В море и на суше», «Скворцы перелетают Ладогу», «Камень опасности», «Четыре тетради», «Остановки не будет»…
Я часто навещал Сапарова, благо жили мы в одном доме. И вот что я заметил: у писателя не было той «заветной» полочки, где стояли бы строго, по ранжиру, его «дети», рожденные зажигательной энергией мастера, и постоянно услаждали бы его взгляд и тешили сердце. Нет, Арифу Васильевичу, литератору деятельному, окрыленному новыми творческими замыслами, просто некогда было бы на них любоваться! Он почти каждый день встречался с чекистами-ветеранами – сподвижниками Дзержинского, вел неустанные розыски в архивах. И появлялись одна за другой документальные повести: «Битая карта», «Гороховая, 2», «Фальшивые червонцы», «Опасные комедианты». Все они имели довольно-таки скромный подзаголовок «Из хроники чекистских будней», как бы заранее настраивающий на восприятие сдержанного, суховатого изложения событий. Но читал я эти повести и радовался возросшему художественному мастерству писателя, его умению органически сплавлять сухую точность документа с яркой, взволнованной авторской речью, его дару глубоко проникать во внутреннюю жизнь героев.
– Чем вызвано твое стремление писать книги о чекистах? – спросил я однажды Сапарова, и он ответил мгновенно, убежденно:
– Страстной жаждой узнать, какие именно люди защищали революцию.
В разговоре я отметил, что образы славных чекистов, особенно Ланге и Каруся, получились колоритными, но что и трудностей при воссоздании их образов, наверно, было предостаточно: дела-то давно минувших дней!
– Да, затруднений было немало, – кивнул Сапаров вовсе уже поседелой головой. – Приходилось буквально по крупицам воссоздавать и характеры, и внешний облик рыцарей революции. Особенно не «давался» мне Александр Иванович Ланге. И ни одной его фотографии не сохранилось! Значит, волей-неволей пришлось вслепую, с помощью одного воображения, воспроизвести его лицо. А такая обрисовка мало того, что была не по душе мне, – она просто страшила возможным очевидным несовпадением с действительным портретом чекиста. Но что же было делать, если розыски фотографии ни к чему не приводили? И я решился… Я мог, пожалуй, решиться, потому что постиг характер Ланге, движения его души. Именно исходя из поступков героя, я воссоздал его внешний обаятельный облик.
– И что же? – спросил я в нетерпении. – Интуиция сработала?
– Считайте, сработала, – улыбнулся Сапаров широко, без обычной сдержанности, но мне уже не терпелось докопаться до самой сути, и я продолжал расспросы:
– Как же, однако, удалось убедиться в правильности портретной характеристики Ланге?
– А вот как! После выхода моих повестей под одной обложкой я неожиданно получаю письмо и фото Александра Ивановича. И от кого бы, ты думал? От вдовы Ланге! Она пишет, что мне удалось правильно воссоздать внешний облик мужа, что фотография – лишнее тому подтверждение.
Хочется отметить: Ариф Сапаров был не только постоянен в творческой своей манере, в действительно пожизненной преданности документальному жанру, – стоек он был и в своих душевных привязанностях к людям, если находил в них твердую идейную убежденность и безусловную честность в поступках. К таким людям он тянулся, да и они тянулись к нему, веря, что он мудро распутает любой узловатый вопрос в обычно многосложных отношениях между автором и издательством, бескорыстно и без лишней промешки прочитает любую объемную рукопись, ободрит всегда убежденно, без ложного утешительства.
Друзей Сапарова (и недругов тоже) поражала в нем мужественность поведения при любых обстоятельствах. Он долго болел, перенес тяжелую операцию, но болезнь скрывал от знакомых, и, глядя на его крупную, осанистую фигуру, на улыбчиво-светлые глаза, многие, пожалуй, завидовали: «Вот счастливец, которого природа не обидела здоровьем!» Но однажды зимой, живя с Сапаровым в Доме творчества «Комарово», я вдруг заметил: на лице его появилась какая-то костяная желтизна, трогательно-тонкой, совсем ребячьей стала шея, да и вообще он начал таять прямо на глазах. Наши прогулки прекратились. Сердце сжималось от сострадательной боли – невысказанной: Ариф Васильевич не любил расспросов о его «самочувствии»… Однако болезнь слишком, видимо, допекала моего друга, если однажды у него со вздохом вырвалось и недоуменно-горькое признание:
– Знаешь, что-то к вечеру температура поднимается…
Последний раз я видел Сапарова в его домашнем кабинете. Он уже не садился за письменный стол – больше отлеживался на кушетке, хотя и с блокнотом в руках.
– Над чем сейчас работаешь? – поинтересовался я.
– Задумал еще одну документальную повесть, – ответил Ариф Васильевич. – События в ней будут приближены к нашим дням и должны раскрыть всю остроту напряженной идеологической борьбы двух миров.
Глаза его, особенно огромные при впалых щеках, вспыхнули огнем пытливой, дерзающей мысли. И мне подумалось: нет, смерть не будет спешить, она не погасит этого вдохновенного огня!
1973
«МЫ ВЫШЛИ ИЗ БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ»
I
В 1968 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу стихов Юрия Воронова «Блокада», и стала эта тоненькая, состоящая всего из двадцати семи стихотворений книга заметным событием в литературной жизни страны. Приветили ее и высоко оценили в своих статьях и рецензиях Николай Тихонов и Всеволод Рождественский, Михаил Дудин и Сергей Орлов…
Вообще откликов было много; среди них мелькнул в журнале «Звезда» и мой, явно запоздалый отклик, едва ли тогда необходимый читателю, который конечно же давно успел познакомиться со стихами Юрия Воронова. Однако теперь, когда сборник его не раз переиздан и уже включает в себя более семидесяти стихотворений, есть смысл вернуться к прежней своей рецензии и попутно объяснить причину ее «запоздалости».
На счастье, рецензия короткая – приведу ее полностью.
Книга моего сверстника, товарища по суровым блокадным годам Юрия Воронова – это свидетельство мужественного сердца, сквозь которое прошла боль и мука Ленинграда, но которое все-таки не переставало биться в стылых ночах подобно метроному, и донесло свои удары до современников, и потрясло их правдой пережитого.
Читаю стихи Юрия Воронова и представляю себе мальчишку двенадцати неполных лет, исхудалого, без кровинки в лице, с огромными и черными, как полыньи на ледяной Неве, глазами, в затасканном ватнике, подпоясаннном веревкой, так как кожаный ремень давно выварен и съеден, в непомерно больших валенках, какие, пожалуй, и не сдвинешь с места из-за телесной немощи, а сдвинуть все же надобно, иначе замерзнешь, закоченеешь и до школы не дойдешь. Вижу, как он, отогреваясь у печурки-времянки, ест вместо супа бурду из столярного клея; вижу его, нахохленного, на крыше дома во время очередной бомбежки и как бы его глазами смотрю с высоты на город, что в снег до пояса закопан, на улицы, похожие на окопы, в которых уже успела побывать смерть, на пожарища, на стынущие вагоны у пустых вокзалов, на каменного льва с оторванной осколком лапой, на людские очереди за хлебом, что опять короче, чем вчера, на ангела с Петропавловского шпиля (он в который раз уже пытается взлететь, дабы уберечься от обстрелов), на братские могилы у Пискаревки…
Да, были немыслимые страдания голодных и осажденных, была смерть, но было и другое, перед чем она отступила, – будничное, каждодневное мужество ленинградцев. И в том, что школьник Юрий Воронов, взрослевший не по годам, писал тогда, при тридцатиградусном морозе, на остывшей уже давным-давно печурке стихи – в этом тоже было мужество.
Мы знаем:
Клятвы говорить непросто.
И если в Ленинград ворвется враг,
Мы разорвем последнюю из простынь
Лишь на бинты,
Но не на белый флаг!
В стихах моего товарища не найдешь высокопарного витийства, неуместного бодрячества, изощренных сравнений, – нет, его стихи суровы и лаконичны, как сама правда тех дней. Только человек, переживший блокаду, мог написать такие благородно-простые и вместе с тем горделивые строки:
В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом —
Паспорта.
Хотелось бы пожелать талантливому поэту счастливого продолжения его работы над книгой стихов о блокаде: ему есть о чем рассказать! Да и не вся песня еще спета про 900 легендарных дней обороны Ленинграда, про его людей, смертью смерть поправших.
II
Познакомился я с Юрием Вороновым во Дворце пионеров на занятиях литкружка, руководимого поэтом Леонидом Ивановичем Хаустовым в предпоследний военный год, а дружба наша началась на занятиях литобъединения в Доме писателя имени Маяковского – во время оживления, правда еще робкого, литературной жизни после грозной осадной поры.
Люди, пережившие блокаду, сохранившие в облике своем неизгладимые метки пережитых скорбей, узнают друг друга с первого взгляда, как собратьев по общим испытаниям, и сходятся быстро, надолго, если не навсегда, словно их судьбы отныне повинуются неписаным законам блокадного братства. А в Юрии Воронове сразу угадывался именно блокадник, сразу узнавались его характерные черты. Худое лицо Юрия так, по-видимому, и не способно было обрести нежный юношеский овал и румянец – оно остро, костисто прорезалось на скулах, в подбородке и все отливало какой-то нездоровой матовой бледностью. В его больших и неподвижных темных глазах точно застоялся мрак бессонных голодных ночей; его тонкие губы сжимались цепко, с бессознательно отчаянным непреклонством, как бы подавляя давнюю, но живучую боль, а если они вдруг и складывались в улыбку, то это была чаще всего вымученная, зябкая улыбка блокадника, который все еще не отогрелся, не оттаял после ледового плена блокады.
Когда мы познакомились, Юрию Воронову было лет пятнадцать, не больше. Видимо, еще не осознанные до конца впечатления пережитого теснились в его возмужалой не по возрасту душе, которая в своем развитии явно опережала расцвет молодых физических сил.
Юрий, хотя и посещал прилежно литературную студию при Доме писателя имени Маяковского, никогда не делился со мной творческими замыслами, ничего не читал из написанного: была в нем какая-то целомудренная застенчивость, хорошая человеческая скромность, явно воспитанная чувством самокритичности. Да и о блокадной поре он вспоминал неохотно – и не из боязни растревожить незажившие раны (подросткам едва ли свойственна такая умудренная осмотрительность), а скорее исходя из понимания того факта, что блокаднику-сопереживателю совершенно незачем напоминать про былые муки-страдания[15]15
Спустя много-много лет из давней заметки в газете «Смена», перепечатанной в 1974 году журналом «Аврора», я узнал о мужестве пионера Юрия Воронова в годы блокады, о том, как он во время бомбежки спасал раненых из-под обломков зданий.
[Закрыть].
Впрочем, однажды Юрий решился все-таки прочесть мне свое стихотворение. Посвящено оно было победному возвращению советских солдат домой; в нем чувствовалось неподдельное волнение чистой и честной души, созвучно живущей со временем; ему был присущ лаконизм – уже немаловажные достоинства! И я, тогдашний литсотрудник заводской многотиражки «Молот», весьма уверенно заявил смущенному автору, что его стихи достойны печати и непременно будут напечатаны.
Иной автор, увидев напечатанным свое первое стихотворение, пожалуй, решил бы, из чувства взыгравшего тщеславия, закрепить свой успех новыми стихами. Но Юрий и тут остался верен себе: застенчиво поблагодарил меня за дружеское участие, однако больше уже никогда не вспоминал про свое стихотворение, да и новые не читал. Казалось, присущая ему самокритичность чуть ли не обернулась неверием в собственные творческие возможности. При встречах он по-прежнему пылко говорил о поэзии Александра Прокофьева, Веры Инбер, Ольги Берггольц.
При поступлении в Ленинградский университет Юрий избрал отделение журналистики, то есть явно предпочел филологу газетчика.
Теперь мы все реже встречались в его квартире на улице Чайковского, вовсе не виделись в Доме писателя имени Маяковского. Наши пути разошлись и, думалось, никогда уже не сойдутся на литературном перекрестке. Юрий Воронов всю свою творческую энергию отдавал журналистике, – казалось, только ей! Одно время он редактировал ленинградскую молодежную газету «Смена», затем долгие годы был главным редактором «Комсомольской правды». По-видимому, на былое увлечение поэзией он уже посматривал со снисходительной грустью и, вероятно, не раз попрекал себя этим «грехом» молодости…
Но как мы подчас ошибаемся даже в близких нам людях!
Вот я смотрю на первую дату написания стихов в последнем издании книги Юрия Воронова «Блокада» (1942—1946) и понимаю: худенький подросток в самые многотрудные годы вынашивал замыслы своих стихотворений и втайне выводил озябшей рукой при свете коптилки, быть может, эти самые строки, в которых сгусток виденного и выстраданного, дыхание неугасимой героической жизни:
Вместо супа —
Бурда из столярного клея,
Вместо чая —
Заварка сосновой хвои
*
Чтоб воду на пути не расплескать,
Мы молча ждем,
Пока она замерзнет.
*
Наш хлебный суточный паек
Ладонь и ту не закрывает.
*
И через грудь платки
Крест-накрест
Лентой пулеметной.
(Стихи о ленинградке)
*
…О камни!
Будьте стойкими, как люди!
*
Клюкву выдавали
Спецпайком
По семнадцати штук на брата.
Неспроста я выписал эти отдельные строки: в каждой из них свинцовая тяжесть незабвенных скорбей и мук, каждая выстрадана и буквально выхвачена из холода пустынных ночей, из пламени и дыма рвущихся фугасок.
Да, теперь-то мне ясно: Юрий Воронов, если судить и по другой дате написания своих стихотворений (1965—1973), чеканил книгу долго, мужественно, совестливо – в священном трепете перед памятью погибших ленинградцев-блокадников; он не хотел поверять нам, живущим, свою скорбь по ним раньше времени, страшась малейшего неточного, легковесного слова, малейшего душевного надрыва. Вот почему книга его – строгий венок на братской могиле героев-ленинградцев, воистину вечная память о них.
1974
АНГЛИЧАНИН… ИЗ БЛОКАДЫ
Декабрьские блокадные дни 1941 года. Электроэнергия в наше ремесленное училище подается урывками, станки часто простаивают. Мы топчемся в обширном холодном вестибюле – ждем, когда местная, заводская, электростанция расщедрится…
В один из декабрьских дней в вестибюль вошел с улицы моложавый человек в заношенном осеннем пальто, в продранной шапке-ушанке, в громоздких сапогах со стоптанными подошвами. Меня неприятно поразило его округлое, чисто выбритое лицо со свежим, почти юношеским румянцем, – оно выглядело таким противоестественным среди худых, серых лиц моих товарищей! Но поразили также и глаза незнакомца. Светлые, большие, навыкате, они с пытливым сочувствием скользили по нашим голодным лицам и, казалось, еще больше расширились…
Самое удивительное произошло потом. Когда незнакомец покидал училище в сопровождении нашего замполита Аркадия Прокофьевича Скороходова, на нем уже был ватник с надетой поверх форменной черной шинелью с голубыми петлицами, его рваную шапку заменила другая, с кожаным верхом, ушанка, а вместо громоздких сапог красовались новенькие, без всяких подшитых задников, валенки.
Мы, ремесленники, промеж себя решили, что это пожаловал новый мастер производственного обучения, на место ушедшего на фронт мастера токарной группы Федорова. Однако новичок долго не появлялся в училище. Я увидел его только раз – в феврале или марте 1942 года. Лицо его посерело, щеки запали, зато крупные глаза стали как будто еще выпуклее. Видимо, он тоже хватил блокадного лиха…
«Но кто он? Откуда взялся?» – такие вопросы, конечно, возникали у ремесленников… и сразу же забывались. Другое волновало, тревожило в ту пору: когда же наконец увеличат норму выдачи хлеба, когда будет прорвано окаянное блокадное кольцо?..
В третий раз я встретил загадочного незнакомца летом 1944 года на Аничковом мосту. Я узнал его тотчас же по выпукло-светлым, пытливым глазам. Опять же и лицо его обрело прежнюю округлость и гладкость, на щеках играл совсем юношеский румянец, а главное – в этой округлости и гладкости уже чувствовалось что-то улыбчивое, беспечальное и вполне созвучное общему душевному подъему ленинградцев при победных вестях с фронтов.
Эпизодичность таких встреч, конечно, не способствовала их закреплению в сознании, хотя молодая зрительная память вобрала в себя образ незнакомца. И эта память дала себя знать, спустя, правда, два десятилетия. Однажды я проведал Скороходова. Вспомнили мы блокадные годы, многое вспомнили…
– А что за незнакомец тогда появлялся в училище? – воскликнул я, точно вдруг спохватившись, и описал его внешность.
– Это был английский писатель, – ответил Скороходов к моему великому изумлению. – Фамилию его забыл, но, кажется, она начиналась на букву «У»… Англичанин не раз выступал среди ремесленников в общежитиях… Мы его подкармливали как могли…
– И приодевали! – напомнил я.
– Да, и приодевали.
– Но как же он очутился в осажденном Ленинграде, этот англичанин?
– Что-то такое он рассказывал, да память моя стала дырявой…
Прошло еще десятилетие. Я стал работать над рассказами и воспоминаниями о писателях. И вот тогда-то давние встречи с удивительным англичанином-блокадником сразу ожили в памяти. Мне страстно захотелось выяснить все подробности его жизни в осажденном Ленинграде. К счастью, я вспомнил, что поэт Всеволод Азаров в годы войны находился на Ленинградском фронте, и позвонил ему, почти уверенный в его знакомстве с английским писателем.
Так оно и оказалось. Едва я только сказал, что фамилия того писателя начинается на букву «У», как Всеволод Борисович радостно подхватил:
– Это Уинкотт!.. Леонард Уинкотт. Я с ним встречался в годы блокады. Он – из политэмигрантов. Человек замечательный! Редкостного обаяния.
– А не знаете ли вы, где он сейчас проживает? Я хотел бы ему написать.
– Посмотрите справочник писательских адресов. Уинкотт, насколько помнится, был принят в Союз советских писателей тогда же, в блокаду.
Действительно, в том справочнике я нашел адрес Леонарда Уинкотта и без лишней промешки послал ему письмо со множеством вопросов.
Вскоре пришел ответ, столь впечатляющий и столь исчерпывающий, что я не могу не привести полностью это письмо, тем более что за ним стоит большая судьба мужественного человека.
Уважаемый Юрий Фомич!
Вы не ошиблись, я и есть тот единственный англичанин, который пережил блокаду Ленинграда и выступал много раз в различных ремесленных училищах и в госпиталях перед ранеными красноармейцами. Всего за время войны я выступал 200 раз. Хотя мой русский язык хромает, Союз писателей получил много просьб прислать меня. Я не задавал себе вопрос: «Почему именно меня?» – до тех пор, пока не пришлось мне выступить в большом госпитале перед красноармейцами. Перед моим выступлением комиссар объявил, что пришел писатель, а также привезли кино. «Что вы хотите, товарищи, писателя или кино?» – «Какая картина, военная?» – «Да». – «Тогда давайте нам писателя». Я понял, что солдаты хотят отдохнуть. Поскольку я служил в английском флоте десять лет, объездил весь свет, у меня было что рассказать фронтовикам и дать им отдохнуть.
Напишу Вам свою биографию.
Родился я 19/I 1907 г. в городе Лестер (Англия) в семье бедного рабочего. Кроме меня было 7 детей. Отец был каменщиком, безграмотным и страшным пьяницей, часто бил нас, детей, и даже маму. В 14 лет я оставил школу и пошел работать на фабрику, а через 2 года – в 1923 г. – поступил в английское военно-морское училище в городе Шётли. Затем окончил школу подводного плавания. С 1925 года служил на различных кораблях английского военно-морского флота в разных частях света.
В 1931 году, будучи матросом на крейсере «Норфольк», принял активное участие в восстании моряков и был уволен из флота. С 1931 по 1933 г. работал пропагандистом в МОПРе. В 1932 г. вступил в ряды английской компартии. Был кандидатом в г. Амстердаме на 1-й Всемирной конференции против войны. С ноября 1932 г. по январь 1933 г. был делегатом в Москве на 1-м Всемирном конгрессе МОПРа. Вернулся в Англию. Затем был послан в Ленинград для работы в Интерклубе моряков. Работал заведующим англо-американским сектором с 1934 по 1937 год. После закрытия сектора два года работал в промкомбинате Ленинского района города Ленинграда. Принял советское гражданство. С 1940 года работал консультантом при кабинете английской филологии в 1-м Ленинградском гос. институте иностранных языков. В это же время начал печататься в журналах: «Литературный современник», «Звезда», «Краснофлотец», «Советский моряк» и др. 1 июля был призван в ряды РККА. В декабре 1941 года демобилизован. Работал начальником ПВХО в Ленинградском Доме писателей. В 1942 г. был принят в члены Союза советских писателей. Был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Медалью очень горжусь, поскольку я единственный англичанин, который получил эту награду.
С 1957 года живу и работаю в Москве.
В настоящее время я – пенсионер… Награжден медалью «Ветеран труда», которой тоже очень горжусь.
Кроме очерков, рассказов и повестей, которые были напечатаны в журналах на русском и английском языках, я написал книгу «Инвергордонский бунтовщик» – о восстании 1931 года. Книга вышла в Лондоне на английском языке в 1974 году, и я был приглашен в Англию к моменту выхода книги в свет.
В 1977 году книгу перевели на венгерский и издали в Венгрии.
На русском книга не издавалась. Хотя с прошлого года она находится в издательстве «Прогресс» (Москва), но никаких сведений о ее переводе пока я не имею.
На Ваш вопрос, не писал ли я о ремесленниках и о блокаде, отвечу – нет, не писал.
Прошу Вас, Юрий Фомич, передать мой самый сердечный привет Всеволоду Азарову.
До свидания. Желаю Вам успеха. Если я могу Вам быть в чем-то полезным, с удовольствием помогу, поделюсь своими воспоминаниями.
С уважением L. Wincott.
1980








