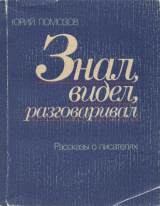
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Ливиу Дамиан, в берете, в кожанке, очень ладный, ждет вблизи телефонной будки у дверей Дома творчества звонка из Кишинева, и значит, есть возможность поделиться своими впечатлениями о прочитанной его книге «Говорящая лоза».
– В ваших стихах, – восклицаю я, – чувствуется напряженная до предела тревога взыскующей совести, боязнь за человека и человечество, которое еще на пути к высокой гуманности, к самоуважению и, значит, к всеобщему миру! А в общем, вся ваша книга пронизана добротой. Да, да, активной добротой!
При последних словах Дамиан улыбается и словно высвечивает улыбкой темное, мрачноватое лицо:
– Вы нашли точные слова. А вот когда ощутимой стала эта активная доброта – я вам сейчас расскажу… Родился я в деревне. Когда началась война, мне было всего шесть лет. Всякого лиха тогда натерпелась наша семья. Мать ходила в поисках еды по деревням, чтобы прокормить меня и двух моих младших сестренок. Мы часто оставались одни в хате. Сестренки, вечно голодные, подолгу плакали. И тогда я решил поддержать их дух. Стал выпускать домашнюю стенгазету «Эхо». Писал в ней веселые стихи, рассказы под голодное урчанье в животе… Это и был порыв активной доброты, которую я, судя по вашим словам, до сих пор не утратил.
* * *
Трудное это искусство – выразить самую суть какого-нибудь значительного явления жизни через емкую деталь, причем в стихах это сделать куда сложнее, чем в пространной прозе.
Вспомним, сколько рассказов, повестей, романов написано о послевоенном запустении наших деревень, об уходе сельских мужиков на городские заработки, о горемычном одиночестве женщин и печали покинутых девчат! А Ливиу Дамиан смог передать всю боль такого запустения и разлада в одной-единственной строфе:
Точно крылья, хищные листы
к солнцу протянул табак пьянящий.
Только он – мужчина настоящий —
здесь подносит девушкам цветы.
* * *
Еще один разговор с Ливиу Дамианом у телефонной будки, при ожидании звонка из Кишинева, но теперь я уже не настроен на одни похвалы. Видимо, слишком памятно осела в сознании афористичная строфа поэта о том, что «восхваленье с кондачка в выражениях пространных – пустомельство ветряка, топот падалиц румяных». И вот я, недолюбливающий «белых стихов», сетую: не злоупотребляют ли ими молдавские поэты, в их числе и Дамиан? Не пустое ли это оригинальничанье – вдруг вводить рифму в середине строки?
– Нет! – отчеканивает Ливиу. – Белый стих дает полную раскрепощенность поэту, а неожиданность внутренней рифмы позволяет сделать логический нажим на отдельные строки.
Тогда у меня возникает невольное любопытство: а что, собственно, способствовало «обживанию» белого стиха в молдавской поэзии?
– Лучше было бы сказать, кто способствовал, – поправляет Дамиан. – Ну конечно же латиноамериканские поэты, и в первую очередь Пабло Неруда. Я очень люблю его поэзию и выражаю свою любовь к нему… переводами. У меня уже три варианта переводов его сонетов, но, видимо, придется сделать и четвертый: переводить Неруду вообще нелегко.
В орбиту нашего разговора сама собой входит новая тема, и я стараюсь как бы подхлестнуть ее своим подзадоривающим вопросом:
– А ведь, пожалуй, и вас, Ливиу Степанович, нелегко переводить? Ведь в ваших стихах главное – сюжет мысли, причем разветвленной мысли…
* * *
Продолжаю читать Ливиу Дамиана – и белые стихи обретают «постоянную прописку» в моем сознании.
Мы живем меж двух цивилизаций.
Одна уже замкнула дверь, закрылась.
Другая сотворяется еще.
И потому поэт похож на кактус.
Но можете приблизиться к нему:
Он странный кактус,
Он – шипами внутрь.
Такие строчки захватывают читателя философичностью, он уже не замечает, рифмуются строчки или нет.
Ливиу Дамиан – видная фигура не только в молдавской, но и в общесоюзной поэзии. И, как всякому оригинальному поэту и человеку, ему сопутствует молва народная.
Однажды заезжий московский литератор спросил у Дамиана, читал ли он один скверный, но скандально нашумевший роман.
– Что вы, – безмятежно ответил Дамиан, – мы ведь провинциалы. Мы пока еще только Плутарха читаем.
* * *
Меня поразила поэма Ливиу Дамиана «Прежде всего». Он нашел неожиданно счастливый подход к ленинской теме; его стих льется свободно, естественно, как человеческое дыхание. Поэтому и обращение к вождю на «ты» кажется органичным в ткани стиха:
Ты нарубил сушняка для костра
и измерил костром продолжительность ночи,
и узнал, что хоть ночь длинна,
но и ей приходит конец.
Конечно, поэма «Прежде всего» потребовала от поэта предельного напряжения мысли и неустанных поисков формы для наилучшего выражения этих мыслей.
– Несколько лет назад, – рассказывает Ливиу Дамиан, – когда я читал письма Владимира Ульянова из сибирской ссылки, адресованные родным и друзьям, у меня возник замысел поэмы. Я понял, что три года, проведенные в ссылке, сыграли особую роль в окончательном формировании личности того, кто впоследствии станет Лениным. С письмами я не расставался несколько месяцев. Захваченный грандиозностью и благородством ленинских мыслей, я ждал творческого озарения. Но радость эта медлила прийти ко мне. Видно, я слишком глубоко вошел в материал. Мне уже нечего было открывать.
Как-то весной я приехал в Ялту. Море, горы… И вдруг начал писать. Работал напряженно. В поэму вошло все: радость возвращения к давнему замыслу, который я уже считал потерянным для себя, воссоздание в памяти документального материала (самих писем у меня с собой не было), волнение, рожденное встречей с морем и горами, тоска по кодрам, счастье жить, любить и быть любимым. Даже последние известия – все проникало в мою душу, то замедляя поэму, то подстегивая и ускоряя ее течение. Я пытался, пока писал ее, постичь до самых глубин состояние сопротивления, борьбы, любви, слияния с полями, горами, реками, с историей – со всем тем, что мы зовем Родиной. Я не комментировал жизнь Ленина. Я попытался пережить несколько вершинных мгновений его жизни.
* * *
…И опять я читаю стихи Ливиу Дамиана.
И если исчезнет, иссякнет
река и ее родники,
кто станет, прекрасная липа,
баюкать твои лепестки?
И если падет лошаденка,
кто ржаньем ответит холму,
над чьей раззвенеться дорогой
звезде, освещающей тьму?
И если поющая птица
вдруг рухнет, в пыли и крови,
кто сможет на свете поведать
любимой моей о любви?
И если за листьями следом
леса побредут под дождем,
кто скажет: послушай, Иване,
присядь перед долгим путем?
Какая щемящая, выстраданная мелодия! Она течет по вашему нерву к сердцу, и вы содрогаетесь не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вашей душе угадан так верно и проницательно. И в вас невольно возникает желание заступиться за поруганную природу.
* * *
Творчество Ливиу Дамиана – слишком сложное явление в современной молдавской поэзии, чтобы его уяснить сразу. Я лично думаю, что «мыслительные» стихи Дамиана созданы… как бы на опережение читательского восприятия: пусть-ка он, читатель, дорастает до полного их понимания, и тогда он возвысится над самим собой, кругозор его расширится, а собственная мысль станет богаче.
Не мне, однако, давать исчерпывающую оценку творчества Ливиу Дамиана, да и не все его стихи и поэмы из четырнадцати сборников знакомы мне. Лучше следует прислушаться к такому, например, суждению одного из молдавских критиков:
Дамиан весь соткан из противоречий. Но еще Бодлер сказал: «Священнейшее право человека противоречить себе». Хотя к поэтике Дамиана скорее всего применим афоризм Нильса Бора: «Противоположности не противоречивы, а дополнительны». В стихах Дамиана – сгущенная речь, четкий ее тембр. Мысль поэта, как травяное снадобье, настаивается на сложности, стремясь все назвать, все «излечить». Но его язык стремится к простоте, скидывая с себя трудности. А мысль по-прежнему наслаивает на себя эти трудности. И оттого единство его поэзии не искусственное, а внутреннее, глубинное, живое.
Оригинально выразился об особенностях поэзии Ливиу Дамиана собрат по перу Виктор Телеукэ:
– Как провода после многих сложных извивов наконец выходят на прямое соединение, так и мыслям поэта сопутствует эта извилистая сложность перед выходом их на ясную, ударную позицию. Короче говоря, для моего товарища характерна… сюжетность мысли.
Ну а каковы раздумья самого Ливиу Дамиана о своем творчестве, о поэзии вообще?
Что есть поэзия? Привой
усталой мысли вековой
на новую. А может быть,
наоборот. Слепая прыть
ножа – надрез лозы живой.
Раненье – от него острей
чувствительность немых ветвей,
сочнее изумруд листов,
румяней зарево листов.
Итак – надрез, итак – привой,
дрожание лозы кривой,
соединяющей шутя
два содроганья бытия,
чтоб, сгинув, новой стать листвой,
чтобы из раны ножевой
пробилась веточка – дитя.
ВИКТОР ТЕЛЕУКЭ
Поэт Виктор Телеукэ – еще и главный редактор молдавской литературной газеты. Держится несколько особняком, чуть настороженно из усвоенной редакторской привычки самозащищаться от слишком назойливых авторов. Но взгляд его усталых глаз под набрякшими веками все-таки добрый, и все лицо по-доброму мягкое, доверчивое.
Но как войти в мир души Виктора Телеукэ?
Я беру в библиотеке его сборник «Портреты во времени». Мне уже хочется воссоздать портрет автора по отдельным строчкам его стихотворений.
Какого он рода? Ну конечно же крестьянского.
Если б мог я солнце заслонить туманом,
Отдых и прохладу принести крестьянам.
И разве городской житель мог бы создать такие стихи:
Несутся стоны над селом
двух мельниц
на ветру сквозном.
Их жернова под шум ветров
всё мелют тишину веков.
Тысячелетия, века
гудят ветры,
сквозь годы сеется мука
из тьмы и света.
Узнаю из стихов и о дочках поэта: «два белокурых смысла жизни моей». О его любви вообще к детям: «Если б не дети, разве б могло солнце заглядывать к нам в село?» Но он же, взыскующий, растревоженный, обращается к юному поколению с отцовским советом:
Школьники, исписывая тетрадки, перьями не скрипите,
усердие ваших вечерних гитар
хотя бы на миг смирите!
Видное место в творчестве Виктора Телеукэ занимает любовная лирика. Любовь для него, как и для каждого поэта, – самое прекрасное озарение.
Мне кажется, руки твои, как ветви,
исхлестаны сумасбродным ветром,
но все же их слабое прикосновение
смягчает дней моих напряжение,
и черная тень моя тает,
и вместо нее твоя вырастает,
охлажденная ветром,
обновленная ветром,
смирённая ветром.
Что же касается доброты поэта, то она безгранична, а после знакомства со стихами «Приглашение на обед» ее и вовсе можно назвать вселенской добротой.
Стол я украшу солнцем и свежим весенним ростком,
а коль засидимся до вечера – звездами и луной,
наполню кувшин деревенским сладким парным молоком,
вино радушья налью до краев в другой.
Образна, метафорична и полна философии поэзия Виктора Телеукэ. Она дышит свежестью лиризма и вся пронизана остротой мысли. Пожалуй, они задают тон всем стихотворениям; они подчас даже перенасыщают их. Но все же поэт научился управлять «мыслительной стихией». Об этом свидетельствует такое его необычное признание:
Когда вселенная во власти бессловесности,
ночью я объявляю мобилизацию мыслей.
Одни из них атакуют, другие подчас отступают:
мысли ненависти, мысли любви.
Всюду, где я прикажу, приземляются парашюты.
Я опускаю десанты мыслей
партизанским широким фронтом…
Под утро я отбиваю вечернюю зорю,
мыслям приходит пора отдохнуть.
Те из них, что погибли в неравном бою,
я хороню в минутах,
обелиски леплю из мгновений
и помечаю,
за какую они высоту пали.
Такие мысли формируют общественное сознание Виктора Телеукэ как поэта-гражданина; он полон глубоких раздумий над быстротекущей жизнью, над суетностью людской, когда не замечаешь ни листопада, ни часа молодого вина, ни веселых стай мирных аистов. И того порой не замечаешь, как «в земле заржавленные пули спят, но пробиваются листвою красной на виноградниках сердца солдат»…
Так в своем сборнике «Портреты во времени» поэт сотворил и свой собственный образ, близкий моей душе и, смею думать, читателю. Но все же я испытываю необходимость и личного знакомства с Виктором Телеукэ. Мне хочется в ответ на его щедрые душевные откровения распахнуть благодарно и свою читательскую душу, поделиться впечатлениями о прочитанном.
Как это нередко случается, желанные знакомства происходят в самые последние минуты. Виктор Телеукэ должен уехать в Кишинев. Он вышел в парк на прощальную прогулку. Под глазами его набрякли мешочки – следы неустанной работы, когда голова постоянно склоняется над письменным столом.
А сейчас Виктор Телеукэ смотрит ввысь, на вершины кипарисов в угасающем золоте последних лучей, и как бы сливает с ними свой грустный взгляд.
Я медленно приближаюсь к поэту, но меня еще раньше выдает звонкий хруст кипарисовой шишки. Виктор Телеукэ оборачивается и вдруг произносит с сожалеющей ноткой в голосе:
– Вот уезжаю… И поговорить не пришлось.
– Да ведь лучше поздно, чем никогда! – восклицаю я.
– Тогда пройдемся немного…
Первая и последняя прогулка! Прощальный разговор. Я спешу выговорить свои впечатления о сборнике «Портреты во времени», – спешу потому, что мне куда важнее выслушать суждения самого Телеукэ о поэзии, о литературе вообще.
* * *
…После отъезда Виктора Телеукэ я записал отдельные высказывания этого интереснейшего молдавского поэта, самого, пожалуй, «философичного» из всех, особенно склонного к гиперболизму, к возвышению земного до «вселенского».
Как по-разному звонят колокола, так и в стихотворении должно быть многозвучие или даже разнозвучие, при единстве мысли и чувства.
Да, вы правы: в моих стихах есть сбивы ритмические. Но размер нарушается сознательно – для перехода одной тональности в другую, для большей запоминаемости произведения.
Много читаю поэтов братских республик. Интересна эстонская поэзия и всей Прибалтики. Есть в ней грустное что-то, северное.
Начал изучать геометрию Евклида, труды Лобачевского. Попутно пришел к выводу, что в поэзии множество параллелей может сходиться в одной точке – человеческой душе, тогда как в геометрии такое якобы маловероятно.
Родился я в деревне, которой больше шестисот лет. В свое время она была передана господарем боярину. С ней связано много тяжких впечатлений детства. Помню, как немцы расстреливали моего отца, но пуля скользнула по щеке, попала в плечо и вышла сквозь лопатку… О родной деревне написал поэму. А всего у меня написано четыре поэмы. На русский они пока что не переведены: не найти сомысливателя-переводчика, который мог бы проникнуть в стихию твоих образов, дум. Да и труден был бы перевод из-за внутренней рифмы, из-за ритмических сбивов…
Вспышки звезд и вспышка вдохновения – разве нет между ними связи!
Мне довелось побывать в Анголе – и вдруг, находясь один в номере гостиницы, я стал писать о космонавте Волкове. Мне вспомнился памятник герою в Москве. Поразили тогда его космические глаза, устремленные в небо, а за спиной его – переломленная орбита… И Волков словно бы вышел из сумрака вечности и вошел в сумрак земной, ко мне, – и мы стали говорить…
Через фильтры своего сознания я как бы процеживаю мысль, хотя многое в моих стихах остается нарочно непроцеженным: пусть думает, домысливает читатель.
1982
О ЧЕМ ПОВЕДАЛ ХАКАС
Зима 1958 года. Ялтинский Дом творчества…
Как сейчас вижу тихого, бледного, грустного Петра Дорошко с неразлучным веселым Иваном Неходой, немногоречивого Тихона Семушкина и щедрого на шутку Виктора Бокова, скромного и вежливого пермяка Льва Давыдычева и всегда порывистого казаха Саттара Сейтхазина со знойной, будто марево, дымкой в раскосых степных глазах…
В середине января приехал крепыш с большой круглой головой, плотно вжатой в квадратные плечи, со сдержанными, медлительными движениями, за которыми, однако, угадывалась какая-то напружиненная, умная сила. Ко всему он был скуласт, узкоглаз и бронзовато-смугл по-восточному. Держался с первого же дня особняком.
– Кто это? – спросил я у поэта-киевлянина Петра Усачева, человека всезнающего, по-хорошему любопытного и приметливого.
– Николай Доможаков, – без промешки ответил тот. – Поэт из Хакасии. Впрочем, говорят, он и прозу пишет.
Шли дни, а писатель-хакас не выказывал ни малейшего намерения сблизиться даже с соседями по столу в столовой. Молча поест, вытрет губы салфеткой и уйдет с наклоненной вперед округлой, коротко стриженной лунообразной головой, со слегка отведенными от боков руками, чем-то напоминая борца, хотя, конечно, приходилось ему сражаться лишь с непокорным словом.
Однажды я попытался заговорить с литератором из далекой Хакасии – он что-то буркнул в ответ и скользнул по моему лицу косящим взглядом из щелки припухлых век. Так осенний солнечный луч, вырвавшись из ненастных туч, равнодушно скользит по равнине…
Сделал попытку накоротке сойтись с Доможаковым и Усачев. Но, несмотря на благоприобретенную поллитровку, знакомство тоже не состоялось: нелюдимый хакас захлопнул свою дверь перед самым носом незваного гостя.
– Брезгует! – вырвалось с досады у моего приятеля. – Вот тебе и дружба народов. Похоже, он просто недолюбливает нас. Наверно, в его жилах течет кровь богатых предков – князей.
Я рассмеялся:
– Отдаю дань твоему поэтическому воображению, но все может оказаться гораздо проще: человек вырвался, предположим, из каких-то семейных передряг и с жадностью накинулся на работу, пишет запойно.
– И все-таки я познакомлюсь с Доможаковым. Все о нем узнаю, – помолчав, упрямо заявил Усачев.
– Боюсь, тебе это не удастся, – выразил я сомнение.
– Нет, удастся! Я страсть какой любопытный до людей.
– Да люди-то разные бывают!
– Нет, я познакомлюсь, – твердил упрямец. – Готов даже поспорить с тобой.
– Каковы же условия спора?
– Проигравший в споре… едет изучать характер хакасов на их родину.
Я улыбнулся, приняв такие условия за шутку; тем не менее мы азартно сцепили руки, а проходивший мимо по коридору Иван Нехода разнял их…
Как вдруг на следующий день спорщики узнают: утром Николай Доможаков получил телеграмму из Абакана и срочно выезжает.
– Ты проиграл! – крикнул я, торжествующий, Усачеву, бледному и подавленному. – Тебе, согласно уговору, придется все-таки поехать в Хакасию! Следом за ее уроженцем.
Усачев ничего не ответил, лишь рукой махнул с какой-то комичной обреченностью – и исчез… Пропадал где-то до самого вечера…
А вечером он внезапно заявил с победоносным видом:
– Все же ты напрасно радовался. Наше знакомство состоялось.
– Чепуха! Доможаков уехал, и как же ты теперь докажешь это?
– Дождись утра – доказательства будут!
Я был заинтригован настолько, что вечером мне не работалось за письменным столом, ибо жизнь куда интереснее даже предельно заостренных, изощренных сюжетов с самыми неожиданными концовками-развязками.
Утром, после завтрака, я уселся с Усачевым в плетеные кресла под кипарисами.
– Так ты жаждешь доказательств моего знакомства с Доможаковым? – спросил он с усмешкой. – Тогда слушай…
И, помолчав ровно столько, чтобы насладиться моим сконфуженным видом, товарищ заговорил спокойно, веско:
– Николай Георгиевич Доможаков родился в Уйбатской степи, в улусе над рекой Изых, близ базальтового утеса. Родился в дымной юрте бедняка. Дым с младенческих лет выедал ему глаза – зрение портилось. Тем не менее мать, как подрос Николка, отдала его в услужение местным баям. Чтобы не умереть с голода, паренек пас коней в степи в любое время года. Он слышал, как в их зубах снег, пропахший чебрецом, хрустит пополам с мерзлой травой. Его больные глаза слезились на ветру и были красные, как брови глухаря… Разутый, раздетый, он был худ и дрожал, словно веточка.
– Убедительные подробности, – пробормотал я. – Но когда же Доможаков успел обо всем этом рассказать тебе?
– Слушай дальше… Николка слеп, солнце уходило из его глаз. В беде сдружился с русским пареньком Ваней Василенковым. Однажды они пошли собирать коренья саранок для еды. Взобрались на холм, похожий на круп коня. У холма под названием Красный Яр речка Уйбат коромыслом выгнулась. Много здесь росло саранок. Друзья набрали их вдоволь и песни запели, как жаворонки. Вдруг надвинулась страшная туча. Разразилась гроза с градом. Николка сразу закашлял. Тогда Ваня закутал его в свой шабур – плащ с капюшоном. Отогрел друга шабуром и… сердцем своим. С тех пор навек побратались – хакас и русский.
– О чем же еще поведал тебе Доможаков? – спросил я, уже больше, пожалуй, заинтересованный, чем сомневающийся в знакомстве приятеля с хакасским поэтом.
– Еще он поведал легенду о Лиственничной горе. Бай послал батрачку в тайгу за ягодой. Она положила сына-первенца у горы в мрачных лиственницах, сказала ей: «Оберегай его от злого ветра! Отведи любую беду! Я скоро вернусь». Но долго, очень долго не возвращалась несчастная женщина. Туес был огромный, его следовало доверху наполнить ягодой, иначе прогневается бай. Как вдруг по лесу пронесся тревожный шум: «Проснулся твой сыночек! Распахнул пеленки!» Мать встревожилась – кинулась обратно. Да сбилась с дороги, потеряла туес. Мечется взад-вперед, а лес повсюду стеной стоит. Закричала тогда: «Помнишь ли, гора, мольбу мою?» Молчит Лиственничная гора… Всю ночь ждала мать отклика. Наконец занялось утро. Мимо бежит легендарная река Пого, вся в розовой пене. На берегу орел моет окровавленный клюв. И только лишь взглянула батрачка на хищную птицу – все сразу поняла, вмиг поседела. А слез выплакала столько, сколько звезд на небе. Одна ненависть осталась в душе: «Будь ты проклят, бай, что послал меня в тайгу!»
Рассказ Петра Усачева поразил меня яркой поэтичностью – я уже завидовал удачливому товарищу: ведь надо же, успел каким-то немыслимым образом сойтись накоротке с Доможаковым, разбередил его суровую душу, вызвал на откровения!
Вскоре, однако, выяснилось, что завидовать-то, собственно, было нечему. Зайдя во время прогулки по набережной в книжный магазин, я увидел на прилавке стихотворный сборник Николая Доможакова «Поет река Абакан», тут же купил его, стал читать… И каково было мое удивление, когда то, о чем рассказывал Усачев, оказалось всего-навсего изложением многих стихов хакасского поэта, очень событийных, сюжетных.
– Обманщик! – вскричал я, как только узрел в парке близ Дома творчества лукавого своего приятеля, и потряс в воздухе книжкой: – Вот какое твое знакомство!
– А что, разве это не знакомство с Доможаковым… при помощи его же стихотворений? – с невинным видом отвечал Усачев. – Недаром же поэт Александр Прокофьев сказал: «Вся моя биография разошлась по стихам». Так что спор я выиграл. А ты… ты собирайся сейчас же в Хакасию, раз проспорил.
Шутка шуткой, но в этой дальней сибирской стороне мне пришлось побывать, – правда, спустя много лет. Ветер странствий увлек меня туда. Я побывал и в городе Абакане, но Николая Георгиевича Доможакова уже не было в живых. Я встретился… лишь с героями его романа о становлении Советской власти в Хакасии. В те дни почти во всех кинотеатрах города шел двухсерийный фильм «Гибель черного орла», поставленный по произведению Доможакова, – остросюжетный, драматичный по социальному накалу фильм.
1979








