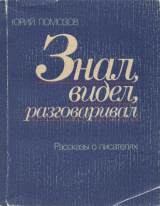
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Знал, видел, разговаривал
УРОКИ УЧИТЕЛЕЙ
«СЧАСТЛИВОГО ХОЖДЕНИЯ ПО ВОЛГЕ»
Мне всегда везло на знакомства с хорошими людьми. Среди них оказалось немало писателей – тех, кто как бы сгущал в своем сердце людские радости и тревоги, кто умел в ярком слове выразить самую суть народной жизни. Встречи с такими самобытными творцами всегда были для меня праздничным озарением, дружеское общение с ними – непреходящим счастьем.
Константин Федин… Давно уже полюбились мне фединские произведения – в каждом я находил поэтическое очарование. «Города и годы», например, пленили мое воображение новаторской формой письма и сложностью психологической обрисовки героев. А книга «Братья» – о музыканте Никите Кареве – сама, помнится, прозвучала прекрасной и мужественной музыкой в честь Революции. И уже выдающимся стилевым искусством, полновесностью каждой фразы, высотой взятого и выдержанного до конца повествовательного тона покоряли романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето», с их живописными картинами безудержных просторов Волги и сценами стародавней жизни саратовских улиц, куда впечатывала свои железные шаги революция воспрянувшего народа.
С этим проникновенным художником-летописцем мне довелось познакомиться и посчастливилось постоянно ощущать излучение его дружеской и взыскательной доброты во время работы над книгами о Волге.
Конечно, всю щедрую меру отпущенного мне фединского внимания я, без самообольщения, отношу на счет звучащей в моих книгах волжской темы, столь близкой сердцу Константина Александровича, волгаря, саратовца, и именно поэтому считаю ее завышенной. Но случайной ли?.. Нет, пожалуй. Федин всегда с горьковским постоянством старался откликаться на книги молодых писателей и при случае поддержать их.
Думается, мой пример – лишнее тому подтверждение.
СПУСТЯ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ
В 1950 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя первая книга. Называлась она «Наши товарищи» и включала ранние рассказы о Поволжье и лесостепной Тамбовщине.
Первая книга! Автор в начальную пору праздничной радости не расстается с ней ни на миг: на сон грядущий он кладет ее под свою подушку, а утром, еще не согнав липкий туман с ресниц, вчитывается в собственные строчки с такой блаженной отрешенностью, будто и не он написал их в минуты кропотливого труда. А сколько потаенно-стыдливых мыслей о славе, о молниеносном признании твоего таланта пробуждает эта первая книга – хрупкое и в общем-то беззащитное создание, укрывшееся за картонной обложкой, пахнущее солоноватым, маслянистым запахом типографской краски, которую, однако, вдыхаешь, как душистую свежесть зацветающего луга!
Свою книгу я, конечно, вручил друзьям, раздарил знакомым. И вот однажды в мою сырую полуподвальную комнатушку в старинном Крутиковом доме за Невской заставой вбегает восторженный мой приятель Алеша Гребенщиков, в то время студент Ленинградского университета, худой, с впалыми щеками юноша, чудом выживший, как, впрочем, и я сам, в блокаду, стремительный и угловатый в движениях, с быстрым говорком. Он тут же, с ходу, сообщает, что отправляется в дальние края, к родным, по пути заглянет в Переделкино, на подмосковную дачу Константина Федина, друга своего отца по двадцатым годам, и, само собой, вручит мой сборник рассказов знаменитому писателю.
Я растерялся. Теперь, когда представлялась нечаянная возможность передать книгу прямо в руки искуснейшего словесного мастера, радость первых дней вмиг сменилась мрачным чувством недовольства. Собственные рассказы вдруг показались мне всего лишь ученической пробой пера.
Но сомнения сомнениями, однако и соблазн был велик – выйти с первой книгой на суд большого русского писателя. И с отчаянием робости я написал Константину Федину неловкие слова посвящения, в которых было все: и смятенная надежда на отеческую отзывчивость, и восторг преклонения ученика перед учителем…
Да, я любил Федина-писателя! Тем горше было молчание его. Проходили месяцы… вот уже и год минул с той поры, как хороший друг отвез маститому писателю мою книгу, но желанного отклика все не было. Исподволь стала расти обида на Федина, который, по моим понятиям, являлся восприемником горьковских заветов в советской литературе и, следовательно, должен был без всякой задержки отозваться на книгу начинающего автора. И хотя я убеждал себя в том, что Федину мои рассказы не «приглянулись», что его молчание – вынужденное, деликатное, все мое существо, жаждущее правды, какой бы жестокой она ни была, не хотело, да и не могло примириться с мыслью о снисходительной пощаде: это же было не по-горьковски, не по-горьковски!..
Проходили годы. Минуло уже целых шестнадцать лет со дня выхода моей первой книги. И вот однажды, зайдя в магазин «Академкнига» на Литейном, я приобрел интересный сборник «Творчество Константина Федина». Сборник поражал своей многослойностью: он включал и монографические статьи, и теплые воспоминания друзей, и добросовестную библиографию произведений Федина, и его письма давних и недавних лет…
Когда я прочитывал 379-ю страницу сборника, то вдруг ощутил праздничное озарение.
«На днях, – писал К. А. Федин в 1950 году А. А. Фадееву, – вышла в «Советском писателе» книга Юрия Полозова с интересными маленькими рассказами «Наши товарищи». Видно, что у молодого писателя (это дебют) есть вкус к этому жанру…»
Так сквозь толщу годов прорвались ко мне эти дорогие фединские строчки. Но вместе с радостью я почувствовал смущение и чувство вины за прежние несправедливые суждения о равнодушии, о безответственности Федина. Ведь он же тогда просто не знал моего домашнего адреса (начинающие авторы, как известно, забывчивы на сей счет), оттого и не смог ответить!
ПЕРВОЕ ПИСЬМО
В 1959 году я отправился к истоку Волги, в деревеньку Волгино Верховье. Там, в сельмаге, купил добротные резиновые сапоги и пошел вдоль ручейка, который, едва родившись в подгорном болотце, уже назвался Волгой.
О своих хождениях по волжским берегам от истока до города Калинина я написал книгу «Верхневолжье». Выход ее чудесным образом совпал со статьей Константина Федина, напечатанной в газете «Советская Россия». Уроженец Саратова, истинный волгарь, Федин бросил с газетных страниц страстный клич – воспеть великую реку, эту становую жилу России. В своей статье он с молодой одержимостью мечтал о будущей книге и как бы воочию видел ее, созданную дружественными усилиями ученых и писателей, краеведов и художников…
Фединское призывное слово взволновало меня. Нахлынули раздумья, возгорелись творческие замыслы. Я вдруг решил: нет, «Верхневолжье» – это лишь начальный «запев» о могучей нашей реке, за ним последуют «песни» о средних и нижних плесах.
Как невольный отклик на статью, послал я Федину свое «Верхневолжье» и заодно письмо вложил в книгу: вот, дескать, отважился я, волгарь не по рождению, но по духу, создать серию волжских книг, а чтобы не было удручающей монотонности при описании всех плесов от истока до устья, «мобилизую» на службу дерзновенному замыслу все литературные жанры, и пусть-ка они, цепляясь подобно звеньям, составят цепь непрерывного и мозаичного повествования…
Вскоре пришел ответ.
12 января 1964
Дорогой Юрий Фомич,
получил Ваше «Верхневолжье» и недавно прочитал отдельные вещи из этой книги. Спасибо за нее.
Задумали Вы, как видно, нечто очень обширное, если на рассказы только об истоке Волги понадобилась целая книга. На весь замысел требуется по Вашему счету – десять. Это уже добрый Эмиль Золя, если не сам Бальзак.
Молодость смела – не ей отступать перед дерзостью фантазии. Поэтому – ни пера, ни пуха!
О книге.
«Многожанровость» Вашего письма должна, кажется мне, способствовать решению большой задачи. Прием благодарный, поскольку стержнем композиции служит лирика, которой насыщаются и прозаические отрывки, и стихотворные «резюме», обобщения различных мотивов.
Склонность к философическим выводам из наблюдений природы, к аналогиям между внешним миром и авторским «я» несколько напоминает пришвинскую манеру. Все дело здесь в том, чтобы не прибегать к такой форме выводов слишком часто, то есть не придавать ей механичности.
Словарь Ваш богат – ни у кого не занимать стать.
Не чувствуете ли Вы иногда нагроможденность определений? Я в подобных случаях вспоминаю знаменитый афоризм Вольтера: «Прилагательное есть враг существительного».
Ваша книга, конечно, самый приятный отклик из всех, полученных на мой призыв «воспеть Волгу».
Самым неприятным является то, что писатели и издательство «Советская Россия» вознамерились вовлечь меня в осуществление этой идеи о книге «Волга». Но это, конечно, обязаны сделать именно сами издатели, ибо от о р г а н и з а ц и о н н о й стороны дела зависит его успех или провал. Я не обладаю ни малейшей способностью организатора и не гожусь ни к такой роли, ни к тому, чтобы номинально «возглавлять» работу над этой книгой. Единственно же, что сделаю – это попытаюсь подтолкнуть образование инициативной ячейки, которая должна будет поработать над общим планом книги и созданием необходимой редколлегии ее.
Желаю Вам здоровья, успехов и всего доброго.
ДружескиКонст. Федин.
Дружеское, ободряющее письмо! И вместе с тем с какой деликатностью, точно опасаясь ненароком причинить боль авторскому самолюбию, К. А. Федин указал на мои чисто литературные погрешности. Он как бы давал мне почувствовать: перед дальней дорогой паруса авторского дерзания должны быть надежными, чтобы всегда их полновесно наполнял крепкий ветер жизни.
И СНОВА ОТКЛИК
Замечу: как ни окрыляюща была духовная поддержка многоопытного и доброжелательного писателя, какую радостно-упорную волю к работе она ни пробуждала, но муки творчества возрастали, ибо к ним еще прибавились довольно-таки едкие сомнения насчет композиционной прочности моего обширного замысла.
Согласно этому замыслу, неповторимость волжских плесов должна была как бы отбрасывать отсвет на каждую мою новую книгу и делать ее непохожей на предыдущую как по тону, так и композиционно. Если, например, в «Верхневолжье» лиризм автора-путешественника словно бы изнутри высвечивал жизнь встречных сел и городов, то уже в «Хождении за три моря», второй книге волжского повествования, прием был иной: автор здесь «самоустранялся» и передавал эстафету рассказа о преображенной реке самим волгарям – пассажирам старенького пароходика, который не спеша шлепал на плесе Калинин – Рыбинск, и те, прежде чем сойти на родной пристани, оставляли миру… разные затейные истории о Волге, о своем житье-бытье и, по существу, сами же творили книгу. Что же касается третьего произведения – «Века и плесы» (оно тогда еще писалось), суть его составляли записки двух путешественников – дореволюционного и нынешнего, причем оба повествовательных течения шли перекрестно, вперемежку и не столько контрастировали, сколько роднили прошлое и настоящее великой реки.
Так что же мучило меня? Мне казалось, что все написанные книги из-за разнобойной манеры не могут слиться между собой с естественностью волжских плесов, что я едва ли дотяну свою повествовательную цепь до волжского устья…
Тут явно требовался взгляд со стороны – взгляд заинтересованного человека. И как только вышло из печати мое «Хождение за три моря», я отправил книгу Константину Федину, а в нее, конечно, и письмо вложил со всеми думами-сомнениями.
Ответ был скорый, взволнованный.
Под Москвой5.VI.66
Дорогой Юрий Фомич,
пришла Ваша книга, хорошо названная, отчетливо напечатанная. Начал прочитывать – увлекся, и нет у меня ни капли сомнения, что вся она полна художнической мысли, оригинальности, основательного знания материи – полна любви ко всему человеческому.
Что Вас мучает? Разнобой манеры, в какой складывается триптих? Почему разнобой? Почему не разные ключи? Одна и та же тема разрабатывается музыкально в разных ключах.
Этот в т о р о й ключ, в котором написано «Хождение…», воспринимается живо, легко, в нем вольно дышится, и он убедителен. И с «Верхневолжьем» у него гораздо больше сродства, чем разноречья, представьте себе. Так что Вы не тревожьтесь и за манеру третьей книги, а спокойненько езжайте собирать в кузов грибы на четвертую…
Вот что я посоветовал бы Вам, Юрий Фомич: пошлите в редакцию журнала «Волга» (Саратов, набережная Космонавтов, 3) свою новую книгу – для «информации». А я напишу (теперь же), чтобы саратовцы отозвались о книге в журнале: есть там, кроме главреда Шундика, такая Е. М. Рязанова, член редколлегии, я ей и черкну.
Счастливого хождения по Волге.
Будьте здоровы!Конст. Федин.
Это письмо было для меня врачующим, оно утишило боль сомнений. А кроме того, растрогала деятельная забота Константина Александровича: он хотел, чтобы о моей книге узнало как можно больше читателей, он собирался оповестить о ее выходе саратовских журналистов! И он сделал это без отсрочки, буквально на следующий день после отправленного мне письма.
Такую подробность я узнал впоследствии «Из переписки с земляками». Она была опубликована во втором номере журнала «Волга», в феврале 1967 года, когда Константину Федину исполнилось 75 лет.
Вот что он, в частности, писал Е. М. Рязановой:
Другая книга – еще более примечательна [1]1
Впереди речь шла о книге Ю. Оклянского «Шумное захолустье». (Здесь и далее примечания автора.)
[Закрыть] . Это вышедшая в Ленинграде повесть-очерк или «жизнеописание» нынешнего и былого верхнего плеса Волги – Калинин – Рыбинск под названием «Хождение за три моря» отличного ленинградского прозаика Юрия Полозова. Его первая книга из задуманного цикла посвященных Волге повествований называется «Верхневолжье» (она вышла в 1963 г. в изд-ве «Советский писатель» так же, как и «Хождение»), Ее тема – уклад бытованья и метаморфозы нынешних (но и былых, разумеется) земель от истока Волги до Калинина-Твери. Всех книг будет несколько: автор отправляется сейчас по республикам народов Поволжья – к чувашам, марийцам, татарам…
И далее Константин Александрович высказал пожелание:
Мне хочется попросить Вас, дорогая Екатерина Михайловна, побудить редакцию журнала выступить со статьями (или, может быть, основательными отзывами) о книгах названных литературоведа и писателя.
Сделайте это дело – оно того стоит. Оба автора достойны внимания сугубо такого журнала, как «Волга». Книги выпишите от издательств. Впрочем, я написал Помозову, чтоб он послал редакции, да он скромен, боюсь – застесняется…
Вскоре журнал «Волга» отозвался на мою книгу деловой и основательной статьей критика Ю. Лейтеса.
«ПРОЗА НАША БУДЕТ РАСТИ»
Человек обязательный, К. А. Федин, несмотря на многозанятость, не оставлял без внимания бесчисленные читательские письма.
…В январе 1968 года я укрывался за Крымскими горами, в Ялте, от промозглой ленинградской зимы. Много работал и читал, особенно молодых тогда писателей – П. Проскурина, В. Белова, Е. Носова, В. Астафьева, Ю. Сбитнева… Сочная живопись их письма, глубинность проникновения в жизнь народную, свежесть извлеченных из нее людских характеров – все это наводило на мысль о надежном наращивании в русской прозе мощного плодородного пласта.
Кроме того, мне посчастливилось перечитать фединское мемуарно-художественное повествование «Горький среди нас». В нем силой пластического дара Константин Федин как бы вызвал из небытия своего друга и учителя – я ощущал «телесность» Алексея Максимовича, слышал наяву его глуховатый, окающий голос, ловил жадным взглядом его угловатые жесты…
Ялтинский Дом творчества, где я жил, почти безлюден в зимнюю пору – случается, что и поделиться не с кем мыслями о прочитанном. Но я не испытывал одиночества. Тысячеверстное расстояние не отдаляло от меня Константина Александровича. Сердечные письма его заставили меня поверить в его стойкое дружелюбие, во всегдашнюю его готовность откликнуться по-товарищески. И я излил ему душу в пространном и, помнится, очень мозаичном письме.
Когда я вернулся в Ленинград, меня уже «поджидал» ответ К. А. Федина.
18.2.1968,под Москвой
Дорогой Помозов,
спасибо за ялтинское письмо, за отклик на моего «Горького». Я всякий раз терплю припадок муки мученической, когда доходят до меня читательские отзывы на эту книгу. В издании «Молодой гвардии» милейшие комсомольцы умудрились расположить такое множество уродств корректуры, что с ним не поспорят все опечатки во всех моих книгах, вышедших за доброе ½-столетие. Виноват наполовину я сам, потому что, по крайней усталости, не мог вычитать верстку с былой своей добросовестностью…
Кстати: Ваши одобрения молодых авторов-прозаиков, обративших на себя внимание читателя последнее время, я разделяю, несколько знаком с некоторыми из них (Проскурин, Белов), и добавлю к ним… Василия Шукшина. Проза наша будет расти – это так. Признание этого утверждаться будет трудно, так как необычайно растет разновеликий наш читатель.
Теперь – к Вам просьба. Я не мог у себя отыскать адреса Алексея Яковлевича Гребенщикова (а может быть, и не записал его при знакомстве с Гребенщиковым в Карачарове). Но я пообещал прислать «Завещания – о книгах» Якова Гребенщикова – отца нового моего знакомца, славного библиографа Петерб. Публичной библиотеки, моего друга далеких 20-х годов. Я рад, что Ал. Як. оказался близким Вашим знакомым, и я хочу просить Вас – передать прилагаемое мое письмецо адресату.
Жму Вашу руку. Будьте здоровы.
И – счастья Вашим книгам – готовым и подготавливаемым!
Конст. Федин.
ВСТРЕЧА В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
Все последние годы я работал… с думой о Федине. Не раз я мысленно представлял, как бы он взглянул на те или иные главы новой книги из цикла волжских повествований. И признаюсь, тревожным холодком обдавало меня изнутри: не тороплюсь ли я в своих пеших хождениях по городам и весям, не сказывается ли такая, подчас резкая стремительность пешехода на ускорении ритма и, значит, пагубной беглости письма?..
Думы о Федине исподволь вызвали естественную потребность свидеться с ним.
Зимой 1969 года я приехал в подмосковное Переделкино и поселился вблизи дачи К. А. Федина, но тут дала себя знать необоримая робость, и расстояние в несколько десятков метров – от дверей Дома творчества до заветной зеленой калитки – оказалось почти непреодолимым.
Впрочем, лучше всего о волнующих переделкинских денечках поведают тогдашние мои записи.
* * *
В кайме узорчатых сосен белый платок квадратной поляны – Неясной, как она зовется.
Из-под тонкого наслоя снега – торчащие былинки конского щавеля, полыни, репейника…
Кто знает, может быть, степной этот простор, заброшенный в Подмосковье, напоминает Константину Федину родную Саратовщину; может, почудится ему иной раз, как метнется округлой порывистой тенью перекати-поле, царапнет по забору и притихнет.
* * *
Узнал в Доме творчества от медсестры – похварывает К. А. Федин, делают ему по утрам уколы, однако дело идет к лучшему.
* * *
Издали в погожий солнечный денек кажется фединский дом… смолкой-живицей, вытопленной из сосен: такой сочной и ясной желтизной он теплится, так органично вписывается в окружающий его ландшафт.
* * *
Пожалуй, уже началась пришвинская весна света!
Утром, при тридцатиградусном морозе, вершины деревьев еще вморожены в льдисто-колкую синеву, но к полудню, при солнце, мороз сдает. Тогда ели, прижав к стволам заснеженные лапы, четко острятся маковками, всем своим видом выражают взлетность. Сосны – те секут льдистый холодок ребрами лап и тут же подставляют их под солнце ладошами, ловят хвоистым сумраком лучи, впитывают их подобно губке. А какое преображение у берез! Размягшие на высоте, почернелые, гнутые их ветви как бы фонтанируют под солнцем, при ликующе-звонком теньканье синиц и деловитых постуках дятлов.
Видит ли, слышит ли все это Константин Александрович? Просится ли и к нему в грудь это раннее чувство весны?..
* * *
Позднью вечерней, мглисто-морозной, когда московское зарево над угольной чернотой сосновых лесов накалит небо докрасна, иду я краем Неясной поляны, вдоль плотного зеленоватого забора, из-за которого выбрасываются на дорогу длинные ветви лип.
Каждый вечер я натаптываю тропу вблизи тихой фединской дачи. Чувство какого-то дружеского, томящего беспокойства притягивает меня к ней. И если я не увижу теплого розоватого свечения верхнего окна, сердце сожмется: опять недужится Константину Александровичу, опять небось отлеживается в сумрачном уголке, наедине с невеселыми стариковскими мыслями, – ведь нынче, в феврале, ему 77 исполнится, шутка ли!
* * *
Почти физически ощущаешь излучение неких частиц, заряженных творческой энергией Федина, которое исходит из верхнего освещенного окна его дачи. Думаешь: человек, годами преклонный, работает самозабвенно, по 16 часов в сутки (свидетельство литературоведа Б. Брайниной), а ты празден, беспечен… И – спешишь, спешишь к письменному столу!
В мою привычку вошло… осведомляться каждое утро о самочувствии Константина Александровича.
Сегодня молодая улыбчивая медсестра, как бы одарив его частью своего розовощекого здоровья, сообщила на радостях с какой-то звонко-весенней певучестью синичьей:
– Лучше Константину Александровичу! Уже в город ездил!
* * *
Считанные деньки остаются до отъезда, а я так еще и не решился дать о себе знать…
Чем вызвана моя робость? Совестливым ли сознанием причинить беспокойство человеку, который болен… и так мало принадлежит себе, своей работе, ибо сколько людей желает, чтобы он прежде всего принадлежал им? Или же сковывает мою решимость щекотливая боязнь предстать перед мудрым всевидящим оком Федина, которое высветит тебя до донышка?..
Да, скорее всего, я страшусь проницательных голубых фединских глаз. В кабинете директора Дома творчества висит акварельный портрет Константина Александровича: вскосмаченные брови как бы под напором вылетающего прицельного и неотразимого взгляда, заветная трубка, сизый плотный дымок, который, однако, не в силах затуманить прострельную мощь взгляда, сгустившего в себе, казалось, целеустремленность всего существа, его напряженную готовность познать что-то еще непознанное.
Ветер с ледяным свистящим гулом скорого поезда проходит сквозь промороженную хвою сосен…
Неспроста вырвалось это слово – «поезд»! Вот уеду – и век буду казниться, что не повидал Федина.
Рукой, не верной мне, а подчиненной, кажется, воле самой судьбы, вывожу одну-единственную строчку:
Дорогой Константин Александрович, был бы очень признателен, если бы Вы предоставили мне счастливую возможность повидать Вас хотя бы 2—3 минуты.
Записку эту согласилась передать медсестра, тут же сказала уверенно:
– Завтра же он ответит вам.
* * *
День прошел в ожидании, в некоем даже страхе перед возможным отказом во встрече. Потом все примирила мысль: да, самочувствие Константина Александровича не позволит принять меня!
А утром – легкий стук в дверь моей комнаты, улыбчивое лицо медсестры, синеватый, словно в добром отсвете подмосковного неба, конверт в ее протянутой руке…
Нарочно медленно, чтобы отдалить чтение, вынимаю вчетверо сложенный листок, еще, кажется, медленнее разворачиваю его – и взгляд, будто магнит, разом притянул размашистые строчки:
Дорогой Юрий Фомич, буду рад повидаться с Вами! Приходите сегодня, 5 февраля, в 8 часов вечера. Заметьте: щеколду надо приподнять (не нажимать книзу). Собачьего племени на участке нет.
Жду. К. Федин
* * *
Ветреный вечер 5 февраля.
Вверху – луна, быстрые тучки, стирающие с нее позолоту; внизу, на поляне, в самом деле Неясной, – скользкие пробежки дымчато-грязных теней и голубовато-блестких пятен острого морозного света, их мелкая и уже совсем смутная зыбь где-то там, за овражком, у сосновой вскидистой гривы.
Метет с поляны сухим скрипучим снежком. У зеленой калитки – хохлатый сугроб. Давлю его ногами, приподнимаю щеколду, как советовал Константин Александрович, кверху и вхожу в затишек просторного двора в теплом, уютном свете окон.
Сердце колотится хлестко. Стараюсь ни о чем не думать – и тревожно мне, и хорошо от этой тревоги доброго ожидания.
* * *
В яркой прихожей, к тому же подсвеченной длинным, от пола, лучистым зеркалом, меня встречает дочь Федина – Нина Константиновна, все с теми же улыбчивыми глазами, которые запомнились по семейной фотографии, помещенной в книге «Творчество Константина Федина»: там сидит она в белом платьице, сложив загорелые руки на крепких коленках, – озорная, судя по улыбке, девочка, однако покорно притихшая под большой и доброй отцовской ладонью, легшей ей на голое плечико.
Я называюсь. Мы ведем удобный для незнакомых людей разговор о погоде – о постоянстве ядреных нынешних морозов.
Вдруг – легкий скрип, и я, подняв голову на звук, вижу, как по крутой лестнице, словно бы вонзенной в потолок, бесшумно, с каким-то осторожным и вместе смелым изяществом спускается в матерчатых тапочках, в черном джемпере улыбающийся, ослепительно седой Федин. Я почти физически ощущаю у своей щеки касание его приветственной улыбки; я вижу добрую прищурку приглядчивых стариковских глаз и то, как эти глаза внезапно распахиваются и словно предлагают мне, смущенному, войти в их волжскую синеву, как в родную для меня стихию.
Удивительны фединские глаза! Своей синью они будто бы и тебя бодряще освежают, и самого хозяина чудесно молодят. Ласкова его улыбка, спокойны и точны движенья.
– Здравствуйте, Юрий Фомич, здравствуйте, – отчетливо бархатистым голосом произносит Федин еще там, на высоте ступенек, но я, обласканный и ободренный, уже кидаюсь навстречу и сразу обеими руками пожимаю протянутую руку Константина Александровича – большую рабочую руку с широкой, твердой ладонью.
– Идемте-ка, знаете, ко мне наверх, – по-домашнему просто предлагает он, – там и поговорим, и поужинаем.
С этими словами он легонько подергивает зажатую в моих руках ладонь, но не для того, чтобы высвободить ее, – нет, он, гостеприимный хозяин, точно бы подтягивал меня, увлекал за собой ввысь, в свою творческую мастерскую, с тем заветным верхним окном.
* * *
Есть кресла, которые студят клеенчатым холодком, норовят подтолкнуть тебя сзади какой-нибудь озорной до нахальства пружиной, дабы ты, гость, подолгу не засиживался. Но это коричневое, с чуточку притертыми подлокотниками кресло, прислоненное бочком к старинному письменному столу, как бы вжимало вглубь, словно даже пыталось погрузить тебя не только в свой мягкий уют, а и в самую атмосферу творческой жизни, закипавшей здесь, в кабинете, при счастливом одиночестве.
Век бы не вставать с этого доброго кресла!
– Ну-с, рассказывайте, Юрий Фомич, как ваша Волга движется, скоро ли к последней пристани причалите?
– Потихоньку движется, Константин Александрович: запруд на пути много. Но все же бросил якорь уже у Волгограда.
– Ого! Теперь, видимо, последует обширная книга об этом славном городе?
– Роман буду писать о сталинградцах. Нынче ведь все романы пишут, вот и я решился.
– Что ж, роман давно уже стал центральным жанром литературы, поэтому писательская тяга к нему закономерна. Да и где вы можете дать такие развернутые картины действительности, перейти к столь широким обобщениям и вообще не спеша осмыслить нашу историю, как не в романе. Так что дерзайте!
– Хочу, знаете, вдохновиться толстовской размашистостью, его въедливостью в жизнь.
– Да-а, Толстой… Он никогда не старится. В одной из своих статей я, помнится, писал, что толстовский источник бьет неиссякаемо в русской литературе, и мы снова и снова припадаем к нему, и нам кажется, будто мы еще никогда не пили такой чистой, прозрачной и свежей воды. Можно сказать смело: толстовская традиция подспудно лежит в нашей литературе, от нее идет все лучшее. Учитесь у Толстого! Только помните: открытия бывают там, где кончается знание учителя и начинается новое знание ученика[2]2
К. А. Федин имел обыкновение цитировать или пересказывать заветные мысли из своих статей о литературе.
[Закрыть].
* * *
Заметил: в минуты волнения Константин Александрович вдруг съежит лицо, сощурится, сведет к переносью ощетиненные брови – и тут же, округлив глаза, раскрылив эти серебристые, пробитые черным волосом брови, выбросит ярко-синий, молодой взгляд, казалось, из глубины души.
– А вы читали, Юрий Фомич, книгу «Легенды и были Жигулей»?.. Молодцы куйбышевцы! Получилась у них, представьте, хрестоматия волжской жизни.
– Я еще верстку читал, будучи в Куйбышеве. Вскоре написал рецензию в «Литературную Россию»: вот, дескать, куйбышевцы первыми откликнулись на фединский призыв «воспеть Волгу», теперь дело за вами, астраханцы и саратовцы, горьковчане и ярославцы!
– А вы не прислали мне рецензию?
– Да как-то не догадался…
– Жаль, жаль!
* * *
Он мог бы сесть в кресло напротив меня – это придало бы нашей беседе еще большую доверительность. Но я понимаю: простенький стул с подушечкой, священное место мастера у письменного стола, влечет его бессознательно, неодолимо, он не мыслит и часа прожить, чтобы не врасти в него всем своим существом, – именно врасти, ибо сидит он, вжав голову в плечи, по-орлиному нахохлившись, весь как бы вобравшись внутрь себя, нагнетая энергию духа для броска в новую, незнаемую творческую высь.
Невольно припомнились его крылатые слова: «Я отдаю всего себя искусству, как боец отдает жизнь».
Несколько месяцев назад я закончил новую «волжскую» книгу – о саратовских плесах.
Создана она из отрывистых путевых записей, с виду будто бы и хаотичных, на самом же деле нанизанных на острие внутреннего, или, как еще говорят, подводного, сюжета. Но все-таки не радость свершенного испытываю я, а какую-то смутную давящую неудовлетворенность… и хочется доверить все тревоги Константину Александровичу, под обаянием его терпеливой и участливой вдумчивости.
– Чувствую, тороплюсь я, как путешественник, который устал в дороге и соскучился по дому, – признаюсь я. – К тому же побаиваюсь: едва ли меня одного хватит на всю Волгу. Уж лучше бы, пожалуй, составить из всех книг одну…
– Это что ж, наподобие Библии, вроде некоего фолианта? – усмехается Федин и обжигает меня синим холодком из-под обвисших бровей. – Нет, вы уж продолжайте свою волжскую эпопею. А в одну книгу всю реку-богатыршу не втиснешь – куда там! Она широко и вольно вошла в жизнь России, так пусть и ваш замысел не утрачивает широты.
* * *
Меня волнует ленинская тема в нашей литературе. Сама Волга, прихлынув к Ульяновску, привела меня к раздумьям о Ленине и вдохновила на создание рассказов о его детстве и отрочестве на береговых кручах знаменитого симбирского Венца. Я сделал попытку изнутри раскрыть характер Володи Ульянова, вперекор распространенной манере рисовать его внешним, то есть описательным штрихом, и я был огорчен, когда мое благое стремление не нашло поддержки ни у редакторов, ни у большинства писателей, причем один из них заявил упрямо, непререкаемо: «Еще не пришло время изображать вождя… через его мироощущения».
– Но ведь это же полное отступничество художника! – горячо исповедуюсь я. – Есть только один путь для глубинного раскрытия характера – путь всепроникающего психологизма. Почему же надо ему изменять при изображении Ленина?









